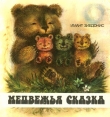Текст книги "И лун медлительных поток..."
Автор книги: Геннадий Сазонов
Соавторы: Анна Конькова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Апрасинья посадила всех женщин за работу. Ножами скребут они шкурки, сдирают мездру, мнут и сушат шкурки, и те уже отсвечивают драгоценным ворсом. Уходила Апрасинья в бор к заверованным деревьям и у корней неохватной березы разводила костры, приносила жертву добрым Духам леса, трав и воды. То белого петуха принесет редкого, то овечью шерсть, то беличьи тушки. Все пожирает огонь, но молчит.
– О Белый Светлый День! О Великое Небо… и ты, Сим Пупий – Милый Шайтан! Вы видите, как я хочу, чтобы не купленной, не проданной пришла к моему сыну женщина Околь, – страстно заклинает Апрасинья, – не спутанной по рукам и ногам. Не хочу, чтоб стала она брошенной под мужа женщиной. Боже небесный! Шайтан земной! Дайте Тимохе женщину Околь, как подругу дайте, как опору в жизни. Если баба приклеится к мужу или мужик к бабе – это еще не любовь, то страх одиночества. Маленькая жизнь – в маленьких ожиданиях.
Через зиму заторопилась Апрасинья за невестой сыну.
3
Все осталось прежним. Светились лампады перед черными досками в комнате Федоры. Грохотала сапогами одуревшая от вина растрепанная Манюня. Бесплотной тенью, летучей мышью повисла над шитьем Лукерья. Только Околь стала краше, глазастей и крупнее, но не слышно ее песен, легких, как ветерок над ягодной поляной.
Вокруг постоялого двора на вороном, как уголь, жеребце кружил Тимофей. У жеребца полыхал глаз, у Тимохи полыхало сердце. Увидела его в окошке Околь: «Кто?»
Сгрудились тетки вокруг Апрасиньи.
– Сговор ли остался? – торопливо спросила Апрасинья.
– Нет! – ответила Федора. – Порешили мы отдать Акулину за гаринского ямщика Григория. Держит он ямщину. Постоялый двор у него по Гаринскому тракту.
– Не пойду за него! – заливается слезами Акулина. – Вы посмотрите, милые тетушки, как он коней своих держит, а они ведь ему жизнь дают! У его коней сердце разрывается на бегу, дохнут от непосильной работы. Не отдавайте меня за него! – взмолилась Околь.
– А как же уговор? А как же лад? – растерялась Апрасинья. – Обман?
– А кто видел? А кто слышал? – взвилась Федора. – Кто знает, что сговор был с туземкой? Да в нас в Пелыме плевать зачнут, когда узнают, что дикому охотнику такая красота достанется. Не ровня мы!
Околь вышла на улицу, и здесь увидел ее Тимоха, увидел и обомлел. Тимоха, обтирая рукавицами угольно-черного жеребца, смотрел на нее с таким восторгом, что Околь невольно улыбнулась.
– Ты откуда? – сверкнула белыми зубами Околь. – Не из Евры?
– Да, – проглотил жесткий комок Тимоха. – Там живу… – И шагнул к Околь, потянул за повод жеребца.
– Ты – охотник, Тимофей? – окинула взглядом Околь крупного парня в короткой расшитой малице, затянутой широким кожаным поясом. Пояс украшен пятью медвежьими клыками, рысьим когтем и волчьими зубами – только разве понимает Околь, почему украшен пояс клыками. Три ножа свисали с пояса, трубка и расшитый бисером кисет. Из-под рысьей шапки, отороченной куницей, на Околь неотрывно, зовуще и восторженно смотрят горячие, диковатые глаза.
– Я… я Тимоха! – загорячился юноша. – Мать моя – Апрасинья, Журавлиный Крик, в сговор вошла. А ты?! Ты, наверное, Ворнэ – Лесная Женщина?
– Акулина я, – тихо, сквозь слезы засмеялась девушка. Не испугал ее порывистый, неловкий и красивый юноша охотник. Вовсе не дикий он, не страшный, и пальцы без звериных когтей. Но он ей совсем чужой, далекий, и не такого Тимофея ждала Акулина, и почему-то в снах, в девичьих грезах он виделся высоким, тонким и, наверное, все-таки русским.
– Калым за тебя привезли, – заторопился Тимофей, сорвал с себя шапку, и черные прямые волосы упали на плечи. – Выходи за меня, Околь! Всегда будет гореть огонь в моем чувале! Всегда будет еда в твоей колташихе!
Вот, вот оно наступило, вот оно зацвело и назрело, то золотое времечко, когда тебя, девушка, так любовно задыхаясь, в жены зовут. Зовут! Ждала и поджидала, но все не то, и все не так… О господи!
– Как тетушки порешат, – грустно ответила девушка. – Не вольна я… – И подошло здесь, нахлынуло, захлестнуло ощущение полной своей беззащитности и немоты. Околь охватил страх, стреножила тоска, и беззвучная буря ворвалась в нее и, раздирая корни, корешки, что крепили ее к прежней жизни, опрокидывала гнездышки больших и малых привязанностей.
– А если не отдадут? – испугался Тимофей.
– Не хотят они за тебя, – опустила глаза девушка. Она и сама не хотела, не верила, что тетки отдадут ее за евринца, и обидно ей было, что при ней начали торг, и стыдно, и горько.
– А ты?.. Ты?! – рванулся к ней Тимофей.
Околь подняла длинные ресницы, полыхнула взглядом, вырвала руку и отвернулась.
– Господи! Господи всемогущий! Спаси меня… – невнятно шептала Околь. Потускнели глаза девушки, и увяли губы. Что делать? Ведь этого мужчину она должна любить, ласкать, уважать, ему должна повиноваться, а кто он для нее?
– Я украду тебя! – крикнул Тимофей и вскочил на жеребца. – Смотри, как ветер он… Не бежит, а глотает тропу…
4
А тетки вели с Апрасиньей горячее торжище. Апрасинья и Мирон развязывали мешки и сумки, открывали берестяные коробки и бросали под ноги женщин легкие сверкающие меха, куньи шапки, разворачивали голубовато-дымчатые беличьи шубы. Разгорелись, зажглись глаза, затряслись у теток руки, вытянулись шеи – такое невиданное богатство! Это же царский выкуп, да за простую девку! И увидела сейчас Апрасинья Журавлиный Крик, выглядела она сейчас до самого донышка мелкость душ рублевских теток. Их крючило-корючило от жадности, и не просто жадности, а какой-то звериной, долго скрываемой, неутолимой алчности. Они обнюхивали каждую шкурку, мяли когтистыми пальцами, а у Манюни не коготь, а копыто, перебирали ворсинки, разглядывая тонкие, едва заметные швы лыенъях – беличьей шубы. Апрасинья нутром почувствовала, что тетки станут торговаться до последнего дыхания, до капельки, пока обескровят ее, пока не выманят лишнюю шкурку, ворсинки которой еще дрожат напряжением изнурительной погони. Ладно, пусть так! Она ведь сможет… неужто она не сможет посмотреть на них взглядом Волчьего Глаза! И она напряглась, вызвала в себе ту силу, которой нечаянно одарила ее земля.
Несколько раз тетки швыряли на пол драгоценные меха, заламывали руки и закатывали глаза.
– Нет! Мало! Ты погляди, какие у Околь титьки! – Девушка молча стояла в углу под иконами, и Федора, крутила ее и тормошила. – Гляди! Слепая ты баба! Я тебе не гниль отдаю… – и хлопала Околь по широким бедрам. – Ты это хоть видишь?
Лукерья шмыгала утицей-подранком между сестрами, верещала тоненьким голоском:
– А мастерица она! Мастерица… Руки у нее как бабочки. Так и порхают, так и порхают!
«Вот для чего растили меня?» – как-то отрешенно, будто о другой, протянулось в Околь и мгновенно погасло. Застыла она.
– Эх-их! – басит Манюня. – Давай пять денежек, и дело с концом. Не девка, а кобылица. Из нее ребятишки посыплются, как морошка из лукошка. Эх-ма! – И ставит на стол Манюня посудину с вином. – Выпей, Апрасинья, отогрей душу!
Несколько раз тетки запихивали пушнину в мешки, несколько раз выбрасывали и пересчитывали, натягивали на себя шубы, напяливали шапки, но Апрасинья не сдалась. Молча следила, потягивая трубку, и грозно отсвечивала глазами.
Мокрые, распаренные тетки свалились на лавки. Тяжело дышали.
– Ладно, грабь! – решила Федора и тоненько завыла. – Отдам тебя, бедная девушка, в чужую семью, в чужую землю… ай-аю… Станешь жить в берлоге, да темной – со лютыми зверями, с тараканами да клопами. – И полились слезы ручьем из глаз Федоры.
Манюня подмигнула Мирону, хлопнула по плечу Апрасинью и, притянув за руку, посадила рядом Акулину. Хриплым голосом повела, словно поземкой, чудную песню:
– Кунья шуба, не попыхивай, ты, Тимоха, не поздыхивай, – и вдруг оборвала: – Игде жених? На дворе… А ну давай его сюда!
Медведицей вывалилась Манюня во двор, схватила Тимоху за пояс и потащила в избу. Вытолкнула его на середину комнаты, подвела Акулину и, кашлянув в кулак, просипела:
– Вот тебе, Тимоха-женишок, невеста. Вот тебе писаная красавица Акулина. Отдаем тебе ее из рук в руки. Сердце из себя вынимаем.
Тимоха осторожно дотронулся до руки Околь, та была холодна и висела, как сломанная ветка.
– Ты – моя?! – выдохнул Тимоха.
– Твоя! – рявкнула Манюня. – Твоя станет, когда в бане помоешься да в церкви обвенчаешься, понял? По закону! – И, раскрыв рот, затянула:
Кунья шуба, не попыхивай, ты, Тимоха, не поздыхивай!
Наша-то Акуля не хуже тебя:
Она ростом поменьше, да умом подороже,
Она костью поскладней тебя! Белым лицом побелей тебя!
Наша-то Акуля и не пара тебе.
Тебе-то пара – во дворе свинья полосатая да с поросятами.
– Какая свинья? Какая такая свинья? – не может понять Апрасинья. Мирон молча кладет руку на плечо жены, но оно каменеет – неподкупна сейчас Апрасинья.
– Песня такая, – отмахнулась Манюня. – Жалостливые песни надо петь, когда девка под венец идет. Вот, до церкви.
– Не пойду! В церкву не пойду! – взбычился Тимоха.
– Без церкви только собакам можно! – отрезала Федора, глядя мимо Тимофея, и лицо ее – власть. – Без церкви только зверь зверенышей рожает.
– Пойдет… Пойдет он, – заторопился Мирон, и Апрасинья ласково погладила его руку. – Молодой он, боязно ему. Его поп в Евре в чуман бросал, водой тоже брызгал. А в церковь не ходил… Молодой еще. Клистос нам не помеха! – твердо сказал Мирон. – Пусть он живет в той душе, где найдет место.
– А ну, Мирон, ставь вина! Угощай! – размахнулась Манюня. – Очень я даже довольна калымом! Как за барыню взяли. Эх-ха, темные вы души! – рявкнула Манюня.
И три дня без просыпа шла гульба, и три дня, падая и поднимаясь, хвастались друг перед дружкой – тетки нахваливали невесту, а Мирон с Апрасиньей – Тимоху. А потом, как в тумане, была церковь, и свадебный русский пир, и дальняя для Околь дорога.
Обернул ее Тимофей Картин в соболиный тулупчик, свистнул на всю улицу, и рванулись вороные длинногривые кони.
Страшно, одиноко и горько стало Околь, когда скрылся из виду посеревший от времени дом теток. Жестяной петух на трубе в беззвучном крике распахнул крылья. В ноги коней бьет полуденная поземка. Заячий след петляет в обледенелых тальниках.
– Не пускай в себя страх, Околь, – успокаивала ее Апрасинья. – Судьба метит слабых. Тебе отпущен долгий век – так говорит мне сердце.
Журавлиный Крик
1
Заботой окружила Околь Апрасинья, берегла, не ломала в грязной работе. Обучала тонкому шитью и древним узорам, подолгу рассказывала о своей земле, о народе сосьвинских манси, о евринцах, об их обычаях и законах.
Как только Апрасинья привезла Околь, вся Евра от мала до велика пришла смотреть на чужачку, что перешла дорогу своим, местным девкам.
– Смотреть надо! – перешептывались женщины. – Смотреть многими глазами, каку таку девку отыскала Апрасинья. Кака така красавица нельмушка?
– А може, не красавица? Зачем Апрасинье лебедица? Она, поди, такую же шаманку, как сама, отыскала. Сколько зим и весен слопец на девок ставила и выловила Вор-Люльнэ – Лешачиху! – хихикнули евринские бабенки, что послабее умом и с легкими языками.
– Вы-ло-ви-ла Вор-Люль-нэ?! – прошептали пораженные вдовицы. – Неужели она перевернуться может в рысь или вывернуться наизнанку? Щох-щох! Чего она, слаще, что ли, ежели грамоту знает?!
– Она ведь под юбкой короткие штаны носит! – с притаенной гордостью отвечала старшая дочь Апрасиньи.
Шли по Евре пересуды, пробегали, как легкий ветерок, но, увидев Околь, бабенки затихли – что-то было такое в нетронутой чистоте девушки. И еще замечено было: сквозь легкую грусть словно бы проступает боль. Почему? Отчего? Что еще девке надо? В такую семью добрую попала! Сыта будет всегда, не погаснет огонь в чувале, а над огнем в большой колташихе всегда варится мясо. Чего ей еще надо – ну поколотит ее разок-другой Апрасинья, поди, не убавится.
На свадебный пир позвала Апрасинья всю Евру.
– По-русски гуляли, под гармошку. В церкву возили, мужик бородатый здорово ревел. Теперь по-своему, по-мансийски пир справим, – повеселела Апрасинья. – Люди, идите на пир!
Вот здесь, на пиру, и увидел Околь хмурый и как будто угасающий Ондрэ Хотанг. Ондрэ Хотанг оставался одиноким, как волк с поломанной челюстью, и одиночество горело в его ночных глазах. О бог ты мой! Как давно у него не было женщины, он забывает биение и трепет женского сердца, ее путаное, сонное дыхание, разбросанность обнаженного тела! Как хочется ему женщины, и это острее ножа, пронзительнее иглы, что вонзается в глаз, это оглушительнее грома над сонной туманной старицей и страшнее рева медведя на медвежьей свадьбе. И хотя ему очень хотелось женщины, он, Анджей, не мог позволить себе, поляку, шляхтичу, европейцу, снизойти, опуститься до евринской женщины. Не мог! И не сможет! Не заставить себя, хотя он ясно понимает: ему с его чахоткой отсюда уже не уйти… Женщины Конды и Евры казались ему забитыми, темными, жалкими существами, грязными, пропахшими насквозь рыбьим жиром и звериными шкурами. Темные, примитивные туземки. Разве о такой женщине мечтал Анджей, все восставало в нем, хотя так ему хотелось женщину…
Но эта, что сидела рядом с лоснящимся от счастья Тимофеем, вдруг потянула к себе, позвала грустной улыбкой, томящей острой тоской. На столах хмельно и круто пенилась брага, из берестяных туесов лилась огненная вода. Густой пар поднимался над громадными кусками сохатины, баранины и над широкими корытами с вареной, и жареной, и печенной на вертеле рыбой, над овсяным киселем и чаем, гремела посуда, звякали ножи. Невообразимый гул поднялся над пиршественными столами. Кто-то пьяно перебирал рокочущие струны священного «лебедя», кто-то бренькал на трех струнах «гагары», дул в берестяную трубу.
Поднималась над столами и рвалась песня, падала подстреленным глухарем. Но ничего не слышал Ондрэ Хотанг, не отрываясь, будто утоляя жажду, смотрел он на Околь, которую обнимал и тискал потный от вина, хмельной от счастья фартовый охотник Тимофей. Но отчего так потянуло Анджея к Околь? Ведь не красота, ведь не тонкая, чеканно выпуклая азиатская красота, упругая, и таинственная, и неразгаданная, потянула в себя Анджея? Ведь не только оголенное, откровенное желание женщины заставляло содрогнуться его, напрячься до такой боли, что хотелось кричать и рвать себя в клочья?
– Боже мой, как она одинока! – шептал поляк. – Она же замерзает, она леденеет от одиночества. Она заживо умирает, исподволь входит в свое одичание!
– Глядишь в девку?! – даже вздрогнул Ондрэ, когда над ним наклонилась разгоряченная Апрасинья. – Незамутненная! – выдохнула она и пошатнулась, плесканула водкой из берестяного ватланчика, налила полную чарку. – Пей, оторванный от своей земли! Пей! – приказала хмельная, довольная пиром Апрасинья. – Она, Околь, ведь грамоту знает.
– Гра-мо-ту зна-е-ет? – поразился Ондрэ.
– И в Христа верит! – как-то заносчиво, горделиво подчеркнула Апрасинья. – Две веры в ней. Еще не пойму, худо ли это али добро!
– В Христа верит? – переспросил Ондрэ. – Искренне верит или просто за кем-то повторяет?
– А ты пошто так глядишь на нее? – хоть и пьяна была Апрасинья, но оставалась настороженной. – Так глядеть худо! Так ворона смотрит в чужое гнездо!
– Ты видишь, Апрасинья, у нее шевелятся губы, – дотронулся Ондрэ до плеча Апрасиньи.
– Она, наверное, поет?! – недоверчиво вглядывалась в Околь Апрасинья.
– Нет, – грустно и тяжело ответил поляк. – Она молится своему богу.
– Пусть, – жестко и трезво отрезала Апрасинья, – каждый по-своему прощается с детством, каждый по-своему входит в омута жизни.
2
Привыкла Околь к мужу и незаметно так привязала его к себе, что Тимофей подолгу не отлучался из Евры; нет, не боялся – пропащим считал день без Околь. Привыкла она к братьям, сестрам Тимофея, к Евре, евринцам, к их непонятным обычаям и законам. Но оставалась она по-прежнему скованной и нераскрытой, как затянутая смолой кедровая шишка, где под жесткой чешуей в теплой темноте молочно наливается орех. Будто она нарочно не хотела быть замеченной, не хотела привлечь к себе чье-то внимание. Вдруг застывала на месте, отрешенная от всего, не слыша, что ее окликают или о чем-то просят. Или бродила по двору молча и напряженно, уходила в лес, глядя в тревожный, длинный, дымный закат. Апрасинья внимательно следила за невесткой, не лезла напролом в ее непокойную душу. Как ни пыталась она понять Околь, не смогла. А Тимофей ничего не замечал. Он словно растворился в Околь – собственной, цельной, без изъяна, красивой женщине, которую он может взять, когда ему угодно – хоть утром, хоть в горячий душный полдень. Он еще не верил тому, что вся она его – от бровей и до пяток.
– Ты знаешь, какая моя баба?! – хвастает Тимофей перед мужиками. – О, я на нее, как в облака, падаю и лечу… Ой! Как я лечу! И она подо мной как утка на волне покачивается.
– На первых порах она вкусна, как стерлядка! – поддакивают евринцы. – Но и с нельмы на ершишку тянет. Бывает просто невмоготу как ершишку поесть охота…
– Ты, Тимоха, не больно-то сказывай, какая она у тебя наваристая, – поддразнивали его мужчины постарше. – Уйдешь в урман, кто-нибудь с ложкой придет похлебать из твоей колташихи! Смотри, парень!
– У меня глаз острый. С зубом у меня глаз, – отмахивается Тимофей. – Однако побегу, – торопится Тимофей. – Маленько мне бабы захотелось!
– А чего ему, – рассудили мужики и набили трубки. – Два пуда соболей отдал? Отдал. Теперь калым маленько себе возвращает.
Апрасинья видела, что это уже не прежняя, жизнерадостная, чуточку игривая Околь, что затускнела она, хотя к ней не дотронулись ни хворь, ни дурной глаз. Тоска? Какая может быть тоска, когда столько дел? Нет, Околь не очень-то тосковала о Пелыме, там не осталось подруг. Она редко вспоминала теток: разглядела их во время сватовства – торговли и продажи. Не осудила их, хотя было ей горько, стыдно, противно, ведь так делали все, всегда, из века в век, и везде, пусть не так обнаженно и открыто. Ведь они о ней заботились, холили ее лишь затем, чтобы подороже, хорошо продать. И Околь задумалась, чем же она должна расплатиться. Ведь она должна расплачиваться безмолвно и безответно. А за что? За кусок хлеба, за кусок тряпки, за кров над головой? Значит, она навсегда, насовсем останется в этой деревушке, на этом берегу, в этой многолюдной, в общем-то дружной и неплохой семье, которую держит в руках Апрасинья – Матерей Мать. Но чего Околь хотела? Чего бы она желала? Она искала в себе, пыталась найти, но то неуловимо ускользало, ведь она хотела сделать в жизни что-то сама, пусть крохотное, но свое, и теперь она не сможет. За нее уже все решено. Немного она прочитала книг, да и то божественных, но из них, а также от проезжих людей на шумном постоялом дворе она узнала, что мир велик, населен разными народами, что человек рождается в уготованной судьбе, и та дается ему свыше, и что всем миром владеет божья воля – могучая, но справедливая. И ей хотелось познать бога и через него познать смысл человеческого бытия – стоит ли человек красоты, должен ли он трепетать перед Жизнью, или погрузиться в нее, или бросить ей вызов?
«Зачем? Для чего я родилась? Стать женой? Стать женщиной? Стать матерью? Много ли этого или мало? Если много, то сумею ли все это? А если мало, то должно быть что-то еще. А что? Все повторяется из года в год – все наполнено жизнью. Но почему так все удивляет?»
– Садись и ешь! – приказывает Апрасинья. – Наверное, Лесной Дух разум твой мутит. Худо, когда женщина много думает, в пропасть заглядывает. Может, Тимофей тебя обижает?
– Нет, Тимофей не обижает, – кротко ответила Околь.
– Не привыкнешь к нему? – настойчиво допытывается Апрасинья.
– Нет, привыкаю понемногу, – тихо ответила Околь. – К Евре не совсем привыкла… Все здесь по-другому…
Насторожили Апрасинью слова Околь. И стало обидно, что Околь не может принять ее мир, мир вольной воли, мир таежного безбрежья и неразрывности всего живущего.
А тут еще повадился в дом Картиных погруженный в себя, все так же надсадно кашляющий Ондрэ Хотанг. Он достал у купцов твердую, как кора, бумагу, достал краски и карандаши и ходил по домам, рисуя старух и стариков, ребятишек, одежду, утварь. Евринские женщины понемногу, но все еще осторожно показывали ему своих детей, и он прикладывал к их спинкам трубку и слушал. Что он слышал, никому не известно, но порой лицо его становилось таким печальным, что матери выхватывали детей из его рук и уводили.
Но больше он рисовал – и Чейтметовых, и Лозьвиных, и Кентиных. Рисовал Мирона и Тимофея, но никак он не мог нарисовать Апрасинью. С листа бумаги из тонких штрихов, черточек, полос, царапин и размазанных, струящихся пятен гляделось, туманно проступая, властное, словно окрик, лицо и горящие, пронзительные глаза. Они глядели прямо в тебя, глядели насквозь и обнажали, и холодно, жутко было от этого взгляда. А с другой доски уже с похожего, тяжелого лица Апрасиньи глаза струились непонятным покоем и лаской.
– Нарисуй мне Матерь божью! – попросила как-то Околь. – И расскажи мне о ней, Ондрэ. Ты говоришь так хорошо.
И Ондрэ Хотанг, вглядываясь в лицо Околь, писал земную женщину, еще не родившую бога, писал женщину, что носит ребенка под сердцем, женщину в предчувствии материнства.
– Тебя нужно писать лунным светом, – шепчет Анджей, бросая мазки на гладкую доску. – Писать майским дождем, раскрывающимся листом, распускающимся черемуховым цветом… Тебя, Околь, может передать только любовь и надежда…
Апрасинья всмотрелась в картину, едва узнала Околь в девушке неземной красоты, уперлась взглядом в Ондрэ и угадала его тоску и смятение.
– Эта женщина не для тебя, Ондрэ Хотанг!
3
Пришло время, и Околь родила сына. Испугалась вначале, закричала тонко и растерзанно, а потом, увидев крохотное живое чудо, закричала от радости. И расцвела она. Запела как птица, сменившая перо, засияли ее глаза – из глубины их пролился теплый золотистый свет. Сразу покрупнел Тимофей и бережно брал ее в руки – пай в реке и пай в лесных угодьях принесла Околь.
Промелькнуло лето, коротко проползла осень, отшумели зима и ледоход. С грохотом треснули льдины и, крутясь, понеслись по реке. Унесла та весна Ондрэ Хотанга, сгорел он от чахотки. А Околь принесла второго сына, да крупного – загляденье. Третий сын народился в волчью стужу, под вой пурги, под низкими, знобящими звездами.
– Спасибо! – поклонилась ей Апрасинья.
– Дай, небо, силы Околь! – принес жертву Мирон. В осенних туманах, в опадающей листве, под колышущимся криком журавлей, в жалобном крике улетающих стай появился четвертый сын. Один в берестяной люльке круглым ртом пускает пузыри, второй на животе лезет к груди, третий держится за подол, а четвертый уже ножом стругает, вытачивает из лучины стрелу.
И еще пуржили зимы, и еще грохотали реки, заглушая лебединые клики, и распускалась черемуха, и теплом дышало лето, и красным соком отливала осень в бруснике, и после девятого сына, Гришатки, на тридцать вторую свою зиму под лентами и холодными струями северного сияния Околь родила дочь.
– Вот она! – прохрипела Мать Матерей. Она оглядела темноволосую, темноглазую девочку, подкинула к потолку и повторила: – Это она, Апрасинья! Внучка моя!
В ту ночь, под утро, на крышу Картиных сел громадный иссиня-черный глухарь с переломанным крылом. Мирон пугнул его криком, но глухарь что-то невнятно пробормотал, скребанул когтями по обледенелой крыше и уселся поудобнее. Тонкой жердинкой ударил Мирон по длинной глухариной шее, и глухарь упал, наклонив в удивлении красные брови.
– Все! – тихо сказала Апрасинья. – Это – Смерть моя! Но я спокойна, Околь родила Апрасинью.
На следующий день Апрасинья надела лучшие одежды и, опираясь на рогатую палку, медленно, словно унося на плечах прожитые годы, побрела на кладбище, где в маленьких домиках покоились родственники, родители Мирона, ее умершие, непрозревшие дети, она простилась с ними, спокойно поговорила с каждым, не хуля жизнь и не проклиная смерть. На второй день Апрасинья прошла всю Евру. Здоровалась, ненадолго присаживалась, угощала детей мелкими кусочками сахара или твердой, как корень, сушкой. Ее голос не дрожал, она просила прощения за нечаянную обиду, кланялась и заходила в следующую юрту.
На третий день Апрасинья умерла.
Мирон по ночам просыпался, звал Апрасинью, выходил на улицу, искал ее в амбарах и, не услышав ответа, тихо плакал. Его заводили в юрту, усаживали у горящего чувала и ласково уговаривали. Мирон не терял памяти, разум от него не отступился, но уже выедала его изнутри ненасытная тоска.
Набухли почки, убралась в золотые сережки верба, заголубели дали, и прогремел первый гром, и Мирона коснулся зов того мира. Он был далек, но отчетливо внятен и высветлил, как вспышка молнии, крохотную полянку. Лес-бурелом, искалеченный лес-ветролом, утонувший в серых мхах и лишайниках, распахнулся вдруг, высветлился теплом ягодной поляны. Мирон видел ее один раз, в далеком детстве. На поляну ту Мирона от молодой матери увел скользкий, как камешек, упругий лягушонок. Долго, затаив дыхание, ловил его Мирон в высоких лиловых травах, среди медвежьих дудок, падал грудью на теплую землю, на мох, а лупоглазый лапчатый лягушонок, вздрагивая ярко-зеленой спинкой, выскальзывал меж пальцев, оставляя на ладони легкий холодок и разжигая в бьющемся сердечке азарт охоты погони. Мать металась по лесу, и сучки срывали с нее платок. «Мирон… Мирон… сын…» – звала его мать, а он не мог ответить. На животе, не дыша он подполз к лягушонку, не сводя с него взгляда. А тот, качнувшись, прыгнул в его глаза. Жалобно закричал Мирон, грудью прижался к похолодевшей вдруг земле, а лягушонок спокойно устроился на теплой макушке мальчика. Звонко, на весь лес, смеялась молодая мать.
«Наверное, поняла, что я приручал лягушонка, – подумал Мирон. – Но почему эта поляна? Почему эта?»
– Смотри, какое чудо, – звонко смеялась тогда молодая мать, и зацветал яркий румянец на белом лице, словно она ягодка-брусничка. – Твой это друг, Мирон? – Она осторожно взяла в ладони лягушонка, и тот замер, выпучив прозрачные глаза. – Ты нашел себе друга?
– Да, – проглотил слюну маленький Мирон.
– Все, кто живет, бегает, летает, ползает, все, кто прыгает и плавает, все должны стать твоими друзьями, – говорила ему молодая мать. – И тогда ты поймешь, сынок, что жизнь огромная, во много больше твоей жизни.
И вот теперь с той маленькой полянки мать звала его, и он ощутил в своей ладони холодок и дрожание лягушонка. Да, он готов. Жизнь и все дела завершены, и ему оставалось совсем немного – передать капище новому хранителю.
– Тимофей! Тимоха! – позвал сына Мирон. – Только тебе покажу тайники веры.
И Тимпей Картин, прощаясь с отцом, встретился с богами своей земли.
Распустилась черемуха, с севера налетел снежный вихрь, и в бездонье неба сверкнула молния, распорола березняк, и Мирон Картин, тихо вздохнув, ушел в иной мир, к верхним людям.