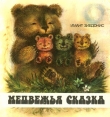Текст книги "И лун медлительных поток..."
Автор книги: Геннадий Сазонов
Соавторы: Анна Конькова
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Смутное чувство тревоги вошло в Кирэна. Не мог он понять, почему Пагулев не уговаривал, не торговался с ним, а повелевал: «Станешь моим человеком!» И не грозил ведь купец, и не покупал, словно знал, что не украдет Кирэн, не причинит ущерба.
– Да, сесный я… сопсем сесный! – лепетал Кирэн. – Просто сопсем я шельма, верно ты говоришь…
4
Рыба была отменно богата в том году. Прямо на льду Евры в поленницы ее складывали, как складывают дрова. Но в зимних садках еще много рыбы оставалось. Если всю из садков вынуть – лед под ее тяжестью мог бы рухнуть, расколоться.
Не часто река так щедро одаривает людей. Но в тот год рыба на диво была – и сырок шел, и язь крупный да жирный, стерлядь шла, и даже нельма белотелая с муксуном. На свой пай каждому евринцу приходился плавучий садок в две-три сажени длиной, высотой в два аршина да шириной в сажень. А был еще селянский садок, общинный – из частокола, что вбивался крепко-накрепко в галечное дно реки. Когда закрепят, распахнут крылья запора, установят морды и разделят их на паи, всегда останется с десяток, а то и дюжина лишних морд. Вот рыба из них и идет в общинный садок. Позднее, уже осенью, когда окрепнет лед на омуте перед запором, из того садка рыба вылавливается и делится между пайщиками. Но уже сверх пая, уже как божий дар, хочешь – бери, хочешь – соседу отдай, общая казна, общий котел.
Рыбы на омуте накопилось столько, что лед не выдержал, прогнулся, треснул в нескольких местах, и рыбу заливало водой. Безлошадные евринцы не могли вывезти ее с реки, потому прямо на льду и сортировали, раскидывали в плотные штабеля – «головку» к «головке», «крупную» к «крупной», затем по сортности шла «средняя», или «мерная», а за средней – «межумок», четверть, мера ее от головы до хвоста. В отдельную кучу отбрасывалась мелочь, шла она на корм собакам и на поедь зверям, на приманку. И чего только не было в той поеди – травянисто-зеленый, по-весеннему яркий ерш, и желтоглазый плотный окунь, и чебачок, и сорога, и мелкая щука-щуругайка, язи и гольяны-вандыши.
Куда девать столько рыбы? Полные амбары накоптили ураку. Натопили наперед рыбьего жира, наготовили рыбьего сала, и навялили, и рыбьей муки напасли, а рыбы все равно тьма, просто жалость берет, как бы не пропала. Селянский сход, не споря, порешил: «Пущай Тятенька Филя и Васек Чернота, плотник Мыколка да Ондрэ Хотанг заберут рыбу из селянского садка, возьмут, сколь надо им».
– Бери, Тятенька Филя! – предложил Мирон.
– Задаром не желаю! – отрезал старик. – Давай я возьму, а посудой с тобой расквитаюсь.
– Не надо посудой, – решила Апрасинья. – Пусть сын твой Васек сына моего Тимпея железу научит.
– А он соображение имеет? – строго спросил Филя и, увидев, что Апрасинья не понимает его, уточнил: – В голове у него варит?
– Ы-ы, Ёлноер, – выругалась Мать Матерей. – Как так в голове варит? У него она что, колташиха? Разве можно здесь, – она ткнула пальцем в гладкий выпуклый лоб Фили, – разве можно здесь уху варить?!
Тятенька Филя тоненько смеялся и трясся от кашля, а Васек Чернота держал его за плечи и басил:
– Это, тятенька, хорошо… Подручный нужен мне. А ее мальчонка все вокруг кузни вьется. Берем, тятенька?
Два воза рыбы увез Мыколка, Васек перетаскивал ее в громадной, как лодка, корзине и засолил в трех бочках: в одной – сырок, в другой – язь, в третьей – окунь, щука да налим. Лекарь Ондрэ Хотанг пришел к селянскому садку с мелкой корзиной, и женщины долго смеялись: «Вот это едок! Вот это рыбоед!»
– Ты, Лыкерья, и ты, Кирья, за то, что Ондрэ детей твоих вылечил, наготовьте Хотангу рыбы из моей кучи, – распорядилась Апрасинья. – Распластайте и накоптите.
…Пагулев вышел на лед, поздоровался с евринцами, заглянул в прорубь, осмотрел садки близ запора и долго ходил среди поленниц рыбы, потирая руки. Доволен остался Пагулев – отменная рыба.
От садков, от запора всем стало видно, как снизу по реке в облаке пара, в нетерпеливом пофыркивании и ржании коней поднимается тяжело груженный обоз. Заиндевели лошадиные морды, тонкие желтоватые сосульки свисали из ноздрей, взвизгивал снег под оправленным в железо полозом. Плотные, окутанные брезентом и мешковиной возы туго перетянуты веревками. Добрые кони тянули сани, на которых в овчинных тулупах громоздились возницы. За несколькими санями, сзади, на коротких поводках-веревках привязаны пестрые коровы – их насчитали дюжину. Коровы шумно и влажно дышали, бока глубоко проваливались – видно, проголодались в пути от Пелыма. Шутка ли, до Евры сотня верст.
– Гляди, безрога, как лосиха! – восторженно вопила ребятня. – Башка безрогая… Баш-ка бе-зро-гая! – кричала хором ребятня, подпрыгивая на берегу. – Башка тво-я безрогая… и титька твоя голая!
На возах как-то обреченно лежали связанные по ногам овцы, поводя равнодушно выпученными радужными глазами.
– Коровы… Коровы кому-то? – обступили Пагулева евринцы.
– Да кому хошь! – засмеялся купец. – Тебе надо? – повернулся он к поникшему вогулу в потрепанной, обгорелой, какой-то изжеванной одежонке. – Тебе надо скотину?
– Да это Сандро Молотков, – шепотом сообщил Кирэн, – он носью корел… Все у него оконь позрал. Он, прат Пакулев, нынсе вовсе колый, как камень на перекате.
– Вот што! – вгляделся в вогула Пакулев. – Ты горел ночью, Сандро?
– Горел… Маленько горел, – горестно закивал Сандро, – огонь все у меня кушал. Только уголек оставил. Ребятишек моих Мать Матерей приютила, а я под березой спал.
– Голый он сейчас, как только родился. Такой вот он сейчас голый, – раздался голос из толпы. – Совсем пузо холодный.
– Горел оттого ли, что пьяным был? – нахмурился Пагулев. – Это грех – водку лизать, как собака! Изнутри сгоришь.
– Был… был… – тороплво ответил Сандро, зашмыгал носом. – Как собака лакал. Как вода пьяным был – мягкий и качался. Ну, как болото, пьяный. У меня рыба много. Дай мне, Пакулев… хлеба, чаю и табаку мне дай.
– Как болото, пьяный? – рассмеялся купец. – Зачем ты, Сандро, водку так любишь? Сладкая?
– Сладкая, ой сладкая… – причмокивал Сандро. Тусклый свет в его глазах слабо плесканулся. – Ты маленько табаку давай мне. И хлеба давай, – умоляюще просил Сандро.
– Ну, а рыбы у тебя много? – спросил купец, переступая в белых своих пимах.
– Нынче много. Два пая у меня, больше нет, – грустно ответил Сандро. – Может, за лето баба еще одного мальчишку принесет, – с надеждой добавил он.
– Ефим! – позвал купец. – Дай ему чего-нибудь из одежонки. Бабе его да ребятишкам. По-божески, как брату. – И подмигнул Кирэну.
– Пропьет он все, морда квашеная, – заворчал Ефим. – Это же надо, из помоев, обмылков такую гульбу затеял! Тьфу! Туземство дикое!
– Дашь ему, – ласково прищурился купец и громко, чтобы слышали все, добавил: – Как брату дай… Потом, когда я погорю, он мне сторицей воздаст. Возьму твою рыбу. Хлеба дам тебе, табаку, чаю, брат Сандро!
– Допрый какой!.. – зашептали вокруг. – Совсем прат родной!
Вся Евра, от мала до велика, столпилась возле возов. Мужчины бросились распрягать коней. Взмокших лошадей обтирали сеном, ветошью, укрывали попонами, войлоком, снятыми с возов, отводили к амбарам в заветренную сторону. Возчики на затекших, негнущихся ногах потянулись в избу. Кто-то во дворе раскинул костер, у изгороди толпились женщины и дети. Всех охватило радостное возбуждение, нетерпение и любопытство: что там, в тяжелых коробах, в сундуках, ларях, туго набитых мешках? Много, наверное, там всякого разного добра: и головы сахарные, и леденцы – сладкие льдинки, и патока, и сдобные тебе маковые сушки, и, поди, там пряники медовые, печатные – ребятишки сглатывали слюни. А женщины просто сгорали от любопытства, полыхали румянцем из-под распахнутых платков, – много ли соли, много ли сахару привез купец? И муки, и круп разных, чаю и табаку, масла постного? Главное – хлеб, хлебушко – нянь. Те же, кто позажиточнее, покрепче хозяйством, невидимым взглядом как бы открывали сундуки и нетерпеливо выжидали, когда распахнутся короба и явится разноцветье шелков, шелковые шали с длинной бахромой и огромными цветами. Будет ли там сукно – белое и красное, синее и зеленое? И еще ожидали, что будет в сундуках легкое полотно, гладкий атлас, тонкая кожа, шелковые ленты, бусы, иголки, нитки, серьги да бисер.
Мужчины толкались, позвякивали на поясах звериные клыки о рукояти ножей – им так нужны ружья да порох-дробь. И свинцу нужно добыть у купца. У купца они добудут и нож острый, и напильник трехгранный, топор да табак. Может, Пагулев огненной воды маленько даст?
– Дашь маленько вина? – спрашивали евринцы. – Поди, дашь маленько белого вина, царской водки дашь?
– Слушайте меня, мужики! – громко обратился Пагулев к толпе. – Сладили мы с вами торг, столкуемся по-людски и по-божески…
– По-людски и по-божески, – зашелестела толпа и почтительно притихла.
– Помогать станем друг дружке, как братья, – продолжал купец. – Издалека привез я вам хлеб-хлебушек, чай-сахар, порох-дробь, одежу, железо. Всякое баловство ребятишкам привез, купцу трудно, но он об людях думает. Коли завяжем с вами дружбу-торг, завсегда сыты будете. Завсегда вы покойны, одеты и обуты и, как говорится, нос в табаке. Вашинское дело зверя пушного добыть, наше – обихаживать вас, поить и кормить. Ставлю в деревеньке вашинской Евре доверенного своего, вашинского же, евринского человека, честного брата моего – Кирэна. Ребята, что подошли с обозом, поставят здесь мой амбар. И станет без меня Кирэн вам отпускать товары на обмен – все, что вам надобно. Не раз и не два, а сколь можно пришлю сюда обозы с товарами. Завтра поутру торг начнем. Несите пушнину, меха разные, шкурье. Рыбу, ягоду, орех кедровый возьму. Ну, а счас угощаю всех!
Купец выставил большой лагун водки да еще поменьше лагун, и вся Евра загудела. Гуляли, пили, орали песни до утра. Охватило всех неудержимое веселье, беспечное, по-детски бесхитростное возбуждение. Закипело веселье. Всем хватило белого вина, всем хватило огненной воды! Ой, какой добрый! Ой, какой щедрый, богатый купец, какой большой, сильный человек Пакулев, он брат наш, наш ведь он брат, Пакулев, Пакуль-купец. Вот на столе вино, огненная вода – пей! Вот на столе хлеб – нянь – кушай! Вот табак душистый, крепкий, сладкий – кури! Голова так сладко кружится, туман-туман, покачивает тебя, как в лодке. И тепло-тепло, словно внутри тебя распахнулись горячие, огненные костры, полыхают раскаленно в тебе, и так хорошо, и становишься ты сильным, становишься ты удачливым-фартовым… И красивый ты, и умный, и есть тебе что поведать-рассказать, слово мудрое старикам сказать. О! Как все кипит, как уха в колташихе… Вон Сандро Молотков – светится весь, как урак копченый, как луна его лицо, будто и позабыл вовсе, что юрта его погорела. Дал ему Пакуль рубахи, какой-то армячишко кинул ему под ноги Ефим, и рад Сандро до смерти, что приоделся в наряды купеческие, и оттого раздувался, выпячивая грудь, поводил бровью, как глухарь на току.
– Я – Пакулев прат! – кричит Сандро, ударяет кулаком в гулкую грудь. – Пакуль тоже прат мой!
Кто-то уже заиграл на «лебеди» – санквалтапе, быстро и уверенно перебирая поющие струны, и ударил в бубен, кто-то затренькал на трехструнной «гагарке»-тыритап; во дворе топтались по-медвежьи и пробегали у пылающего костра, размахивая руками, как речная чайка гибкими крылами. А за околицей, в темноте лесной чащи, голодно горели волчьи глаза и к низкому зимнему небу поднимался волчий вой. Потихоньку, словно крадучись, из-за леса приоткрылось зимнее утро. Гаснут звезды. Из-за урмана выкатилось красное, воспаленное солнце, зябкое, негреющее, поднялось над синеватой поземкой, а та струилась, шурша, между окоченевших застругов, но день все-таки заиграл, заискрился. Весь берег Евры за ночь истоптали зайцы, а вот их тропу пересек горностай, а вот, смотри-ка, совсем близко к деревне подходила волчья стая, грудилась здесь, оставив на обледенелых тальниках голодные клочья шерсти.
5
Собрались евринцы на реке около своих рыбных поленниц. Ждали Пагулева, тихо переговаривались, одобрительно покрякивали. Такой добрый купец, славный человек. Смотри-ка, сам вызвался помочь безлошадным, сам решил вывезти рыбу с реки. Чего ее к амбарам возить, незачем… Очень хорошо!
С крутого берега спускался порожний обоз. Отдохнувшие за ночь кони бодро бежали, пофыркивали. Поскрипывал, повизгивал снег под кованым полозом.
Пагулев вышел на лед, погладил рыже-красную бороду, длинную, мягкую – лисий хвост, весело оглядел толпу, одетую в шабурины, в шубы, что похуже, в растоптанные пимы. Цепко вгляделся купец в одноликость толпы.
– Здорово, мужики! – бодро крикнул Пагулев, и все заулыбались, отодвинулись от своих груд, окружили купца. – Попировали вечор? – ласково спросил Пагулев, и солнце озолотило его пышную бороду. – Начнем торг вести! Давай вот с этой груды и начнем!
Пагулев подошел к своим саням, что подогнал Ефим, принялся шарить в передке.
– Ефим! – позвал он кучера. – Да где же безмен? Весы у Кирэна оставил, а безмен где?
– А я почем знаю, – равнодушно ответил Ефим, толкаясь среди евринцев, разглядывая рыбы. – Ты дома в руках его держал, то помню… Може, по дороге выпал?
– Братцы! – хлопнул себя по лбу купец, и вид его был растерянный и озадаченный. – Братцы, да я, однако, дома, в Пелыме, безмен забыл. От де-ла-а! Весы для товару взял, а безмен забыл!
– Пезмен запыл! – толпа притихла, насторожилась.
– Не думал же я, что рыбы у вас, бедняг, столько, – сокрушенно замотал головой Пагулев. – Что же делать, господи?!
– Пезмен запыл… Весы взял для товару, а пезмен запыл, – заструились шепотки. – Наверное, совсем прать не станет? – заволновалась нетерпеливая, переполненная ожиданием толпа. – Пезмен запыл, у-у-ы… Да чтоп подземный царь тебя проглотил!
– Ну-ну-у, дела! – сокрушается купец. – А рыба-то одна к одной, золото! Знал бы, что столько рыбы… три безмена бы взял. За пушниной ведь только ехал, за шкуркой. Ну, ладно! – махнул рукой Пагулев. – Кручиниться начнешь, сам себя потеряешь. Придется выручать вас от такой беды и скудости…
– Выручай, прат, – сунулся к нему Сандро. – Тумай…
– А вот! – осенило вдруг купца. – О господи, да как я мог забыть, что мерка моя при мне. Дугой вешать будем! – решительно сказал Пагулев.
– Ду-го-ой? – поразилась толпа и качнулась из стороны в сторону. – Как так дугой? Однако и дед мой такого не видел…
– Да просто, – махнул рукой Пагулев. – Ставлю дугу в снег… А ну, выпрягайте! – приказал купец. – Ты… вот ты, Спиря, выпрягай. – Он показал на розвальни с высокой дугой. Спиря быстро, одним движением ослабил чересседельник, дернул за супонь, распахнул хомут и освободил дугу. – Вот так! Гляди, честной народ… Ставлю я эту дугу в снег, – и вся толпа качнулась к нему, качнулась слитно и многотело, – а под нее выкладываю рыбу… Вот так, под самый верьх. Самый раз под самое кольцо. Видел, кучка? А потом сколь вешай, сколь не вешай – пуд ровнехонько…
– Ай-е! Щох-щох! – поразились евринцы. – Здорово… здорово ты придумал… Давай под дугу… пуд ровнехонько!
– Вот это да! – восхищенно хлопнул себя по коленкам Тятенька Филя. – Вот это работа!
И пошло дело. Принялись евринцы рыбу мерзлую под дугу пихать, да плотно, одна к другой. И распрягли еще коней, и уже три дуги в снегу – для головки дуга, для крупной дуга, для средней рыбы тоже дуга.
– Мирон, а Мирон, – вцепился в плечо Картина узкой птичьей лапкой Тятенька Филя. – Ты чего же глядишь на разбой, шаманья душа! Али ты с ним заодно? С этой лахудрой задумал деревню оголить? – пронзительно глянул Филя.
– …Понял? – хохочет купец, и колышется рыжая борода – лисий хвост. Сверкают крупные белые зубы. – Знай наших! Три безмена надо бы, а счас, смотрите, как быстро да ловко…
– Так он же рыбу у всех покупает! – не понял еще Мирон, хотя в быстроте, решительности и каком-то затаенном, несломимом упорстве Пагулева чуялась ему опасность.
– О, ловко-ловко! – восхитились евринцы, забегали, принялись помогать друг другу. – Смотри, как быстро у нас, брат Пакуль.
– Дурак, – плюнул в сугроб Филя. – Он, Мирон, счас цену свою обозначит. И станет та цена – закон! И станет она петля, и ты суешь туды деревню.
А Пагулев не торопясь ходил от поленницы к поленнице и, записывая, говорил Кирэну, что ни на шаг не отставал от купца, запоминая каждое слово:
– У Молоткова пять пудов головки да пять пудов крупной… семь пудов средней… Так смотри, Кирэн, дальше: Чейтметов – двадцать пудов головки… тридцать пудов крупной. Мирон? – остановился купец. – А где твоя рыба, ты же многопайный?
– Рыбу отвез в Гари. Четыре воза. Торговец всю безменом вешал, – хмуро ответил Мирон. – Худо делаешь, брат Пагулев.
А возчики тем временем обернули сани в бересту, навроде берестяного куля-кошеля, и на одни сани плотно погрузили головку, на другие – только крупную. Не мешали рыбу…
– Я худо делаю? – удивился Пагулев и зорко вгляделся в Мирона. – Да она прокиснет, ваша рыба, рекой унесет. А сколь за пуд тебе товару давали?
– Товар взял какой хотел! – отрезал Мирон. – И денежку.
– Эй, мужики, помогай! – крикнул купец евринцам. – Давай так – взвесил рыбу и сам укладывай в сани. Укладывай плотненько да увязывай. Давай, давай, – торопит купец. – День не ждет. Время денежку гонит, проспал – в разор пошел… Так ты ничего не возьмешь у меня, Мирон? – осторожно, не отпуская с лица улыбки, спросил Пагулев.
– Он не возьмет, так я возьму! – вошла в разговор Апрасинья. – У меня сыны растут, им выкуп собирать надо.
– Во-от! – усмехнулся Пагулев, правильно он рассчитал.
А Кирэн содрогнулся: как далеко в человеческую душу мог смотреть этот рыжебородый. Наверное, он не совсем купец. Наверное, он оборотень. Нет, не надо… совсем не надо стать его доверенным человеком…
– Вот! Во-от! – торжествующе протянул Пагулев. – Мудрая ты женщина, и бог наградил тебя сынами. Чего возьмешь?
– Ружья и охотничий снаряд возьму, – ответила Апрасинья. – Только за деньги.
И торопились евринцы, и радовались возбужденно и счастливо, перекликались под высоким и прозрачным небом не разгибая спины – вот повезло! – освобождались от богатой рыбы, которую безлошадные так и не могли вывезти с реки. Торопились евринцы и туго, плотно набивали двадцатипудовые пагулевские возы отборнейшей рыбой.
– Давай мне ружья и порох! – густым голосом потребовала Апрасинья. – А тебе дам денежку.
– Ладно! – морозно выдохнул купец. – Тебе дам за-ради уважения, ибо ты есть Матерей Мать.
И каждому отсыпал брат Пакуль муки и круп, соли и сахару, чаю байхового и плиточного дал, табаку вроссыпь и плитку для жвачки, пороху дал, дробь, ружья, топоры, капканы. Много дал купец Пагулев евринцам, обоз много привез добра, – брали те, у кого рыбы было много, брали и те, у кого было поменьше, давал он в долг и на запись, на завтрашнюю реку и только что народившегося соболя в урмане. И вина, и огненной воды тоже дал.
– Помяните меня добром за чарочкой, – попрощался купец. – И помните!
Прав оказался скудельник Филя, через два, через три года евринцы поняли, как крепко и ловко обобрал их в ту зиму купец Пагулев. Вот тогда-то он и назначил цену на рыбу, назначил и определил сам, сколько душа его захотела. И много лет он потихоньку снижал и снижал ту цену, а другой цены евринцы не знали, ибо Пагулев не пускал ни одного торговца в Евру, где добывал ему богатства заплывающий жиром Кирэн.
Апрасинья и Околь
1
Вырастали сыновья, уже промышляли зверя с отцом, заигрывали у высоких костров с девушками, как молодые волчата, таскали их в светлые солнечные березняки, на брусничные поляны и ягельники. Апрасинья угадывала их томление, наступающую зрелость и заранее выглядывала невест из доброго, крепкого рода. А у дочерей круглились груди, соком, горячей кровью наливалось тело, и, оглаживая себя, девки удивленно вздыхали.
Апрасинья потихоньку, исподволь откладывала лучшие шкурки, копила пушнину – калым. Дорого стоит женщина из доброго рода. Дорого за нее платит мужчина, чтобы за тот выкуп-калым взять потом сполна. Конечно, то сама жизнь порешила, что родители стараются продать свою дочь подороже и гордятся, если не продешевили, – это ведь не кобылу с сапом продать или собаку с бельмом. За добрую, здоровую девку и калым добром весит – два-три пуда соболей, белок, или пуд соболей да коня в придачу, или собаку зверовую – соболятницу или медвежатницу. Породистая собака, да с верхним чутьем, дом добром наполняет, и кормит, и поит, и одевает. Недаром же Апрасинья разводит лаек. Сильны ее собаки, а Мирон умеет натаскивать их по зверю – то в стае, то поодиночке. А Мирону, ой как много сейчас пушнины надо добывать, наверное, несколько возов, наверное, целый амбар, – выросли сыновья, растут наперегонки. В доме появилась одна сноха… другая… третья, уже переженились братья Мирона, рубили свои избы рядом, пристраивали и ставили амбары так, что получилась непрерывная стена, и защищала она дворы от свирепых северо-западных ветров, что срывались с Урала и прокатывались по Конде и Евре. Но загоны для коней и скота оставались общими – не позволил Мирон разлучать скотину, она времени и заботы требует. Круто обращалась со снохами и свояченицами Апрасинья, поднимала их чуть свет, давала пинка засоням, а нерадивым и неторопким, еще сладко причмокивающим в теплой постели, отвешивала оплеухи и затрещины – рука у нее увесистая, жесткая, и дралась она больно, знали об этом не только снохи, но и многие евринские мужики. Белками, взметнув подолы, крутились женщины в доме и во дворе Апрасиньи. Лень-безделье – мать всех пороков-грехов.
Переделав свои домашние дела, Матерей Мать шла по деревне, заходила к молодым женщинам, когда их мужей не было в юрте. Она особенно зорко оглядывала юрту молодых и замечала все: и засаленную драную постель, и немытую посуду с присохшей чешуйкой и костями, и брошенные в угол обглоданные мослы, и рваные шабурины на деревянном крюке. Ленивых, нерадивых ругала, била по щекам заспанную молодуху, у которой в люльке надрывался изгаженный ребенок. Того она не прощала никому – дите должно жить в чистоте и ласке.
Наступила пора жениться Тимпею – Тимофею, самому любимому, самому красивому и сильному сыну. Выучил его Васек-кузнец укрощать железо, не ломать, а мять, как глину, и творить из железа то острогу, то подкову, отменный нож, хоть капкан на волка или рысь. Он еще не играл с железом, как Васек-кузнец, но уже многое знал.
– Здесь нет для тебя доброй невесты, Тимпей! Жидкие, кислые девки, – сплюнула Апрасинья. – Корявые, как березы на болоте. Пропахли рыбой насквозь, как гагары… – Нет, она, конечно, не думала так, не презирала евринских девок, просто они вырастали на ее глазах, оставались для нее обычными, до конца познанными и оттого серенькими, как рябчики. А ей хотелось освежить кровь своего рода. – Охотник из тайги запах хвои несет, запах костра, а они болотом пахнут. Не песни поют, а стонут. О гагары!
Апрасинья под разными предлогами прошла окрестные стойбища и селения: в одном собирала травы, узнавала рецепты и снадобья, в другом на бересту переносила узоры для украшения одежды. В третьем селении, крохотной деревеньке, она меняла готовое шитье на краску, а та готовилась из корней лиственницы, из сурика или охры, что привозили с Урала, или варилась из расплава болотной руды.
Вглядывалась Апрасинья в нежные девичьи лица, в смеющиеся глаза и пыталась проникнуть в грядущее юной девушки, пыталась угадать, что за мир – сложный или пустой – несет в себе та или иная женщина. Не таится ли в той тайная болезнь? Не разъедает ли ее черная зависть, не гложет ли короед злобы, умна ли она или просто хитра? Там, где хитрость, там и острые зубы и жадные губы, что могут по капельке высосать кровь и выплюнуть пустую шкурку. Не находила Апрасинья ту, что искала, и порой пугалась про себя: может быть, та еще не родилась? А может, она уже погибла? Может, пропадает где-то в юрте у старика или непутевого мужичонки? Наверное, она не найдет, не отыщет такую, чтобы была хоть чем-нибудь похожей на нее, Апрасинью, хоть в чем-нибудь повторила ее. А ведь то могло быть – ведь в женщине время течет медленно, но цельно, как вечный ход солнца и луны, не меняясь и не меняя ее сущности. У женщины и тайны, и загадки свои, и тревоги, и другая, пронзительная тоска. Мужчина учится следить зверя и постигает тайну его повадок. Он смотрит в звезды, в утренний туман, в заходящее или поднимающееся солнце, вслушивается в ветер и угадывает, какой обернется погода на завтра, на два-три дня вперед. А женщина смотрит в небо и думает о земных душах, что поселились на звездах, смотрит в туман, а тот принимает пугающее обличье страшных зверей, смотрит в солнце и видит цветы, ягодники, узоры своей одежды. В небе, в реке, в зелени леса женщина видит свою уходящую или найденную любовь. И дождь ей благо, и река ей благо, ибо там обитает такая, как и она, одинокая речная богиня Кулнэ, что потеряла и никак не встретится со своей сестрой – лесной богиней Ворнэ. Нет, не только для продолжения рода искала женщину Апрасинья. Она искала такую, чтоб смогла озарить, наполнить светом, радостью и неистребимой жаждой жизни ее Тимофея. Не желала она такой женщины, что бессловесна и тупа, как жертвенная овца. Может, она – та, кого она ищет, – ответит на то, чего не знает Апрасинья… И чего никогда не вызнает… Может такое быть?
А Тимофей из-под руки отца поднимался стремительно, сочно и радостно, как трава, оперялся и вставал на крыло. Он криком встречал солнце и неукротимо тянулся к нему, и ростом уже на две головы обогнал отца и многих евринских мужиков, и достигал ростом Лозьвиных, и плечи его раскинулись, как могучие ястребиные крылья. Становился он прочным и гибким, словно корень сосны.
Апрасинья выискивала ему женщину, а Тимофей, сверкая зубами, глазами, кружил девкам головы, и те приседали перед ним робкими куропаточками, и отцы прятали их. Но никто не мешал Тимохе уводить в черемухи молодых вдовушек. Он подкарауливал их в ломких малинниках, и те заливались серебристым смехом, разбегались по звонкому березняку, оставляя то одну, то другую в его жадных, горячих лапах. Женщины приносили ему радость, наполняли на миг нежностью и острым ощущением жизни, но не давали глубины и не вселяли тревоги. Искал себе Тимофей не женщину, искал он себе потеху, наполнял себя легкой радостью. Как шмель садится на цветок, так и он на девку, металось и вспыхивало его тело, а не душа – так поняла Апрасинья.
– Бабы выжгут его насквозь, – сказала она Мирону. – Он не добывает острогой нельму, не сторожит ее, а берет ту, что река ему выбрасывает на берег. Бабы берут его сами, когда захотят, и душа его изорвется в слабости…
– Пускай маленько поиграет, – добродушно отвечал Мирон. – Гон у него начался, как у молодого лося. Давай у Лозьвиных девку возьмем?
– Нет! – отрезала Апрасинья.
– Может, у Кентиных? У них девки пышные, как шаньги.
– Шаньги?! – разъярилась Апрасинья, и ее лицо замерцало, как в молодости. – А какие дети, какие сыны могут быть от такой шаньги?
Апрасинья уж который раз увязывалась с Мироном на ярмарку – путь нелегкий, долгий. Дорога санная разбита, в скользких, развалистых разъездах. И каждый раз, останавливаясь на ночевку в деревеньках и на постоялых дворах, она зорко вглядывалась в молодиц. Незаметно, исподволь она заводила тихие речи с женщинами о ценах на рыбу, муку и чай, да соль, да сукна, потом переходила на пушнину и, вовлекая в разговор, узнавала, сколько стоит девка в этих краях. Здесь, в пелымских землях, за девку платили не столько пушниной, сколько золотом, червонцами, серебряными украшениями, скотом – мелким и крупным конями, изделием из железа. Не только манси-вогулы, не только соседние, схожие лицом и обычаями ханты-остяки покупали у родителей или меняли на скотину девку; женщину покупали и продавали татары – не от них ли то пошло? – и чуваши, и другие узкоглазые, медноликие люди, что называли себя ойротами да казахами.
– Наверное, во всех землях единый закон? – задумалась Апрасинья. – Какой же неискупимой виной женщина провинилась перед великим небом? Какой великий грех сотворила она, что со дня ее рождения на ней несмываемое клеймо? Это какой же должен быть грех, если на скотину, на собаку меняют?
– Эй ты! Ты, вогулка! – приподнял гладкую, бритую голову медноликий татарин, что спал на лавке. – У тебя, баба, видно мужиков полно, что ищешь девку. Купи мою – ой сладка, как мед. Так и липнет. Жаром, как головешка, исходит. Купи мою девку, совсем недорого возьму – три десятка баранов. Да три денежки золотые!
– Мне нужна нашего народа девка! – гордо ответила Апрасинья.
– Моя девка – огонь! – оскалил зубы гололобый татарин. – Кобылица необъезженная. Шибко сладкая. Могу за соболей отдать. Пушнина тоже нужна.
У русских свои законы, но вовсе непонятные. Девок своих за манси не давали, да и не каждому русскому давали, то вера не подходит, то порода, глядишь, не та. Но русские как-то по-другому, иначе продавали девок своих. Родители за невесту приданое давали, доплачивали за нее жениху – жених запрашивал цену. Вроде бы наоборот, а если взглянуть вглубь – та же самая торговля, так же торговался жених, просил дать за невесту побольше – скотом ли, хлебом ли, землей ли или барахлом-тряпками. А родители яро торговались, желали поменьше за девку отдать, оттого примечали и привечали мужика побогаче. Так и ведется в мире – богатый берет богатую, а бедному, голому достается бедная. А бедные семьи завсегда многоротые, многогорлые, многопузые и все съедают, как пожар. Считают, что из бедной девки хозяйка добрая, нерасточительная получается, да неверно то, – или доотвалу нажираться будет за голодные годы, или копить. Но у нее, у Апрасиньи, слава Шайтану да Великому Торуму, есть все, чтобы добыть добрую женщину, пусть она хоть из богатых.
2
Остановилась она как-то с Мироном в Рублево, что между Гарями и Пелымом, ночевали на постоялом дворе. Двором тем владели три сестры, обрусевшие мансийки Бурхановы. Отец у них был полурусский от татарки, а мать – пелымская вогулка, жила при муже, но не женой, а вроде бы рабыней. Купил ее тот в голодный год у кривого вогула за плитку табаку и пуд муки. Этим обрусевшим сестрам достался от отца-полутатарина большой дом с крытым двором да амбарами, с двумя сараями, где теснились пара коней да пять коров, телята да овцы. Подрастала у тех сестер племянница-сирота с верховьев Пелыма-реки. Померли ее родители от черной оспы, померли вместе со всей деревушкой, но посчастливилось Околь. Была она в ту весну у теток, нянькались они с ней, играли, потому что двоим детей своих бог не дал, а третья все собиралась родить, да мертвые рождались.