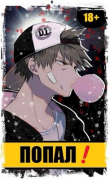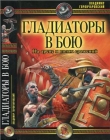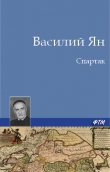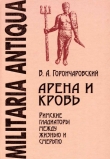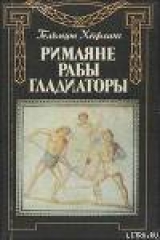
Текст книги "Римляне, рабы, гладиаторы: Спартак у ворот Рима"
Автор книги: Гельмут (Хельмут) Хефлинг
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Наряду с пожарами, быстро пожиравшими деревянные амфитеатры, во времена Империи бывало и так, что набитые зрителями трибуны обрушивались под собственной тяжестью. Причиной тому – конструкционные ошибки, халтурная работа строителей и стремление экономить там, где не следовало бы. О такой катастрофе, происшедшей в расположенном к северу от Рима городе Фидене в 27 г. н. э., в правление императора Тиберия, рассказывает Тацит в своих «Анналах»:
«…Неожиданное бедствие унесло не меньшее число жертв, чем их уносит кровопролитнейшая война, причем начало его было вместе с тем и его концом. Некто Атилий, по происхождению вольноотпущенник, взявшись за постройку в Фидене амфитеатра, чтобы давать в нем гладиаторские бои, заложил фундамент его в ненадежном грунте и возвел на нем недостаточно прочно сколоченное деревянное сооружение, как человек, затеявший это дело не от избытка средств и не для того, чтобы снискать благосклонность сограждан, а ради грязной наживы. И вот туда стекались жадные до таких зрелищ мужчины и женщины, в правление Тиберия почти лишенные развлечений такого рода, люди всякого возраста, которых скопилось тем больше, что Фидена недалеко от Рима; это усугубило тяжесть разразившейся тут катастрофы, так как набитое несметной толпой огромное здание, перекосившись, стало рушиться внутрь или валиться наружу, увлекая вместе с собой или погребая под своими обломками несметное множество людей, как увлеченных зрелищем, так и стоявших вокруг амфитеатра. И те, кого смерть настигла при обвале здания, благодаря выпавшему им жребию избавились от мучений; еще большее сострадание вызывали те изувеченные, кого жизнь не покинула сразу: при дневном свете они видели своих жен и детей, с наступлением темноты узнавали их по рыданиям и жалобным воплям. Среди привлеченных сюда разнесшейся молвой тот оплакивал брата, тот – родственника, иные – родителей. И даже те, чьи друзья и близкие отлучились по делам из дому, также трепетали за них, и, пока не выяснилось, кого именно поразило это ужасное бедствие, неизвестность только увеличивала всеобщую тревогу.
Когда начали разбирать развалины, к бездыханным трупам устремились близкие с объятиями и поцелуями, и нередко возникал спор, если лицо покойника было обезображено, а одинаковое телосложение и возраст вводили в заблуждение признавшего в нем своего. При этом несчастье было изувечено и раздавлено 50 000 человек, и сенат принял постановление, воспрещавшее устраивать гладиаторские бои тем, чье состояние оценивалось менее 400 000 сестерциев, равно как и возводить амфитеатр без предварительного обследования надежности грунта. Атилий был отправлен в изгнание. Следует упомянуть, что сразу же после разразившейся катастрофы знать открыла двери своих домов: повсюду оказывали врачебную помощь и снабжали лечебными средствами; и в городе в эти дни, сколь ни был горестен его облик, как бы ожили обычаи предков, которые после кровопролитных битв поддерживали раненых своими щедротами и попечением».
В своей отвратительной жажде крови и всевозможных жестокостей преемник Тиберия Калигула сожалел о том, что в его дни не произошло столь остро щекочущего нервы несчастья. В последующие же времена аналогичные крушения не раз имели место.
Форму двойного театра, изобретенную Курионом, его друг гениальный диктатор Цезарь использовал в 46 г. до н. э. при праздновании своего четырехкратного триумфа для того, чтобы дать возможность наибольшему числу людей присутствовать на гладиаторских играх с травлей и многочисленными боями. Возможно, что именно он построил в Риме первый амфитеатр – временный деревянный.
Первый постоянный амфитеатр в столице, включавший в себя как каменные, так и деревянные конструкции, в 29 г. до н. э. возвел Статилий Тавр, родственник и любимец императора Августа. Разрушен же он был, по-видимому, во время пожара Рима в 64 г. н. э., т. е. в эпоху Нерона. Нерон же, как и ранее Калигула, в 57 г. приказал возвести на Марсовом поле деревянное строение и заложил камень в основание каменного амфитеатра.
Как упоминалось выше, в Помпеях и, по-видимому, в Капуе такие сооружения имелись и ранее. Тем временем во всех частях Римской державы планировались, закладывались и строились амфитеатры, предназначавшиеся для гладиаторских игр. Сколько их было всего, сейчас сказать трудно, однако те 70 амфитеатров, которые продолжают существовать и по сей день, конечно, всего лишь часть от общего их числа– а они имеются в Италии и Югославии, в Испании и на Сицилии, во Франции и Германии, в Британии и Греции, в Малой Азии и Египте.
Некоторые из них, как, например, те, что стояли на границе, проходившей по Дунаю, или же в североафриканской Нумидии, сооружались исключительно для солдат расквартированных там римских легионов, т. е. в некотором роде в рамках обеспечения жизнедеятельности войск. Другие – те, что расположены во французских городах Арле (бывшая Арелата) и Ниме (бывший Немаус), – служат сегодня аренами для бескровного боя быков, а на ежегодные великолепные оперные фестивали в амфитеатре итальянской Вероны, где гибли некогда римские гладиаторы, собираются любители искусства со всего мира.
Все эти сооружения меньше размером, но во всем остальном соответствуют гигантскому римскому образцу – великому Колизею.
Колизей – отблеск былого величия
Там, где Резня дышала рдяным паром
И шумный люд проходы забивал,
Журча ручьем, медлительным иль ярым,
Рыча каскадом, рухнувшим со скал,
И общий взрыв насмешек иль похвал
Был – смерть иль жизнь (потеха черни шалой)…
Когда ж Луна всплывет, полна истомы,
До верхних арок, чуть замедлив там,
И светят звезды в древние проломы,
И бриз ночной ласкается к ветвям,
Раскинутым по серым там стенам,
Как лавр по плеши Цезаря, и в свете
Все тонет мягком, с тьмою пополам, —
То мертвых чары воскрешают эти —
Прошли герои здесь – мы топчем прах столетий!
Этими строфами английский поэт лорд Байрон (1788–1824) воспевал, в своей поэме «Паломничество Чайльд Гарольда» глубоко поразившие его руины римского Колизея, полуразрушенного, но от того не менее совершенного и благородного строения, стены которого в то время поросли деревьями, кустарниками и травой. Вид величественного творения вызвал в душе поэта образы тех, кто во славу императора и ради увеселения народа проливал свою кровь на арене. Однако все волшебство этого удивительного строения не в силах заставить нас забыть о том, что создано оно было для демонстрации убийства тысяч и тысяч людей на потеху толпе – одного из самых чудовищных увеселений за всю историю человечества.
Сооружение Колизея, размерами своими превышающего все предыдущие и последующие строения, было начато императором Веспасианом (69–70 гг.), завершено Титом (79–81 гг.); он же открыл Колизей стодневными торжествами; его преемнику Домициану (81–96 гг.) оставалось лишь завершить оформление. Так что великолепное это творение архитектуры стало таким памятником роду Флавиев, который современники по праву относили к числу чудес света, которое и сегодня, несмотря на частичные разрушения, производит неизгладимое впечатление.

Колизей (амфитеатр Флавиев) в Риме. 75–80 гг. Реконструкция
«Раз Колизей стоит, стоит и Рим; но Рим падет вослед за Колизеем, за Римом – Мир!» – так гласит известное изречение VIII в., принадлежащее, по-видимому, одному из англосаксонских паломников, пораженному колоссальным строением. Римская империя давно канула в Лету, а Колизей все стоял, продолжая оказывать влияние на архитектуру многих веков. Конечно, не минули его и многочисленные опустошительные войны, но никогда он не был разрушен совершенно, и по сей день этот величественный обломок исчезнувшей цивилизации продолжает оставаться одним из важнейших элементов архитектурного облика города Рима.
Колизей стоит на месте бывшего парка Золотого Дома Нерона, а именно там, где раньше находился пруд, перед тем осушенный и засыпанный. В плане он представляет собой эллипс с внешним обводом в 527 м, главные оси которого составляют 188 м в длину и 156 м в ширину. Длина осей овальной же арены – 86 и 54 м; площадь ее – 4644 кв. м, а всего комплекса – около 29 000 кв. м.

Колизей (амфитеатр Флавиев) в Риме. 75–80 гг. Разрез
Первый этаж образуют аркады с 80 арками высотой 7 м и колоннами с размерами 2,40 х 2,70 м в плане. На них покоятся второй и третий этажи, в то время как четвертый составляет сплошная стена, разделенная подпорками на сектора, каждый второй из которых имеет окна. Первый этаж украшен дорическими колоннами, второй – ионическими и третий – коринфскими колоннами. Лишь изобретение бетона позволило строителям Колизея впервые в истории архитектуры вывести четыре ряда стоящих друг на друге аркад общей высотой 57 м.
Глубина фундамента Колизея – 9 м. Под ареной находилась сеть переходов и помещений, которые сегодня можно увидеть просто сверху. Использовались они в качестве клеток для зверей и камер для гладиаторов, складов, а также для сложных механизмов, предназначенных для подъема на арену декораций и для прочей «сценической аппаратуры». Уже в 80 г. н. э. здесь существовала система каналов, по которым подавалась вода на арену, и она через короткое время превращалась в озеро, где разыгрывались морские сражения.
Выстроено все сооружение из кирпичей, облицованных мраморными плитами, а также из блоков твердого травертинского известняка, добывавшегося неподалеку от Рима. Дорога от каменоломни, по которой доставлялись огромные камни, была расширена до 6 м. В завершении строительства амфитеатра принимали участие десятки тысяч военнопленных-иудеев, пригнанных Титом в Рим из разрушенного Иерусалима.
Все 80 арок первого этажа были пронумерованы, так что гостям, приглашенным магистратом или принцепсом, для того чтобы найти свой ряд в секторе, достаточно было сравнить запись на входном билете с нумерацией, указанной над входом в аркады. Это мудрое изобретение позволяло равномерно распределять поток зрителей, стремившихся занять 45 000 сидячих мест. Не следует забывать и о 5000 стоячих мест на самой верхней террасе.
Четыре арки внешней стены, расположенные на концах осей, не были снабжены табличками – публика не имела права проходить через них. Через две в амфитеатр торжественно входили император и сопровождавшая его знать, а через другие две – колонны гладиаторов.
Лучшие места в ложах нижнего ряда предназначались для высокопоставленных лиц, и прежде всего императора с семьей и двором в окружении потомков древних знатных родов, сенаторов и всадников, весталок[48]48
Весталки – жрицы Весты, поддерживавшие, в соблюдение древнего обычая, вечный огонь в ее храме. Для посвящения в весталки набирали девочек 6-10 лет из хороших семей, которые в течение 30 лет должны были исполнять жреческие обязанности и строго блюсти обет целомудрия. Весталки пользовались исключительными почестями и привилегиями, считались одним из залогов вечности Рима.
[Закрыть] и жрецов в полном облачении. Любопытство и удивление публики часто вызывали присутствовавшие в этом светлейшем кругу в великолепных одеждах, украшенных драгоценностями, цари, вожди и посланцы из Африки, из восточных и иных стран, приглашенные императором в качестве гостей. В особой почетной ложе с южной стороны амфитеатра, расположенной напротив великолепной ложи императора, восседали префекты города[49]49
Префекты города – должность городского префекта впервые была введена на время отъездов Августа из Рима и затем стала постоянной.
[Закрыть] и магистраты.

Колизей (амфитеатр Флавиев) в Риме. 75–80 гг. Планы на уровне 1 – земли, 2 – второго яруса, 3–4 – третьего яруса, 5–6 – четвертого яруса
Над первым рядом все более широкими кругами расходятся, поднимаясь вверх, места с мраморными сиденьями для членов всех прочих сословий римского общества. По случаю праздника одеты они в белые тоги, головы украшены венками. Пестрые, необычные одежды тех, кто приехал из далеких краев, – представителей всех стран и народностей – словно брызгами, расцвечивают белоснежное полотно римского общества, представленного в амфитеатре.
Есть ли столь дальний народ и племя столь дикое, Цезарь,
Чтобы от них не пришел зритель в столицу твою?
Вот и родопский идет земледелец с Орфеева Гема.
Вот появился сармат, вскормленный кровью коней;
Тот, кто воду берет из истоков, им найденных, Нила;
Кто на пределах земли у Океана живет;
Поторопился араб, поспешили явиться сабеи,
И киликийцев родным здесь благовоньем кропят.
Вот и сикамбры пришли с волосами, завитыми в узел,
И эфиопы с иной, мелкой, завивкой волос.
Разно звучат языки племен, но все в один голос
Провозглашают тебя, Цезарь, отчизны отцом.
Так восхвалял в I в. н. э. римский поэт Марциал величие императора.
Лишь женщины императорской семьи и весталки имели право наблюдать кровавую резню на арене в непосредственной близости, прочие же сидели на более высоких рядах. На самых же высоких местах толпились представители низшего сословия – нищие, неграждане и рабы, одетые в грубое коричневое сукно, оборванные и грязные. Однако и здесь, на самой верхней террасе, ничто не мешало следить за ходом смертельной игры.
Сверху были установлены мачты, на которых моряки мизенского флота,[50]50
Мизенский флот – при Августе в городе Мизене, на побережье Кампании, была создана мощная морская база.
[Закрыть] умелые в обращении с парусами, натягивали накрывавший весь амфитеатр огромный навес, служивший зрителям и бойцам защитой от палящих лучей солнца и от дождя. По беломраморным скамьям скользили пестрые пятна солнечного света, пробивавшегося сквозь разноцветный навес. Однажды, во времена императора Нерона, полог над амфитеатром изображал усеянное звездами ночное небо.
Из фонтанов, устроенных на арене, высоко били струи воды с примешанными к ней благовониями, распространяя при этом свежесть и опьяняющие запахи. Свист, бой барабанов, звуки труб и флейт перекрывали шум боя.
Музыка и шум толпы оглушали зрителя, глаза же его ослепляли огромные массы празднично одетых людей, наполнявших скамьи великолепного сооружения, архитектурное совершенство и искусное убранство которого не могли вновь и вновь не поражать приходивших сюда. Гордостью наполнялось сердце каждого римлянина, осознававшего здесь свою принадлежность к народу, способному создавать столь удивительные творения. Присутствие в Колизее лицом к лицу со светлейшим принцепсом и представителями народов, съехавшимися со всех концов огромной империи, присутствие на столь возбуждающих, жестоких и одновременно привлекательных играх – конечно, это присутствие, это событие опьяняло все чувства зрителя и в последовавшие затем эпохи хотя бы на несколько часов оживляло призрак былого величия Рима. Тот, кто попадал в этот котел взаимно подстерегавших друг друга страстей, тут же захватывался воодушевлением кипящей вокруг него толпы и втягивался, словно в воронку водоворота, даже если до того он всей душой восставал против жестокостей гладиаторской резни и травли зверей.
Об огромной колдовской силе кровавых чар набитого до отказа амфитеатра ярко повествует в своей «Исповеди» Блаженный Августин, церковный патриарх IV в. н. э. То, что произошло с его другом Алипием, превратившимся из противника кровавого зрелища в одного из его яростных поклонников, – это конечно же один из тысяч случаев подобного рода.
«В Рим приехал раньше меня, а именно для того, чтобы изучать право. И здесь его с небывалой притягательной силой и в невероятной степени захватили гладиаторские бои. И хотя перед тем он питал к ним неприязнь и даже отвращение, несколько друзей и соучеников, шедших с обеда и встретивших его, несмотря на нежелание и даже сопротивление с его стороны, буквально силой – как это могут позволить себе только друзья – потащили его в амфитеатр, где в те дни давались эти жестокие игры не на жизнь, а на смерть.
Он же сказал так: «Тело мое вы можете притащить и усадить там, однако дух мой и мои глаза не будут прикованы к игре на арене; итак, я буду пребывать там, но выйду победителем и над вами, и над вашими играми».
Они его выслушали, но все равно взяли с собой, может быть, именно потому, что им хотелось узнать, сможет ли он сдержать свое слово.
Когда они пришли в театр и пробились к каким-то местам, там уже царили дикие страсти. Алипий закрыл глаза и запретил своему духу отдаваться греховному безобразию. Ах, если бы он себе заткнул и уши! Ибо, когда в один из моментов боя на него вдруг обрушился вой всей собравшейся в амфитеатре толпы, он открыл глаза, сраженный любопытством, будто бы он был защищен против него так, что и взгляд, брошенный на арену, не мог ничего ему сделать, а сам же он всегда был способен сдерживать свои чувства. И тогда душе его была нанесена более глубокая рана, чем телу того, на кого он хотел взглянуть, и он пал ниже, чем тот, падение которого вызвало этот вой. Дух его давно был уже готов к этому поражению и падению: он был скорее дерзок, чем силен, и тем бессильнее он проявил себя там, где хотел бы более всего надеяться на себя. Ибо только он увидел кровь, как тут же вдохнул в себя дикую жестокость и не мог уже оторвать взгляда и, словно завороженный, смотрел на арену и наслаждался диким удовольствием и не знал этого и упивался с кровожадным наслаждением безобразной этой борьбой.
Нет, он был уже не тот, каким был, когда пришел сюда; он стал одним из толпы, с которой смешался, он стал истинным товарищем тех, кто притащил его сюда. Нужно ли еще говорить? Он смотрел, кричал, пылал, оттуда он взял с собой заразившее его безумие, он приходил вновь и вновь и не только вместе с теми, кто когда-то привел его сюда, но и раньше их, увлекая других за собой».
Так при виде смертельного боя гладиаторов пьянела толпа.
Что же чувствовали перед выходом на арену сами приговоренные к смерти?
Последняя трапеза
«20 пар гладиаторов Децима Лукреция Сатрия Валента, бессменного фламина[51]51
Бессменный фламин – жрец определенного божества, в данном случае Нерона.
[Закрыть] Нерона Цезаря, сына Августа, и 10 пар гладиаторов Децима Лукреция, сына Валента, будут сражаться в Помпеях за 6, 5, 4, 3 дня и накануне апрельских ид[52]52
За 6, 5, 4, 3 дня и накануне апрельских ид – римляне обозначали дни месяца по их отношению к календам, нонам, идам. Календы – первый день каждого месяца, иды – середина месяца (совпадали с полнолунием и приходились на 15-й день марта, мая, июля и октября и на 13-й день остальных месяцев), ноны – девятый день месяца до ид, первая лунная четверть (соответствовали 7-му дню марта, мая, июля и октября и 5-му дню остальных месяцев).
[Закрыть] (8, 9, 10, 11, 12 апреля), а также будет охота по всем правилам и навес… Написал Эмилий Целер, один при лунном свете» – таков текст одного из настенных объявлений, сохранившихся в Помпеях. Другая надпись осведомляла жителей города о том, что «с 24 по 26 ноября в Помпеях будут биться тридцать пар гладиаторов квинвеннала[53]53
Квинь'веннал – городской магистрат, избиравшийся на пятилетний срок.
[Закрыть] Гн. Аллея Нигидия Майя и их запасные», т. е. те, кто заступит на место убитых. «Будет и травля. Да здравствует Май-квинвеннал!»
Как видим, тогда рекламная шумиха была не хуже той, что теперь гремит вокруг футбольного матча или рок-концерта. Специально нанятые для этого писцы писали объявления обычно красной краской на стенах домов, городских стенах и надгробиях, установленных вдоль дорог, выходивших из городских ворот. Часто в эти плакаты попарно вписывались и имена главных участников. Стремясь не дать упасть напряжению, устроители игр распределяли наиболее интересные бои на все дни празднества.
Наряду с настенными объявлениями организаторы игр составляли и размножали списки с описаниями наиболее привлекательных пар бойцов и их вооружения, продавали их затем на улицах города и рассылали в соседние местечки. Были и своего рода программки – флажки с именами гладиаторов, которые носили по городу; на улицах и площадях глашатаи громогласно оповещали народ о тех, кто будет рубить и колоть друг друга на потеху публике.
Какое же из имен могло оказаться в последний раз в списке на стене или на флажке? Всем было хорошо известно, что половина гладиаторов не покинут арену живыми.[54]54
Половина гладиаторов не покинет арену живыми – очевидное преувеличение: далеко не всегда бои велись до смертельного исхода. Условия состязаний определялись устроителем игр.
[Закрыть] Знали это все – как зрители, так и гладиаторы, и поэтому каждый с особыми чувствами переживал последнюю трапезу накануне игр. Римляне называли это богатое угощение менее мрачно – cena libera – «свободная трапеза», на которой устроители исключительно щедро угощали будущих гладиаторов и звероборцев. Ни на богатые кушанья, ни на дорогие напитки не скупились организаторы праздника, ибо изобильное угощение для приговоренных к смерти точно так же являлось частью установленного ритуала, как и роскошное оформление собственно игр.

Объявление о боях гладиаторов. Помпеи
Если различные рекламные мероприятия уже возбуждали всеобщее ожидание предстоящей кровавой резни, то последняя трапеза еще более его обостряла, так как гладиаторы совершали свои возлияния отнюдь не в одиночестве. Каждый любопытствующий мог побыть рядом с ними и посмотреть, как держатся мужчины, которые всего лишь через несколько часов вступят, может быть, в свой последний бой. Быть в непосредственной близости от смертника, разглядывать и даже ощупывать его, слушать его хвастовство или жалобы, читать отражающееся на его лице беспредельное мужество либо смертельный страх – такая щекочущая нервы возможность представлялась не каждый день и потому вызывала у посетителя гамму чувств – от живого интереса до злорадства. Кого из возлежащих сегодня за столом завтра мертвым утащат с арены – этого, конечно, не мог предсказать никто, но то, что завтра ты увидишь, как вот этот, неподалеку, перережет глотку тому, что подальше, это значительно увеличивало притягательность трапезы, так же как и уверенность в том, что ты-то тоже увидишь хоровод смерти своими глазами, но после праздника покинешь амфитеатр живым. Кроме того, во время последней трапезы представлялась возможность хорошенько рассмотреть гладиаторов, на которых заключались пари точно так же, как и на лошадей во время скачек.
Что сами гладиаторы испытывали в это время, зависело от того, были ли они хладнокровными и жестокими убийцами или же тонкими, душевно легкоранимыми людьми. Пока одни набивали себе брюхо, других рвало. Были и такие, что, пользуясь случаем, беззаботно наслаждались богатым угощением и великолепным вином, и такие, которые, подобно волевым и ответственным атлетам, прикасались только к тем блюдам, которые в завтрашнем бою не на жизнь, а на смерть должны были поддержать их тело. Одним вино развязывало язык, а другим страх сдавливал горло. В громогласных заявлениях иных звучала непоколебимая уверенность в себе, за которой, однако, вполне могло скрываться предощущение надвигающейся смерти, которую боец пытался прогнать хвастливыми утверждениями и саморекламой.
Спокойное и сосредоточенное подчинение неотвратимой судьбе было доступно далеко не всем. Иных сковывал страх, сердце останавливалось в груди, а грудь час от часа сдавливало все сильнее. Были гладиаторы, оглушавшие присутствовавших своими жалобами, дававшие волю слезам и впадавшие в истерические состояния. Некоторые составляли завещания и распространялись о своих страданиях, просили присутствующих позаботиться об их семьях. Иные трогательно прощались со своими близкими, женами и друзьями или же, будучи свободными добровольцами, одаривали свободой своих рабов. Христиане, которых приносили в жертву за их веру, искали утешения и поддержки в совместной трапезе – в память о тайной вечере Иисуса.
И все это разыгрывалось словно на подмостках перед глазами жаждущей черни, окружавшей жертв своей страсти, подобно стае волков, собирающейся наброситься на добычу.
Так страдания человеческие выставлялись напоказ.
«Здравствуй, Цезарь, император, идущие на смерть приветствуют тебя!»
И вот прошла ночь, и наступил день, которому для многих суждено было стать последним.
Как правило, гладиаторские игры начинались лишь во второй половине дня. Тем не менее с самого утра тысячи зрителей спешили в амфитеатр для того, чтобы развлечься на государственный счет. Часто праздник открывался травлей диких зверей. Кровавые сцены, когда хищники с жадностью раздирали друг друга, сменялись показом дрессированных животных, удивлявших публику невероятными цирковыми трюками. Люди также боролись со зверями. Чаще всего это тоже были военнопленные, осужденные преступники или же вольнонаемные, обучавшиеся в специальных училищах.

Звероборец. Граффито из Помпей
По нескольку дней не кормленные либо специально натасканные на людей дикие звери выступали в некотором роде в качестве палачей, ибо в программу игр в амфитеатре входило и публичное наказание преступников. Самым безобидным при этом считалось выставление виновного на всеобщее обозрение посреди арены. Хуже приходилось тем (и это гораздо больше возбуждало публику), кого бичевали либо сжигали живьем. Нечеловеческим бесчувствием можно объяснить смертный приговор, когда на растерзатше хищникам выставляли привязанную к столбу и поэтому совершенно беззащитную жертву. Чтобы продлить ее страдания и вместе с тем возможность наслаждаться этим зрелищем, жертве иногда давали оружие. Звери набрасывались на несчастных, вырывая из их тел такие куски, что порой любознательные врачи использовали эту возможность для изучения внутреннего строения человека. Среди изуродованных и с головы до ног окровавленных смертников находились и такие, что просили не о милости, а о том, чтобы их мученическая смерть была оттянута до следующего дня.
Подобные ужасные зрелища обставлялись пышно и театрализованно. Особенно любимы были собственно театральные, особенно пантомимические, представления с пытками и казнями на арене. Однако, вместо того чтобы пригласить артистов изображать муки и смерть, выводили преступников, предварительно заставив их выучить изображаемые сцены. И они подвергались настоящим страданиям. Один из них, вор, сожженный заживо, предстал на арене в одеянии Геркулеса. Еще у нескольких жертв в дорогих, шитых золотом туниках и пурпурных накидках, языки пламени вырывались прямо из-под великолепных и легковоспламеняющихся одежд, подобных смертоносным одеяниям волшебницы Медеи, а толпа на скамьях амфитеатра упивалась созерцанием того, как несчастные кричали и катались по песку арены, умирая в ужасных страданиях.
Не существовало такой пытки или казни, которую бы не инсценировали перед публикой. Каждый мог видеть, как мужчина в роли Аттиса лишался признаков своего пола или как некто, изображавший Муция Сцеволу,[55]55
Муций Сцевола – легендарный герой ранней римской истории; схваченный после неудачного покушения на царя этрусков Порсенну, положил руку в огонь, чтобы доказать свое мужество. Согласно легенде, пораженный Порсенна отпустил его и снял осаду Рима.
[Закрыть] держал руку над огнем до тех пор, пока она не сгорела. Этот случай Марциал описывает в следующей эпиграмме:
То представленье, что мы на цезарской видим арене,
В Брутов считалося век подвигом высшим из всех.
Видишь, как пламя берет, наслаждаясь своим наказаньем,
И покоренным огнем храбрая правит рука?
Зритель ее перед ней, и сам он любуется славной
Смертью десницы: она вся на священном огне.
Если б насильно предел не положен был каре, готова
Левая тверже рука в пламень усталый идти.
После отваги такой мне нет дела, в чем он провинился:
Было довольно с меня доблесть руки созерцать.
Еще один преступник был, подобно предводителю разбойников Лавреолу,[56]56
Лавреол – известный в свое время разбойник, выведенный в ряде произведений.
[Закрыть] прибит на кресте и отдан на растерзание зверям. Марциал описывает, как его плоть и члены отваливались по кускам, пока тело не перестало быть телом. То ли в самооправдание, то ли для успокоения совести он добавляет, что замученный наверняка был отцеубийцей, храмовым вором или поджигателем-убийцей:
Как Прометей, ко скале прикованный некогда скифской,
Грудью своей без конца алчную птицу кормил,
Так и утробу свою каледонскому отдал медведю,
Не на поддельном кресте голый Лавреол вися,
Жить продолжали еще его члены, залитые кровью,
Хоть и на теле нигде не было тела уже.
Кару понес наконец он должную: то ли отцу он,
То ль господину пронзил горло преступно мечом,
То ли, безумец, украл потаенное золото храмов,
То ли к тебе он, о Рим, факел жестокий поднес.
Этот злодей превзошел преступления древних сказаний,
И театральный сюжет в казнь обратился его.
Но даже подобные извращения, длившиеся достаточно долго, теряли свою привлекательность, и потому устроители «разбавляли» отвратительные мифологические представления веселыми, забавными и неприличными сценами. Так, например, под купол навеса поднимали мальчика или же выпускали на арену женщину верхом на дрессированном быке, чтобы изобразить таким образом греческую легенду о Европе, дочери царя Финикии Агенора, которую Зевс в образе быка увез из Фив на Крит. В программе, сопровождавшей гладиаторские игры, которые устраивал Нерон, зрители могли видеть, как свою страсть удовлетворяла Пасифая, жена Миноса, царя Крита, наказанная Афродитой любовью к быку. В одной из плясок юношей и девушек представлялось, по словам Светония, «как бык покрывал Пасифаю, спрятанную в деревянной телке, – по крайней мере, так казалось зрителям». Эта деревянная корова, которую покрывал бык, была, по преданию, изготовлена Дедалом, бежавшим затем с острова при помощи крыльев из перьев и воска. Его сын Икар, сопровождавший его, в полете слишком приблизился к Солнцу, растопившему воск на его крыльях, – Икар рухнул в море. Нерон приказал изобразить и это. Светоний так описывает соответствующий эпизод: «Икар при первом же полете упал близ императора и своею кровью забрызгал и его ложе, и его самого».
Столь пестрая смесь травли зверей и чудес их дрессировки, казней обычных и необыкновенных, веселых сцен и неприличных пантомим, длившихся с утра до полудня, вполне успевала за это время подогреть страсти публики, с нетерпением ожидавшей кульминации празднества – гладиаторских боев. На скамьях амфитеатра постепенно затихала болтовня, делались последние ставки на известных рубак, и вот внимание всех переключалось на великолепную гладиаторскую колонну, входившую на арену.
Празднично одетые – в пурпурных, расшитых золотом солдатских накидках поверх роскошного облачения, которыми особенно выделялись бойцы императорских школ, часто в шлемах прекрасной работы, украшенных различными изображениями, с покачивавшимися на них павлиньими и страусиными перьями либо с посеребренным оружием (как у бойцов Цезаря), они сходили с колесниц, доставлявших их в амфитеатр, и в военном строю маршировали по арене. За ними следовали рабы, неся снаряжение бойцов, нередко украшенное даже драгоценностями. Напротив почетной императорской ложи торжественная процессия приговоренных к смерти останавливалась; гладиаторы, подняв правую руку, приветствовали принцепса мрачным призывом, по отношению ко многим из них слишком истинным: «Ave, Caesar, imperator, morituri te salutant!» (Здравствуй, Цезарь, император, идущие на смерть приветствуют тебя!)
Одни гладиаторы вступали на арену впервые, иным же уже доводилось покидать ее победителями, и теперь они должны были вновь биться за свою жизнь. Именно они по собственному опыту знали лучше других, что за резня ожидает их. Наверняка было среди них немало таких, которые, предчувствуя близкую смерть, видели уже исход предстоявшего им поединка… Послушайте, как столетия спустя Байрон описывал пленного дака, испустившего дух на пропитанном кровью песке Колизея:
…Цирк вкруг бойца плывет; он умирает —
А в честь убийцы вопль звериный не смолкает.
Он слышит, но не внемлет. Взор его
С душою вместе, далеко витая.
Что жизнь ему, и приз, и торжество?
Пред ним – шалаш на берегу Дуная:
Там детворы его играет стая,
И там их мать, дакиянка… И вот
Отец зарезан, римлян забавляя!..
«Режь, бей, жги!»
Однако так далеко дело еще не зашло, пока что умело поставленное и рассчитанное на раздувание страстей действо оттягивало хоровод смерти.
После приветствия и парадного марша устроитель игр лично или его доверенные лица проверяли оружие. Зазубренные или тупые мечи отбирали и заменяли острыми, ибо никто не желал лишиться кровавого зрелища.