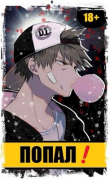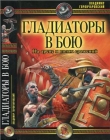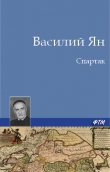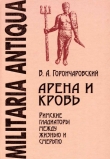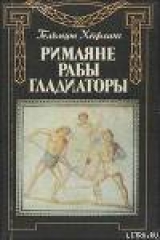
Текст книги "Римляне, рабы, гладиаторы: Спартак у ворот Рима"
Автор книги: Гельмут (Хельмут) Хефлинг
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Школа-тюрьма
Школы гладиаторов с их жестокими наказаниями были похожи более на тюрьмы, чем на центры обучения боевому искусству. В тесноте, в отвратительных каморках без окон, площадью три-четыре квадратных метра жили и спали по двое. Это показывают и остатки казармы гладиаторов, раскопанной в Помпеях и принятой сначала ошибочно за солдатскую казарму или рынок. Найденные на месте раскопок визирные шлемы, которые носили только гладиаторы, однозначно свидетельствуют о том, что здание использовалось как школа гладиаторов; об этом же говорят надписи и изображения гладиаторов, нацарапанные на колоннах и стенах, затем объявления о гладиаторских играх на внешней стене, а также два рисунка, на которых в качестве трофеев изображено оружие гладиаторов.
Вокруг прямоугольной площади размером 56х45 метров первоначально располагались два больших зала, кровли которых поддерживали 74 дорические колонны. Помимо тюрьмы и большой кухни, а также многочисленных других помещений на двух этажах здания друг над другом размещались темные, сырые и грязные каморки (их было 71), в которых жили гладиаторы.
Извержение Везувия в 79 г. н. э., сопровождавшееся градом камней и тучами пепла, потоками лавы и лавинами грязи, а также выбросами ядовитых сернистых газов, застало врасплох в этой казарме гладиаторов перед театром в Помпеях 62 мужчин и одну женщину, знатную даму, которая, возможно, именно в этот момент хотела выразить герою арены свое восхищение. Так смерть одним ударом поразила гладиаторов, еще не успевших выйти на арену на свой последний поединок!
Древнейшие известные нам гладиаторские школы были основаны в Капуе в период Республики. Еще до окончания этого периода такая школа возникла и в Риме, и римский поэт Гораций (65-8 гг. до н. э.) упоминает Ludus Aemilius. Вскоре все ведущие учебные заведения в Риме оказались исключительно во владении императора. Четыре наиболее часто упоминаемые окружали амфитеатр Флавиев: Большая школа, Галльская школа, Дакийская школа, а также особое место для подготовки к звериным травлям. Среди обширных построек находились оружейный склад, кузница и морг. В многочисленный управленческий персонал входили преподаватели, оружейники, врачи, массажисты, могильщики, учетчики и надзиратели. Этот многочисленный аппарат подчинялся управляющим, высокопоставленным чиновникам, иные из которых были в ранге прокураторов из всаднического сословия.
Но императорские гладиаторские школы существовали и за пределами Рима, в Италии, как уже упоминалось, в Капуе, а затем в Равенне и Пренесте (Палестрина), а также за ее пределами – в Александрии и Пергаме (Бергамаль). Все они располагались в местностях с благоприятным климатом, ибо здоровье и самочувствие обреченных на смерть укрепляли силу и боевой дух во время поединка на арене. Вероятно, помимо этого существовали еще и другие школы во многих других римских провинциях Европы и Азии.
Но только хорошего воздуха недостаточно для поддержания здоровья – для этого необходимо и тщательно сбалансированное питание. Тому, кто в поединке должен искусно биться не на жизнь, а на смерть, нужна большая мускульная сила. В гладиаторских школах средством, особенно наращивающим мускулатуру, считался ячмень, поэтому он занимал в меню приоритетное место. Именно этому гладиаторы были обязаны насмешливым прозвищем hordearii, т. е. питающиеся ячменем. Медики строго следили за тем, чтобы предписанные продукты точно отпускались, готовились в соответствии с инструкцией и доставлялись гладиаторам. По словам Сенеки, гладиатор «за пищу и питье платит кровью».
Если же ячменную крупу смешивали с толчеными бобами, как это ежедневно происходило в школе Пергама, то мускулы и ткани становились вялыми, а не крепкими и сильными, как критически говорил об этом во II в. н. э. врач Гален Пергамский, который, будучи молодым человеком, пользовал гладиаторов. Современник Цицерона, энциклопедист Варрон, утверждает, что после упражнений в случае необходимости гладиаторам давали напиток из щелочной золы, который будто бы целительно воздействовал на внутренности, задетые ударом или уколом.
Опытные хирурги заботливо лечили страшные ранения, которые наносили гладиаторы друг другу. Упомянутый выше Гален Пергамский, один из знаменитейших медиков своего времени, ставший позже личным врачом Марка Аврелия, настоятельно подчеркивает, что благодаря его уходу и методам лечения удалось существенно понизить смертность среди бойцов. Физическую пригодность и высочайшую боеготовность гладиаторов обеспечивали и опытные массажисты школы, которые регулярно натирали тело бойцов маслом.
Страшная жестокость и самоубийства отчаявшихся
Тот, кто при найме приносил клятву, в которой выражал свое согласие с тем, что его можно «жечь, вязать, сечь и убить мечом», уже при этом получал первое представление о жестоких и бессердечных нравах, царивших в казармах гладиаторов. Нарушителей строгого порядка или возмутителей спокойствия секли, жгли раскаленным железом и заковывали в цепи, если не казнили. Мучения закованных в цепи заключенных можно себе представить, заглянув в тюрьму помпейской гладиаторской школы. В низкой камере, в которой можно было только лежать или сидеть, была найдена цепь, к которой за ноги приковывалось по десять заключенных. При раскопках наткнулись на четыре скелета бывших заключенных, которые, правда, не были прикованы за ноги этой цепью.
Для поддержания дисциплины в этих тренировочных центрах смертников, разумеется, были необходимы эффективные меры наказания, ибо эта беспорядочно подобранная толпа лихих молодцов полностью или большей частью состояла из преступников, военнопленных, рабов или отчаявшихся. А поскольку им была уготована участь жертв арены и терять им было нечего, они пытались выиграть все, а именно жизнь, всякий раз, как только для этого появлялась возможность. Но такая благоприятная возможность представлялась по воле случая редко, ибо из-за общего страха перед восстаниями гладиаторы не могли иметь в казармах оружие. Они жили в более или менее строгом заключении под охраной надзирателей, а в императорских школах – под охраной солдат.
И все же часто вспыхивали заговоры, бунты и побеги с применением силы. Бегство Спартака и его примерно 70 сотоварищей из школы в Капуе в 73 г. до н. э. представляет собой наиболее известный пример подобного рода, повлекший за собой тягчайшие последствия. Расправившись с охраной, им действительно удалось бежать, вооружиться и длительное время уходить от преследователей.
В 64 г. н. э. «гладиаторы в городе Пренесте попытались вырваться на свободу, но были усмирены приставленной к ним воинской стражей; а в народе, жаждущем государственных переворотов и одновременно трепещущем перед ними, уже вспоминали о Спартаке и былых потрясениях», – пишет Тацит.
Немногим лучше пришлось и 80 гладиаторам во время правления императора Проба (276–282 гг.). Правда, им сначала удалось вырваться из школы в Риме, предварительно расправившись с охраной, но затем они погибли после отважного сопротивления в бою с отрядом солдат, который преследовал их по приказу императора.
Лишь очень редко становилось широко известно о пытках и других злодеяниях, творившихся в строго изолированных лагерях смертников. Уже упоминавшийся случай с римским гражданином Фадием, который не поддался нажиму квестора Бальба и отказался выступать на арене в качестве гладиатора, за что и был заживо сожжен в гладиаторской школе, можно рассматривать лишь как один из многих.
Физические муки усиливались и душевными страданиями, особенно у людей чувствительных, которые по воле судьбы оказались среди этой массы грубых и отупевших, отверженных и униженных людей. Тому, кто видел лучшие времена, совместная жизнь с этой дикой ордой в величайшей тесноте и ежедневная муштра к последнему бою на арене казались вдвойне безнадежными. И даже если постыдная смерть, может быть, и не поджидала его в первом же бою, то он должен быть рассчитывать на то, чтобы быть убитым на ближайшем или на следующем цирковом представлении ради удовольствия кровожадной черни.
Итак, стоило ли вообще пытаться изо всех сил выжить в обществе нищеты, подлости и пороков?
Стоило ли жить ради такой жизни?
Разве не стоило страстно желать окончания этого прямо-таки скотского прозябания как избавления?
Страшная жестокость охранников и душевное напряжение каждого из этих загнанных несчастных людей накаляли атмосферу до предела. Эта накопившаяся ненависть гладиаторов неизбежно разряжалась, как вулкан, и направлялась на их охранников или против самих себя.
Такие самоубийства не удавалось предотвратить ни строжайшей охраной, ни строгим запретом хранить у себя оружие, которым гладиаторы убивали друг друга на арене. Тот, кто хотел покончить с невыносимыми муками, находил другие средства и пути для того, чтобы перехитрить надсмотрщиков и исполнить свой замысел.
Сенека описывает необычное самоубийство гладиатора: «Недавно, когда бойцов везли под стражей на утреннее представление, один из них, словно клюя носом в дремоте, опустил голову так низко, что она попала между спиц, и сидел на своей скамье, пока поворот колеса не сломал ему шею; и та же повозка, что везла его на казнь, избавила его от казни».
Даже если до нас дошли лишь отдельные случаи такого самоубийства, то тем не менее они имели место. Симмах, живший в IV в. н. э. и ставший в 391 г. римским консулом, рассказывает в своем письме о массовом самоубийстве, превосходящем по своему ужасу все известные нам случаи. Выйдя в маленьких суденышках из Северного моря в Атлантику, воины-саксы напали на побережье Галлии. Часть пленных, попавших в руки римлян, должны были выступать в качестве гладиаторов на устраиваемых Симмахом играх. Но для того чтобы не допустить триумфа победителя на арене, 29 германских военнопленных, несмотря на строгую охрану, задушили друг друга руками, продемонстрировав тем самым свою гордость и превосходство даже в положении побежденных.
Обучение по всем правилам искусства
«Молодых бойцов он отдавал в обучение не в школы и не к ланистам, а в дома римских всадников и даже сенаторов, которые хорошо владели оружием; по письмам видно, как настойчиво просил он их следить за обучением каждого и лично руководить их занятиями» – так Светоний описывает ту необыкновенную заботу, с которой Юлий Цезарь следил за профессиональной подготовкой вновь приобретенных гладиаторов к боям на арене.
Таким образом, Цезарь не удовлетворялся обычной подготовкой в школах, где для каждого вида вооружения имелись профессиональные и опытные ланисты. Тот, кого не просто, как скот на убой, выгоняли на арену без всякой тренировки – а и такое встречалось достаточно часто, – тот вначале проходил в гладиаторских казармах основательную выучку, а после ему преподавалось актерское мастерство, с которым виртуоз своего вида оружия приканчивал противника, что, естественно, возбуждало зрителей гораздо больше, чем неумелое убийство.
То же мы имеем и в наши дни на примере боя быков. Кто из огромного числа охочих до этого зрелища зевак пойдет на бойню, чтобы посмотреть, как приканчивают быка?
Начинали новобранцы с деревянного меча и упражнялись на столбе либо на чучеле, прежде чем получить тренировочное оружие, более тяжелое, чем то, с которым им предстояло выступать на арене. Эта подготовка проходила по всем правилам боевого искусства и с давних пор считалась образцовой. Как упоминалось выше, уже в 105 г. до н. э. консул П. Рутилий поручил ланистам из школы Г. Аврелия Скавра преподать легионерам «более изощренные приемы нанесения и отражения ударов».
Публика отлично разбиралась в употреблявшихся тогда технических терминах и во время боев гладиаторов на арене выкрикивала команды учителей их ученикам, что порой немало помогало участникам боя. Взаимные острые реплики тяжущихся сторон в суде побудили римского оратора Квинтилиана (около 35-100 гг. н. э.) сравнить их с ударами гладиаторов, «вторые позиции которых становятся третьими, если первая была исполнена для того, чтобы спровоцировать противника на удар, и четвертыми, если уловка двойная, так что необходимо дважды парировать и дважды нанести удар».
При обучении гладиаторов с ними обращались довольно жестоко, с тем чтобы вырастить их настоящими бойцами, способными не спасовать ни перед чем. Они не должны были отшатываться, если противник делал оружием выпад в лицо, что требовало особенной выдержки, об отсутствии которой у большинства членов гладиаторской школы Калигулы сокрушается римский ученый Плиний Старший.
Особое значение придавалось способности сражаться левой рукой, о чем свидетельствуют соответствующие изображения гладиаторов с мечом в левой руке. Особенно хорошо владел этим искусством император Коммод (180–192 гг.).
Снаряжение – на любой вкус
Впрочем, странного нет в вельможном актере, когда сам
Цезарь кифару взял. Остались дальше лишь игры —
Новый для Рима позор. Не в оружьи хотя б мирмиллона,
Не со щитом выступает Гракх, не с клинком изогнутым;
Он не хочет доспехов таких, отвергает с презреньем,
Шлемом не скроет лица; зато он машет трезубцем;
Вот, рукой раскачав, висящую сетку он кинул;
Если врага не поймал, он с лицом открытым для взоров
Вдоль по арене бежит, и его не узнать невозможно:
Туника до подбородка, расшитая золотом, с крупной
Бляхой наплечной, с которой висит и болтается лента.
Даже секутор, кому приказано с Гракхом сражаться,
Худший позор при этом несет, чем рана любая.
Такими насмешками римский сатирик Ювенал (ок. 60-100 гг. н. э.) осыпает потомка рода Гракхов, двое из которых[33]33
Двое из рода Гракхов – братья Тиберий (162–133 гг. до н. э.) и Гай (153–121 гг. до н. э.) Семпронии Гракхи, народные трибуны, боровшиеся за проведение глубоких социально-экономических реформ в интересах римского крестьянства.
[Закрыть] вошли когда-то в историю как народные трибуны. Но не только само выступление нынешнего Гракха на арене он рассматривает как оскорбление чести сословия; гораздо отвратительнее то, что этот добровольный гладиатор предстает не в качестве тяжеловооруженного мирмиллона, но мечется все время полуголым ретиарием.
На основании одних только этих строк видно, что гладиаторы различались снаряжением, пользовавшимся у публики различной популярностью. Одни болели за тот, другие – за иной род оружия, а порой восхищение перехлестывало через край и превращалось в спор или стычку между приверженцами разных типов гладиаторов.
Постоянно ведшиеся Римом войны порождали массы пленных, которых толпами принуждали участвовать в кровавой резне на потеху публике. Со времен Республики иноземных участников человеческой гекатомбы заставляли биться друг с другом не только в их экзотических, часто живописных одеждах, но и с их собственным оружием и по их обычаям. С этими особенностями разноплеменных бойцов связано появление некоторых категорий профессиональных гладиаторов, таких, как самниты, фракийцы или галлы.

Гладиаторы из Помпей
Самниты, прикрывавшиеся большим щитом в человеческий рост, бились короткими, прямыми мечами либо копьями. Кроме того, они были защищены поножью на левом бедре, а справа зачастую – наголенником; фартуком с поясом и повязкой на правой руке. Лицо прикрывал большой шлем с прорезями, бросавшийся в глаза своими широкими полями и огромным гребнем с султаном. Все вместе создавало впечатление великолепного тяжелого вооружения.
Защитой фракийцам также служили закрывавший лицо шлем и наручень на правой руке. Оружием нападения у них были серповидный меч либо кривой кинжал, а от ударов противника они защищались маленьким круглым или квадратным щитом. В противоположность самнитам, с которыми они порой скрещивали клинки, у них было две поножи.
Император Калигула принадлежал к приверженцам именно этого типа гладиаторов. Он сам был, как сообщает Светоний, «гладиатор и возница, певец и плясун… Нескольких гладиаторов-фракийцев он поставил начальниками над германскими телохранителями; гладиаторам-мирмиллонам он убавил вооружение, а когда один из них, по прозванию Голубь, одержал победу и был лишь слегка ранен, он положил ему в рану яд и с тех пор называл этот яд «голубиным» – по крайней мере так он был записан в списке его отрав».
Как нам известно от Светония, император Тит (79–81 гг.) также был поклонником фракийцев: «От природы он отличался редкостной добротой… К простому народу он всегда был особенно внимателен. Однажды, готовя гладиаторский бой, он объявил, что устроит его не по собственному вкусу, а по вкусу зрителей. Так оно и было; ни в какой просьбе он им не отказывал и сам побуждал их просить, что хочется. Сам себя он объявил поклонником гладиаторов-фракийцев, из-за этого пристрастия нередко перешучивался с народом и словами и знаками, однако никогда не терял величия и чувства меры.
Даже купаясь в своих банях, он иногда впускал туда народ, чтобы и тут не упустить случая угодить ему».
Тип снаряжения римских гладиаторов, именовавшийся галльским, был, по-видимому, заимствован в этрусской Кампании, а к этрускам попал от галльских племен Северной Италии. Выше мы уже упоминали о том, что на этрусских погребальных урнах III в. до н. э. были обнаружены рельефы, изображавшие поединки между двумя такими галлами и галлом и фракийцем. Вообще же подобные изображения, выбитые также на надгробиях, являются важнейшим свидетельством существования и многих других типов вооружения.
В эпоху Империи «галлы» были постепенно вытеснены так называемыми мурмиллонами (или мирмиллонами), называвшимися так по значку в виде морской рыбы на шлеме или каске. В их снаряжение входили галльский щит, а также меч и копье; поножей, однако, не было.

Гладиаторы. Рисунки из Помпей
В отличие от своего брата Тита, предпочитавшего фракийцев, император Домициан (81–96 гг. н. э.) был столь яростным приверженцем мурмиллонов, что эта почти болезненная любовь выразилась однажды в кровавой мести одному из болельщиков партии фракийцев. Светоний так описывает этот страшный случай:
«Отца семейства, который сказал, что гладиатор-фракиец не уступит противнику, а уступит распорядителю игр» (а им являлся сам Домициан), «он приказал вытащить на арену и бросить собакам, выставив надпись: «Щитоносец[34]34
Щитоносец – поклонник гладиаторов-фракийцев.
[Закрыть] – за дерзкий язык»».
Еще одним типом гладиаторов, также, возможно, имевшим глубокие исторические корни, был ретиарий, или боец с сетью. Одетые наподобие рыбаков в напоминавшую рубашку тунику, ретиарий кружили вокруг своих противников, пытаясь мгновенно набросить на них сеть, чтобы вывести из строя и заколоть кинжалом или трезубцем, напоминавшим тот, что употреблялся при ловле тунца. Если же жертва умело увертывалась, то ретиарий быстро подтягивал сеть к себе за специальный шнур и вновь начинал «ловлю». Главным противником ретиария наряду с мирмиллоном был секутор, т. е. преследователь, вооружение которого, так же как у тяжеловооруженного самнита, состояло из шлема с прорезью для глаз, меча и щита. Ретиарий, выступавший полуголым, без пышного снаряжения и даже без шлема, занимал низшую ступень среди гладиаторов и часто вынужден был влачить жалкое существование.
Обычно гладиаторские игры представляли собой серию дуэлей, т. е. именно поединков между двумя бойцами, однако порой устраивались и групповые бои, и даже настоящие битвы. Подобный бой между несколькими противниками с неожиданным исходом описывает Светоний в биографии Калигулы:
«Пять гладиаторов-ретиариев в туниках бились против пяти секуторов, поддались без борьбы и уже ждали смерти, как вдруг один из побежденных схватил свой трезубец и перебил всех победителей; Гай в эдикте объявил, что скорбит об этом кровавом побоище и проклинает всех, кто способен был на него смотреть».
Однако приведенный список отнюдь не исчерпывает всех типов гладиаторов. Были среди них и конные бойцы, такие, как андабаты, тело которых прикрывала парфянская кольчужная броня, а лицо – глухой шлем без прорезей для глаз. Вооружены они были длинными копьями, которые направляли друг на друга на полном скаку. Эсседарии же бились в британских колесницах, управлявшихся стоявшим рядом возницей.
Как против диких зверей, так и против других гладиаторов выступали на арене и лучники. Выходили на бой друг с другом и те, кто были вооружены двумя кинжалами каждый. Были и метатели петли, размахивавшие одновременно специальной кривой палкой, которую они держали в правой руке, а также бойцы, вооруженные маленьким щитом и изогнутым прутом в левой руке и кнутом в правой. Велиты, вооруженные копьем и метательным ремнем, бились друг с другом пешими.
В зависимости от места и времени действия менялись и некоторые особенности вооружения и снаряжения. Были и такие гладиаторы, которые могли выступать с различными видами оружия. Публика требовала смены впечатлений, поэтому методы взаимного уничтожения на арене отличались исключительным многообразием, так что термин «гладиатор» следует понимать в очень расширительном толковании, а не просто как «фехтовальщик».
Иерархия и дух товарищества
Гладиаторам одной школы разрешалось объединяться, например, с целью совместного поклонения богам-покровителям, к которым в первую очередь относились, естественно, Марс и Диана, а также Геркулес, победитель диких зверей и людей, затем Виктория, Фортуна, Немезида и даже лесное божество Сильван, как следует из надписи 177 г. н. э., посвященной гладиаторам Коммода. Совместные занятия тем или иным видом оружия, при строгой иерархии внутри этих видов, также способствовали сплочению соратников. Однако существовали и дружественные связи с другими братьями по оружию. Нам известны случаи выражения духа товарищества по отношению к павшим на арене, памятники которым сооружали их соратники либо управляющие школами.
На военизированную организацию школ указывают и титулы, которыми награждали активных бойцов, причем речь шла о терминах>и выражениях, созданных в подражание тем, что применяются в военном деле. Мудреная иерархия гладиаторов знала различные ступени и внутри отдельных родов оружия. Бойцы первого, второго, третьего и четвертого классов жили в раздельных помещениях, а некоторые из них настаивали Даже на том, чтобы выступать только против бойцов своего ранга.
Проявившие себя на арене могли рассчитывать на повышение; тем самым создавалось некое подобие офицерского корпуса, в задачи которого входили присмотр и командование «рядовыми» или «тиронами», как называли новобранцев, а также их тренировка. Последние выходили на арену и затем становились ветеранами. Лучшие из лучших превращались со временем в бойцов первого класса.
Те, кому в этой игре жизни со смертью удавалось выжить, получали деревянный меч (rudis) как знак освобождения. После этого такой боец становился свободным человеком и мог заняться преподаванием боевого мастерства или выступать сам в гладиаторских играх за хорошую плату. Так, Светоний сообщает, что император Тиберий (14–37 гг. н. э.) «приглашал даже отставных заслуженных гладиаторов за вознаграждение в сто тысяч сестерциев».
Наряду с различными рангами на военный манер бойцов характеризовали также и звучные либо ласкательные профессиональные имена-клички, которыми наделяла гладиаторов публика или они сами. Порой это были имена прославленных бойцов прошлого, порой – героев эпоса, а иной раз и имена прекрасных мальчиков из мифов и легенд, такие, как Гилас, Нарцисс и Гиацинт (свидетельство гомосексуальных страстей и склонностей, доказательством чему служат и надписи, сделанные в честь любимых гладиаторов).
Вообще к гладиаторам относились хуже, чем к шелудивым псам, но многих поражало присущее им чувство сословной чести. Они считали позорным стремление променять свое кровавое ремесло на какое-нибудь другое либо выступать на арене против более слабого противника. Эпиктет, философ Г столетия н. э., упоминает об императорских гладиаторах, негодовавших из-за того, что им не давали выступать. «Какие прекрасные годы пропадают зря!» – это восклицание Сенека услышал из уст одного мирмиллона, жаловавшегося на бессмысленную потерю времени в правление Тиберия, слишком редко устраивавшего гладиаторские игры. Это «безумство храбрых» служило для иных обоснованием циничных рассуждений в защиту столь унизительного для человека развлечения; утверждалось, что гладиаторы при этом получают не меньшее удовольствие, чем публика.
Невероятным может показаться и презрение к смерти, с которым миллионы гладиаторов веками вступали в свой последний бой, – и это после всех тех мучений, которые им пришлось испытать до того. Даже трусливые становились на арене отчаянными, ибо знали, что любовь к жизни менее всего способна вызвать сострадание зрителей. Осознание своей отверженности порождало в них безумную, яростную храбрость. Самые тяжелые ранения они переносили без единого стона. Ни кровавый спектакль, который разыгрывался на арене, ни вид гибнущих товарищей по несчастью не могли поколебать их моральной мощи и силы. Цицерон был также поражен столь удивительным мужеством. Почему, спрашивает он в «Тускуланских беседах», в сравнении с этой человеческой пеной римляне выглядят столь убого?
«Вот гладиаторы, они – преступники или варвары, но как переносят они удары! Насколько охотнее вышколенный гладиатор примет удар, чем постыдно от него ускользнет! Как часто кажется, будто они только о том и думают, чтобы угодить хозяину и зрителям! Даже израненные, они посылают спросить хозяев, чего те хотят, – если угодно, они готовы умереть. Был ли случай, чтобы даже посредственный гладиатор застонал или изменился в лице? Они не только стоят, они и падают с достоинством; а упав, никогда не прячут горла, если приказано принять смертельный удар! Вот что значит упражнение, учение, привычка, и все это сделал «грязный и грубый самнит, достойный низменной доли».
Если это так, то допустит ли муж, рожденный для славы, чтобы в душе его хоть что-то оставалось вялое, не укрепленное учением и разумом? Жестоки гладиаторские зрелища, многим они кажутся бесчеловечными, и, пожалуй, так оно и есть – по крайней мере, теперь; но когда сражающимися были приговоренные преступники, то это был лучший урок мужества против боли и смерти – если не для ушей, то для глаз».
Все больше крови!
«В должности эдила»[35]35
Эдил – римский магистрат, ведавший городскими делами – снабжением, надзором за рынками, дорожным строительством, а также проведением некоторых игр. Ежегодно избирались четыре эдила – два курульных и два плебейских, при Цезаре (в 46 г. до н. э.) добавилось еще два цериальных эдила, ответственных за раздачи зерна плебсу.
[Закрыть] – начальника городской и рыночной полиции и организатора представлений в цирке – «Цезарь украсил не только комиций и форум с базиликами, но даже на Капитолии выстроил временные портики, чтобы показывать часть убранства от своей щедрости. Игры и травли он устраивал как совместно с товарищем по должности, так и самостоятельно, поэтому даже общие их траты приносили славу ему одному. Его товарищ Марк Бибул открыто признавался, что его постигла участь Поллукса: как храм божественных близнецов на форуме называли просто храмом Кастора, так и его совместную с Цезарем щедрость приписывали одному Цезарю. Вдобавок Цезарь устроил и гладиаторский бой, но вывел меньше сражающихся пар, чем собирался; собранная им отовсюду толпа бойцов привела его противников в такой страх, что особым указом было запрещено кому бы то ни было держать в Риме больше определенного количества гладиаторов».
Что же именно побудило сенат принять такое ограничительное решение?
Начиная с первых гладиаторских игр, организованных должностными лицами – консулами 105 г. до н. э. П. Рутилием Руфом и Гаем Манилием, в эпоху заката Республики все чаще стали находиться государственные мужи, стремившиеся использовать в своих интересах огромное пропагандистское влияние расточительных мероприятий подобного рода. Теперь не только осененные славой полководцы выставляли на арену колонны гладиаторов, чтобы отпраздновать свой триумф, но и магистраты всех рангов додумались таким образом добиваться благосклонности народа.
Среди них были и эдилы, устраивавшие в дополнение к театральным и цирковым представлениям также гладиаторские бои, как Цезарь. Его намерение послать на арену несколько сот пар бойцов так напугало сенат, что он законодательным путем ограничил число гладиаторов, которые могут находиться в собственности частного лица. Одной из целей было предотвращение возможного манипулирования общественным мнением. Тем не менее в тот раз все же выступило 320 пар, а бои продолжались несколько дней. Щедрость, которую Цезарь выказывал при организации всякого рода представлений и торжеств, а также общественных трапез, совершенно затмила усилия всех его предшественников. «Но и народ, со своей стороны, стал настолько расположен к нему, – подтверждает Плутарх, – что каждый выискивал новые должности и почести, которыми можно было вознаградить Цезаря».
Уже через два года, т. е. в 63 г. до н. э., сенат законодательно запретил всем будущим магистратам в течение двух лет перед соисканием должности организовывать гладиаторские бои, если только их не обязывало к тому чье-либо завещание.
Такие ограничительные постановления сената имели под собой и иные основания. В 73–71 гг. до н. э. гладиаторы впервые выступили как солдаты, когда бежавший из школы Спартак буквально из ничего слепил сильное войско рабов и гладиаторов, поставив тем самым Рим в крайне тяжелое положение. Пережитый страх не покидал многих. В последние же годы Республики опасения еще более укрепились, когда честолюбивые и решительно настроенные политики стали обзаводиться своего рода гвардией телохранителей из числа гладиаторов, чтобы в крайнем случае добиваться достижения политических целей силовыми методами.
Угрозу давления на государство с помощью войска, составленного из гладиаторов, сенат ощутил во время заговора Каталины.[36]36
Заговор Каталины-один из эпизодов социально-политического кризиса Римской республики, ставший особенно знаменитым благодаря четырем речам Цицерона, произнесенным против Каталины, и специальной монографии историка I в. до н. э. Гая Саллюстия Криспа «Заговор Каталины». Луций Сергий Каталина (108-62 гг. до н. э.) – обедневший римский патриций. Несколько раз потерпев неудачу на консульских выборах, организовал заговор. Пользовался поддержкой имевших долги аристократов, а также неимущего городского плебса и молодежи, обещая ликвидировать задолженность. Заговор не удался, ряд сторонников Каталины были казнены в Риме, а сам он пал в бою в Этрурии.
[Закрыть] На заседании 21 октября 63 г. до н. э., созванном в связи с необходимостью его подавления, сенат решил вывести расположенные в столице войска гладиаторов в Капую и другие города, с тем чтобы лишить мятежников опасного оружия.
Не будь принята эта мудрая мера предосторожности, приверженцам Каталины, возможно, удалось бы превратить имевшиеся в их распоряжении отряды гладиаторов в инструмент политического террора, столь же (если не более) отвратительный, как и тот, к которому прибегали позднее Клодий и Милон[37]37
Клодий и Милон – Публий Клодий Пульхр (ок. 92–52 гг. до н. э.), лидер популяров, и Тит Анний Милон (95–48 гг. до н. э.), сторонник оптиматов, создали собственные вооруженные отряды. Клодий был убит приспешниками Милона, а тот был приговорен к изгнанию и убит при попытке вернуться в Рим.
[Закрыть] с их вооруженными приспешниками. Яркий свет на эти обстоятельства проливает одно из писем Цицерона (56 г. до н. э.): «Так противодействуют изданию самых пагубных законов, особенно законов Катона, которого отменно провел наш Милон. Ибо тот покровитель гладиаторов и бестиариев купил у Коскония и Помпония бестиариев, и они всегда сопровождали его в толпе с оружием в руках. Прокормить их он не мог и потому с трудом удерживал их. Милон это проведал; он поручил кому-то не из близких ему людей купить этих рабов у Катона, не вызывая подозрений. Как только их увели, Рацилий, единственный в то время настоящий народный трибун, разгласил это и сказал, что эти люди куплены были для него (ибо таков был уговор), и вывесил объявление о продаже рабов Катона».