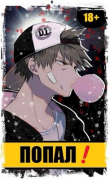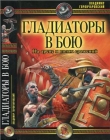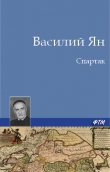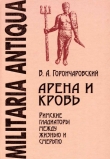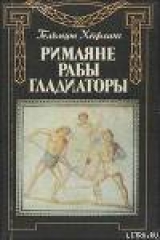
Текст книги "Римляне, рабы, гладиаторы: Спартак у ворот Рима"
Автор книги: Гельмут (Хельмут) Хефлинг
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Напрасно Спартак повторял просьбы и приказы, призывая своих бойцов к умеренности. Словно сорвавшись с цепи, бесновались орды рабов, усиленные беглецами, присоединившимися к основному ядру по пути и больше других жаждущими отмщения и особенно рьяно стремившимися разжиться добычей. Не имея возможности предотвратить разбой, Спартак по крайней мере сократил его продолжительность. Через сутки ужасы прекратились, ибо уже на следующее утро он приказал играть поход. И теперь с новой ордой, за счет притока рабов усилившейся вдвое, он двинулся в долину, надеясь значительно пополнить запасы провианта, тем более что наступало время сбора урожая.
На этом месте обрываются, к сожалению, и наиболее значительные отрывки из рассказа Саллюстия. Прочие же сообщения античных авторов об этом периоде войны Спартака отличаются, как сказано выше, совершенной недостаточностью. Так, в повествовании Плутарха отход армии рабов в Луканию вообще отсутствует. Одной-единственной фразой он сообщает своему читателю о том, что после побед Спартака над легатами Фурием и Коссинием несколько поражений подряд потерпел и сам претор Вариний, в конце концов потерявший своих ликторов и коня, доставшихся врагу.
Где и когда случился этот разгром, точно нам не известно. Однако немногие данные, имеющиеся в нашем распоряжении, позволяют предположить, что римские солдаты определенно просчитались в оценке боевой мощи армии рабов. Конечно, они ожидали встретить толпу сбежавшейся отовсюду черни, натолкнулись же на мощное, прекрасно организованное войско. Насколько безобразно вели себя орды беглых рабов в отношении мирного населения, настолько же дисциплинированно они выступали под руководством Спартака против вооруженных римлян.
Впечатление, произведенное войском противника, должно было быть достаточно велико, и оно усилилось еще больше, когда дело дошло до прямого столкновения. Чем больше храбрости и решительности проявлял противник, тем быстрее улетучивалась вера римлян в собственные силы. Сознание борьбы за собственную жизнь укрепляло боевой дух рабов и гладиаторов.
Под мощными их ударами ряды римлян дрогнули. Когда солдаты увидели, что товарищи их падают замертво, они, покинув своего полководца, обратились в бегство. Лишь с большим трудом Варинию удалось спастись. Конь претора, а также его ликторы, несшие знаки его власти (фасцы – связки прутьев с воткнутыми в них топориками), вместе со всем римским лагерем достались презренным рабам.
Как и во всех предыдущих боях, Спартак одержал победу и на этот раз, выглядевшую тем более блистательной, чем более позорным казалось поражение римлян.
Надо сказать, что не только беда, но и успех также не приходит один. В последующие недели и месяцы зимы 73/72 г. до н. э. приток южноиталийских рабов в армию повстанцев все усиливался. Однако, чем больше становилось бойцов, тем острее ощущался недостаток в оружии, который Спартак вновь решил преодолеть собственными силами. В данной связи Аппиан и Флор упоминают о том, что он приказал собрать всю необходимую для ведения боевых действий технику, вновь перековать на мечи весь металл, а щиты плести из ивы и обтягивать кожами. У Флора можно найти также указание на подготовку конницы, стратегическое значение которой Спартак сумел оценить.
Не встречая сколь-либо серьезного сопротивления, рабы прочесывали Южную Италию, повсюду оставляя за собой следы опустошения. «Только что покинутая рабами Кампания вновь была ими захвачена, а остававшийся там римский корпус раздавлен и стерт в порошок», – говорится в «Римской истории» Теодора Моммзена. Земли на юге и юго-востоке Италии полностью контролировались армией рабов, так что даже значительные города были взяты и «пережили все ужасы, которые только могут принести варвары беззащитным цивилизованным гражданам, а вырвавшиеся рабы – своим бывшим хозяевам. То, что ни о каких правилах в этой более походившей на резню войне не могло быть и речи, разумеется само собой: в полном соответствии с установленным ими самими правом господа распинали всякого беглого и пойманного раба на кресте; последние поступали со своими пленниками точно так же…». Вскоре власть Спартака распространилась на область, простиравшуюся между захваченными городами Нолой и Нуцерией (Ноцерия) в Кампании, Метапонтом (Торремаре) и Фуриями (Сан-Мауро) в Лукании, а также Козенцией (Козенца) в Брутии (нынешняя Калабрия).
В античную эпоху с началом зимы всякие боевые действия обычно прекращались. Все усилия, предпринятые Римом против повстанцев с весны 73 г. до н. э., оказались тщетными. Спартак одерживал победу за победой, и всюду, где бы ни появлялись не знавшие жалости к господам повстанцы, рабы приветствовали их как своих освободителей. И их постоянный приток все усиливал пожар ужасной войны, все в большей степени охватывавшей страну.
С 70 или 78 товарищами Спартак весной 73 г. до н. э. бежал из гладиаторской школы в Капуе, а менее чем через год он стоял во главе по меньшей мере сорокатысячной армии. По Аппиану, его силы доходили до 70 000 рабов. Пусть даже число это сильно преувеличено, но оно все равно свидетельствует о необычайном размахе восстания рабов. За исключительно короткий срок власть Спартака стала действительно огромной, причем нельзя забывать, что не только удача и случай вели к победам проданного в гладиаторы фракийца, но и в гораздо большей степени присущие ему духовные качества истинного вождя, позволившие Спартаку стать настоящим полководцем.
В Риме же к тому времени осознали наконец чудовищные размеры надвигающейся опасности: восстание гладиаторов и рабов под предводительством Спартака грозило потрясти устои всей страны.
Рабы – разумный скот для властителей мира
Один – за всех, все – за одного. Круговая порука рабов
За несколько месяцев восстание гладиаторов разрослось в войну рабов. Одни вырывались из тюрем гладиаторских школ, другие массами бежали из хижин и эргастулов крупных землевладельцев, ибо они, по римскому закону считавшиеся не людьми, а вещами, вместе страдали под игом господ, угнетавших и унижавших их. Таким «двуногим скотом» можно было обладать и распоряжаться, как и любой другой вещью. Раб был бесправен и на веки вечные отдан на милость своего господина.
На редкость ясное представление о структуре римского общества, трудящиеся слои которого составляли рабы и вольноотпущенники, дает скандал вокруг массовой казни, последовавшей вслед за убийством преступным рабом в 61 г. н. э. городского префекта богача Луция Педания Секунда. Этот случай очень подробно описывается в Тацитовых «Анналах». Рассказав о привлекших всеобщее внимание преступлениях некоего сенатора, совершенных им в том же году, он переходит к интересующей нас теме:
«Немного позднее префекта города Рима Педания Секунда убил его собственный раб то ли из-за того, что, условившись отпустить его за выкуп на волю, Секунд отказал ему в этом, то ли потому, что убийца, охваченный страстью к мальчику, не потерпел соперника в лице своего господина. И когда в соответствии с древним установлением всех проживавших с ним под одним кровом рабов собрали, чтобы вести на казнь, сбежался простой народ, вступившийся за стольких ни в чем не повинных, и дело дошло до уличных беспорядков (таким образом, в эпоху императора Нерона (54–68 гг. н. э.) народ восставал против строгих правил древности и требовал их смягчения, рассматривая при этом и рабов в качестве людей, являвшихся, однако, людьми лишь де-факто, де-юре же продолжавших оставаться вещами. – Авт.) и сборищ перед сенатом, в котором также нашлись решительные противники столь непомерной строгости, хотя большинство сенаторов полагало, что существующий порядок не подлежит изменению. Из числа последних при подаче голосов выступил со следующей речью Гай Кассий:
«Я часто присутствовал, отцы сенаторы, в этом собрании, когда предлагались новые сенаторские постановления в отмену указов и законов, оставшихся нам от предков; я не противился этому, и не потому, чтобы сомневался, что некогда все дела решались и лучше, и более мудро и что предлагаемое преобразование старого означает перемену к худшему, но чтобы не думали, что в своей чрезмерной любви к древним нравам я проявляю излишнее рвение. Вместе с тем я считал, что если я обладаю некоторым влиянием, то не следует растрачивать его в частных возражениях, дабы оно сохранилось на тот случай, если государству когда-нибудь понадобятся мои советы. Ныне пришла такая пора. У себя в доме убит поднявшим на него руку рабом муж, носивший консульское звание, и никто этому не помешал, никто не оповестил о готовящемся убийстве, хотя еще нисколько не поколеблен в силе сенатский указ, угрожающий казнью всем проживающим в том же доме рабам. Постановите, пожалуй, что они освобождаются от наказания. Кого же тогда защитит его положение, если оно не спасло префекта города Рима? Кого убережет многочисленность его рабов, если Педания Секунда не уберегли целых четыреста? Кому придут на помощь проживающие в доме рабы, если они даже под страхом смерти не обращают внимания на грозящие нам опасности? Или убийца на самом деле, как не стыдятся измышлять некоторые, лишь отомстил за свои обиды, потому что им были вложены в сделку унаследованные от отца деньги или у него отняли доставшегося от дедов раба? Ну что же, в таком случае давайте провозгласим, что, убив своего господина, он поступил по праву.
Быть может, вы хотите, чтобы я привел доводы в пользу того, что было продумано людьми, превосходящими меня мудростью? Но если бы нам первым пришлось выносить приговор по такому делу, неужели вы полагаете, что раб, решившийся убить господина, ни разу не бросил угрозы, ни о чем не проговорился в запальчивости? Допустим, что он скрыл ото всех свой умысел, что припас оружие без ведома всех остальных. Но неужели ему удалось обмануть охрану, открыть двери спальни, внести в нее свет, наконец, совершить убийство и никто ничего не заметил? Многие улики предшествуют преступлению. Если рабам в случае недонесения предстоит погибнуть, то каждый из нас может жить спокойно один среди многих, пребывать в безопасности среди опасающихся друг друга, наконец, знать, что злоумышленников настигнет возмездие. Душевные свойства рабов внушали подозрение нашим предкам и в те времена, когда они рождались среди тех же полей и в тех же домах, что мы сами, и с младенчества воспитывались в любви к своим господам. Но после того как мы стали владеть рабами из множества племен и народов, у которых отличные от наших обычаи, которые поклоняются иноземным святыням или не чтят никаких, этот сброд не обуздать иначе как устрашением. Но погибнут некоторые безвинные? Когда каждого десятого из бежавших на поле сражения засекают палками насмерть, жребий падает порою и на отважного. И вообще всякое примерное наказание, распространяемое на многих, заключает в себе долю несправедливости, которая, являясь злом для отдельных лиц, возмещается общественной пользой».
Никто не осмелился выступить против Кассия, и в ответ ему раздались лишь невнятные голоса сожалевших об участи такого множества обреченных, большинство которых, бесспорно, страдало безвинно, и среди них старики, дети, женщины; все же взяли верх настаивавшие на казни. Но этот приговор нельзя было привести в исполнение, так как собравшаяся толпа угрожала взяться за камни и факелы. Тогда Цезарь, разбранив народ в особом указе, выставил вдоль всего пути, которым должны были проследовать на казнь осужденные, воинские заслоны. Цингоний Варрон внес предложение выслать из Италии проживавших под тем же кровом вольноотпущенников, но принцепс воспротивился этому, дабы древнему установлению, которого не смогло смягчить милосердие, жестокость не придала большую беспощадность».
Так повествует Тацит, не только воздерживаясь от осуждения, но и не произнося ни слова в защиту осужденных. В пользу невинных рабов говорят лишь эмоции, но не аргументы.
Рабство с древнейших времен
«С самого часа своего рождения одни предназначаются для подчинения, другие – для господства» – эта фраза греческого философа Аристотеля (384–322 гг. до н. э.) прекрасно характеризует отношение античности к рабству. Лишь тогда хозяйство считалось совершенным, когда состояло из свободных и рабов. Именно поэтому рабовладение представлялось чем-то вечным и неизменным.
Еще раньше были преданы забвению утверждения некоторых греческих софистов, будто бог сотворил всех людей свободными и по природе никого из них не предназначал в рабы. И все же обоснование Аристотелем системы рабства оказалось небесспорным и обсуждалось все более и более ревностно. Несколько позже утверждение о том, будто варварское происхождение или плен являются достаточными условиями для обоснования рабства, начали отрицать стоики, приверженцы влиятельной эллинистической философской школы. Их строгая этика утверждала, что лишь по внутреннему нравственному состоянию человека можно судить о свободе либо рабстве. Лишь мудрец истинно свободен, невежде же и злодею предназначено быть рабом (странное, право, стремление приравнять добро и знание!).
Однако в жестоком мире действительности приверженцы Стой не могли произвести какого-либо значительного изменения в римских нравах. Значительный приток рабов в Рим и связанная с ним повышенная опасность социальных беспорядков заставили возвратиться к аристотелевским воззрениям, как это произошло, например, со стоиком Панетием во II в. до н. э. Самое крайнее, на что решались философы, – это требование о смягчении личной судьбы рабов, с которыми, по их мнению, следовало обращаться как с пожизненными наемными работниками. Новые правовые отношения при этом не возникали: рабство продолжало рассматриваться как несчастье наряду с другими ударами судьбы.
Цицерон (103-43 гг. до н. э.), величайший римский оратор, а после смерти Цезаря вождь сената, в своих философских трудах развивает аристотелевское положение о том, что один человек рожден для подчинения, а другой – для господства. Так как некоторые работы недостойны свободного человека, то сама свобода граждан предполагает наличие рабства. В другом месте Цицерон разбирает вопрос о том, следует ли кормить рабов при вздорожаниях, а также о том, кого следует спасать при кораблекрушении в первую очередь – прекрасного коня или дешевого раба.
Но еще и в первые годы Империи эллинизированный иудейский философ Филон Александрийский (ок. 20 г. до н. э. – 54 г. н. э.) отстаивал законность приобретения рабов на основании недоказанного утверждения о том, будто цивилизация не может обойтись без рабства.
Таким образом, для человека античности рабство было чем-то само собой разумеющимся, так что полное лишение всех прав и эксплуатацию, связанные с этим институтом, он не рассматривал в качестве особой несправедливости. В этом отношении римский мир также не составлял исключения, если, правда, не принимать в расчет того, что масштабами рабовладения он значительно превзошел все существовавшие до него цивилизации.
Римляне держали рабов с самых древних времен, хотя и в небольших количествах. В распространенном в раннеримскую эпоху мелком крестьянском хозяйстве отец семейства, работавший вместе с детьми, в дополнительных рабочих руках ни по дому, ни в поле особенно не нуждался. Так что раб-слуга и работал вместе со своим господином, и ел с ним за одним столом.
Однако с ростом богатства в Риме резко возросло и число рабов. Причин тому было много. Так, после Пунических войн (264–146 гг. до н. э.), в которых Рим боролся с Карфагеном за господство в западной части Средиземного моря, свободное крестьянство в Южной Италии и Сицилии было практически сведено на нет, а дешевая крестьянская земля досталась помещикам. Одновременно крупные сельскохозяйственные имения все больше вытесняли оставшиеся мелкие крестьянские хозяйства. Римские магистраты возвращались на родину с богатой военной добычей и награбленным в чужих странах добром и, скупая у обедневших и задолжавших крестьян их земли, составляли огромные поместья. Лишенные собственности хозяева двинулись в город, где жизнь из-за постоянных хлебных раздач была дешевле, из-за постоянного прироста благ цивилизации – легче, а из-за всякого рода публичных игр – просто веселее. Огромные латифундии обрабатывались рабами, которых предпочитали свободным гражданам из-за их дешевизны и невозможности использования в качестве солдат в войнах, постоянно ведшихся Римом. Таким образом рабы заменяли свободных крестьян, постоянно находившихся «под ружьем» и часто и в больших количествах погибавших во имя так называемой славы Отечества.
Другой причиной возрастания численности рабов стала широко распространившаяся роскошь. Из своих военных походов римляне привозили домой огромную добычу, в которой были и богатства царей, и произведения искусства чужих городов, и огромные репарационные платежи, и почти бесплатная рабочая сила. Это новое благосостояние породило и утонченный образ жизни, связанный с множеством неизвестных дотоле потребностей. Удовлетворение их делало необходимым использование огромного количества рабов.
Да и присмотр за рабами, и снабжение их всем необходимым также требовали привлечения многочисленного персонала, состоящего из рабов. Затем со II в. до н. э. римляне все шире применяли рабов в производстве, в первую очередь на верфях и оружейных фабриках, как это до них делали греки.
Источники приобретения рабов
Крупным землевладельцам требовались сотни рабов для работы на полях, в мастерских, для присмотра за скотом. Однако число их значительно возрастало, если господин, как это было принято, имел в городе Дом с многочисленной прислугой, а также участвовал в каком-либо ремесленном или промышленном предприятии. Такому человеку могли требоваться тысячи рабов.
Откуда же римляне черпали такие армии рабов?
Основным источником притока рабов являлись конечно же войны, ведшиеся Римом с редкими перерывами во все времена его господства. Значительную часть Добычи составляли вражеские армии, не уничтожавшиеся безжалостно победителем, хотя последний имел на это право, но продававшиеся на месте либо отсылаемые с квестором к работорговцам, следовавшим за легионерами по пятам.
Столетиями римлянам доставались исключительно богатые «людские» трофеи. В первой Пунической войне (264–241 гг. до н. э.) римские войска взяли 75 000 пленных, а во второй (218–201 гг. до н. э.) – 30 000 в одном только городе Таренте. За пять десятилетий, с 200 по 150 г. до н. э., сделавших Рим мировой державой, из эллинистического мира было выведено, по оценкам специалистов, около 250 000 пленных – число исключительно большое для античной эпохи. Велик был приток и азиатских рабов, последовавший за успешными военными походами 189–188 гг. против царя Антиоха III из династии Селевкидов. Луций Эмилий Павел продал после взятия Эпира в 168 г. до н. э. 150 000 человек, а после победы Мария над германцами в 102–101 гг. до н. э. римляне получили пополнение рабов.
Следующим крупным событием, имевшим аналогичные последствия, стали войны Цезаря в Галлии. Так, например, из народа адуатуков, вначале вступившего с ним в союз, а после ухода римских войск предавшего его, Цезарь продал в рабство 53 000 человек. Когда годом позже он подчинил кельтское племя венетов в Британии, он приказал казнить его вождей, а весь народ увести в рабство. После галльских войн Цезаря рынки затопили почти полмиллиона рабов. Сотни тысяч пленных были захвачены и в ходе войн периода ранней Империи.
Другим источником получения рабов наряду с войнами являлось похищение людей, существовавшее на протяжении всей античности (о нем упоминает даже Гомер). В подлинное несчастье похищение людей превратилось во времена киликийских пиратов, уводивших в рабство не только экипажи и пассажиров захваченных кораблей, но и опустошавших обширные области побережья Средиземного моря, в том числе и италийского, причем проделывавших это часто заодно с высокопоставленными римлянами. По мнению Страбона, греческого географа, жившего в Риме, резкий подъем киликийского пиратства и связанной с ним работорговли начался с восстания Диодота Трифона против царя Деметрия II[74]74
Царь Деметрий II – правитель государства Селевкидов.
[Закрыть] в 145 г. до н. э. Целые города и области были беззащитны перед лицом пиратов, а враждующие стороны не брезговали пользоваться их услугами для разграбления нейтральных городов. Свой товар они выставляли напоказ на публичных рынках, и в первую очередь на эгейском острове Делос, бывшем главным рынком рабов Римской державы. В 67 г. до н. э. Помпею удалось уничтожить политическое влияние морских разбойников, однако ремесло их продолжало существовать.
То же касается и разбойников, грабивших путешественников на сухопутных дорогах страны и рассматривавших в качестве желанной добычи не только имущество жертвы, но и ее самое. Из некоторых надписей в Малой Азии мы можем узнать, что местные разбойники похищали молодых людей и уводили их в горы. Если похитители не могли получить достаточно большого выкупа, то продавали жертву в рабство.
Похищения людей случались и в Италии. О них рассказывает Светоний в своей биографии первого римского императора Октавиана Августа:
«Общей погибелью были многие злые обычаи, укоренившиеся с привычкой к беззаконию гражданских войн или даже возникшие в мирное время. Немало разбойников бродили средь бела дня при оружии, будто бы для самозащиты: по полям хватали прохожих, не разбирая свободных и рабов, и заключали в эргастулы помещиков», где цепи с них не снимали даже во сне, а на работу узники должны были выходить в кандалах. «Против разбоев Август расставил в удобных местах караулы, эргастулы обыскал».
Примерно то же сообщает Светоний и о Тиберий, взошедшем на трон вслед за Августом в 14 г. н. э. Но еще раньше «гражданскую деятельность он начал с того», что тщательно обыскал эргастулы по всей Италии, «хозяева которых снискали всеобщую ненависть тем, что хватали и скрывали в заточении не только свободных путников, но и тех, кто искал таких убежищ из страха перед военной службой».
И даже в самом Риме неопытные чужестранцы могли попасться в ловушку и быть проданными в рабство. Как сообщает Сократ, арендаторы пекарен, имевшихся начиная с Августовой эпохи во всех кварталах города на Тибре, со вступлением на трон императора Феодосия в 379 г. переоборудовали свои лавки в кабаки с борделями. Таким образом они привлекали чужестранцев в комнаты, где их должны были ожидать любовные утехи; однако пол под посетителем вдруг проваливался, и он оказывался в подвале дома, где его запрягали в качестве тяглового скота в мельницу.
Естественно, содержался он в качестве раба, так что и близкие ничего о нем узнать не могли.
Подобная практика, как, впрочем, и долговое рабство в древние времена, и продажа детей в рабство, с массовым ввозом рабов в сравнение, конечно, идти не могла. В провинциях такое случалось чаще, чем в столице, ибо обнищавшим крестьянам не оставалось порой ничего другого, как продажа самих себя вместе с женой и детьми в рабство, что позволяло выплатить по крайней мере часть ужасающего долга и хоть как-то поддержать свое существование.
Другим значительным источником пополнения армии рабов было их, так сказать, самовоспроизводство, ибо рождение рабов в доме или поместье хозяина означало прямое прирастание его имущества. Поэтому землевладелец был заинтересован в таком умножении рабов не меньше, чем в плодовитости своего скота. Дети рабынь с рождения становились рабами, даже если отец их был свободным, так как рабыня не могла вступить в законный брак. Таким образом, ее дети автоматически становились собственностью владельца матери.
Правила работорговли
В течение нескольких последних веков Республики главным потребителем рабов были знатные римляне. Италия продолжала оставаться ведущим центром рабства еще два столетия после рождения Христа. Главным же рынком работорговли между Западом и Востоком являлся остров Делос, где наряду с караванными восточными товарами прежде всего спросом пользовались рабы. Уверения Страбона, что в течение одного дня на пристани острова сходили и вновь поднимались на палубы других кораблей десятки тысяч рабов, следует, по-видимому, считать преувеличением, однако мы не ошибемся, оценив «дневной оборот» в тысячи человек. Постоянно их подвозили из стран, где похищение людей было поставлено на широкую ногу, – Сирии, Вифинии, Понта и Каппадокии. Кроме того, алчные римские купцы и государственные откупщики также были не прочь поохотиться за беззащитными жителями провинций, и даже цари не гнушались этим грязным ремеслом.
Не только за пределами Вечного города, но и в самом Риме работорговля считалась обычным, хотя и постыдным делом, однако и вполне достойные люди, такие, как Катон Старший (234–149 гг. до н. э.), не отказывались вкладывать в нее свои деньги. Наряду с публичными рынками существовали и торговые дома, такие, как тот, что был расположен рядом с храмом Кастора. На продаже человеческого товара зарабатывали не только работорговцы, но и государство, получавшее с каждого раба ввозной и продажный налог. Через эдилов, защищавших покупателя постановлениями и распоряжениями от обмана со стороны продавцов, оно осуществляло контроль за работорговлей.
Для осмотра покупателями рабы обнаженными выставлялись на специальном помосте. Интересующиеся покупкой ощупывали и разглядывали их, требовали продемонстрировать физическую силу, умения и умственные способности. Покупатель мог также поинтересоваться, какими искусствами владеет предлагаемый к продаже раб.
Забеленные мелом или гипсом ступни служили знаком того, что раб только что привезен из-за моря; на шее же у него была записка с указанием места рождения, возраста, умений и возможных недостатков. Продавец не имел права умалчивать о физических недостатках или болезнях, так же как и о том, что продает беглого раба. Достоверность предоставленной информации подтверждалась ручательством продавца. Знаком нежелания продавца брать на себя какие бы то ни было гарантии служила шапка, надетая на продаваемого раба. Точно так же поступали и квесторы, выставляя на продажу военнопленных, на голову которых надевались венки в знак того, что государство за них никак не ручается. Лучшие экземпляры человеческой породы, так же как и рабы, рожденные в доме хозяина, на продажу вместе с остальными не выставлялись. В эпиграммах Марциала мы находим следующие строки:
Долго и много по всей слонялся Мамурра Ограде,
Там, куда Рим золотой тащит богатства свои,
Мальчиков нежных он всех осмотрел, пожирая глазами,
Только не тех, что стоят всем напоказ у дверей.
Но сохраняемых там, за особою перегородкой,
Чтоб их не видел народ или такие, как я.
Более подробно о правилах работорговли мы узнаем из законодательства. В первой книге к эдикту курульных эдилов Ульпиан[75]75
Ульпиан – Домиций Утыгаан (ок. 170–228 гг. н. э.), префект претория с 222 г., выдающийся римский юрист.
[Закрыть] говорит следующее:
«Следует, однако, знать, что во многих случаях гражданин за сказанное им не может отвечать перед законом. Так, это касается обычной похвалы раба (например, при его продаже), когда он именуется порядочным, честным и исполнительным. Как пишет Педий,[76]76
Педий – Секст Педий, римский юрист, живший в I–II вв. н. э.
[Закрыть] существует большая разница между тем, что сказано, чтобы просто похвалить раба, и тем, что обещано, за что продавец готов отвечать и ручаться. Если он формально поручился за то, что предлагаемый для продажи раб не игрок и не вор, то он должен отвечать за свои ручательства».
В другом месте мы находим рассуждения о здоровье и физических недостатках, которые сегодня могут нам показаться смешными:
«Что касается здоровья раба, то Вивиан[77]77
Вивиан – римский юрист I – начала II в. н. э.
[Закрыть] считает, что мы не можем считать людей с душевными недостатками менее здоровыми, иначе, если это произойдет, нам придется на этом основании отказать в здоровье легкомысленным, суеверным, гневливым, строптивым и людям с подобными недостатками.
Спрашивают также, можно ли считать здоровым заику, человека, говорящего неразборчиво, неясно или же слишком медленно, либо человека с О– или X-образными ногами. Я думаю, что эти люди здоровы.
Если какая-либо рабыня продается беременной, то все сходятся на том, что она здорова. Ибо одной из важнейших задач женщины является восприятие плода и его вынашивание…
Если же человек этот мочится в постель, то здоровье его под вопросом. Педий считает, что человек отнюдь не болен, если он во сне, да еще под воздействием вина, отказывается вставать и так справляет свою надобность; если же его мочевой пузырь не способен удерживать собравшуюся жидкость вследствие органического недостатка, то тогда… возможна подача жалобы».
Прочие ручательства работорговца Гай[78]78
Гай – римский юрист II в. н. э.
[Закрыть] трактует в первой книге к эдикту курульных эдилов следующим образом:
«Если продавец ручается, что проданный им раб – спокойный и уравновешенный человек, то нельзя от него требовать достоинства и твердости характера философа; или если он поручился, что раб – работящий и бдительный человек, то нельзя от него требовать, чтобы он работал день и ночь. Исполнения такого рода ручательств можно требовать лишь в некоторой разумной мере. То же касается и иных ручательств продавца. Продавец, утверждающий, что повар, проданный им, превосходен, должен отвечать за его способность продемонстрировать высшие образцы своего искусства; если же он охарактеризовал его как просто повара, то сделал достаточно, если последний удовлетворяет этому званию. То же касается и всех других искусств».
Цены на рабов значительно колебались в зависимости от спроса и предложения, способностей, талантов, возраста и внешнего вида, а также эпохи. Прекрасные юноши и девушки, танцоры, музыканты и люди, обученные какому-либо ремеслу, стоили значительно дороже обычных сельскохозяйственных рабочих. Росту цен способствовала и всевозрастающая роскошь.
Рабы везде и всюду
В последние десятилетия Республики потребность в рабах резко возросла, ибо италийские помещики перешли от преимущественного производства пшеницы к возделыванию более выгодных винограда и оливок. Именно при обработке виноградников и оливковых рощ, требующих больших затрат труда, рабы были рентабельнее свободных работников. Кроме того, все большее число ремесленников, предпринимателей и купцов начали использовать рабов в качестве дешевой рабочей силы, труд которых оплачивался лишь предоставлением им пищи, одежды и крыши над головой. Даже самые небогатые семьи имели одного-двух рабов для тяжелых работ.
Однако не только частные лица, но и общественные учреждения – государство, город или храм – имели собственных рабов, ремонтировавших и поддерживавших в чистоте улицы и площади, водопровод и канализацию, здания и алтари. Физический труд во всевозрастающей степени перекладывался на плечи рабов, поэтому постоянно увеличивавшаяся потребность в них требовала закабаления все большего числа свободных людей. Одновременно происходило вытеснение свободных крестьян, уходивших в города и живших в основном за счет хлебных раздач. Кроме того, рабы появились и в таких интеллектуальных профессиях, как врачи, ученые, учителя, счетоводы и даже управляющие.