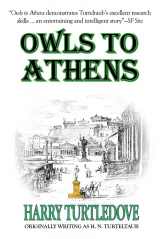
Текст книги "Совы в Афинах (ЛП)"
Автор книги: Гарри Тертлдав
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
Песня женщин наполнила город, когда одна группа за другой покидали главную процессию и направлялись к своим домам. Тут и там Менедем также слышал визги, хихиканье и пару воплей, когда родосские мужчины наносили визиты того или иного рода возвращающимся женщинам.
Голоса, переходящие в песню, доносились по улице к дому Менедема и тому, где жил Соклей. Менедем нырнул в лунную тень, более черную, чем чернила, которые они с кузеном продавали в Афинах. “Прощайте!” – слышал он снова и снова, когда женщины покидали группу, покидали фестиваль и возвращались к своим домам и своей повседневной жизни.
И вот появился Баукис, рука об руку с тетей Тимократ, оба они все еще пели хвалу супруге Зевса. Они остановились перед домом матери Соклея. “Спокойной ночи, дорогая”, – сказал Тимократ.
“Прощайте”, – сказал Баукис. “Разве это не было чудесно?”
“Так всегда бывает”, – ответила пожилая женщина. “Быть единым с богиней...”
“Чтобы побывать в городе”, – сказал Баукис. “Чтобы побывать за пределами города!”
Тимократ рассмеялся. “Это так”, – согласилась она. Затем она зевнула и снова рассмеялась. “Выходить на улицу, когда я обычно сплю”.
“Я не думаю, что буду спать всю ночь”. Голос Баукиса звенел от волнения, как натянутая струна кифары.
“Хорошо, дорогая. Я знаю, что я так и сделаю”. В голосе тети Тимократ звучало удивление и терпимость к молодости своей невестки. Она открыла дверь, еще раз сказала “Спокойной ночи” и вошла внутрь.
Баукис вздохнула, затем снова запела хвалебную песнь и направилась к своему дому. Менедем едва слышал ее из-за стука собственного сердца. Ты можешь позволить ей войти впереди тебя, затем войти самой и вернуться в постель. Никто ничего не узнает. Ты можешь.
Он вышел из тени. Гимн Баукис Гере внезапно оборвался. Она замерла. “Кто там?”
“Только я”. Голос Менедема дрогнул. Его ноги были такими легкими от страха, как будто он собирался вступить в морское сражение, он подошел к ней.
“О, Менедем”. Ответом Баукиса был лишь еле слышный шепот. “Что ты здесь делаешь?”
Он чуть не рассмеялся. Но это было не смешно, и он знал, что это не так, и она тоже должна была это знать. Не говоря ни слова, без звука, он протянул руку и коснулся ее щеки тыльной стороной ладони.
На этом все могло закончиться. Она могла бы вздрогнуть. Она могла бы убежать. Она могла бы закричать. Вместо этого она вздохнула и поежилась, как будто настоящая македонская зима внезапно обрушилась на этот крошечный уголок Родоса. “О, Менедем”, – снова сказала она, на этот раз совершенно другим тоном. Она снова вздрогнула. “Мы не должны”.
“Я знаю”, – ответил он. “Но...” Пожатие плечами. “Я пытался притвориться, что этого здесь нет уже три года. Каждую весну я убегал к морю, чтобы не думать о тебе. Каждую осень, когда я возвращаюсь домой...” Он наполовину отвернулся, но затем повернулся обратно, притягиваемый так же непреодолимо, как железо магнитом. Он снова погладил ее по щеке. Всего на долю удара сердца ее дыхание согрело его ладонь. Но он уже был в огне – или это был лед?
Баукис тоже начала отворачиваться, но обнаружила, что не может, как и Менедем. “Мы не должны”, – снова сказала она. Она посмотрела на усыпанное звездами небо. Менедем зачарованно смотрел на гладкую линию ее шеи в лунном свете. Может быть, любовь была болезнью. Но сколько других болезней знали врачи, когда страдающий хотел чего угодно, только не вылечиться?
Впоследствии он никогда не знал, кто из них пошевелился первым. В одно мгновение они стояли близко друг к другу, но не соприкасались. В следующее мгновение они были в объятиях друг друга, каждый пытался выжать дыхание из другого. Мягкая твердость прижавшейся к нему Баукис еще больше погрузила Менедема в то восхитительное безумие, которого, по словам всех, ему следовало бояться.
И он боялся , но не этого безумия, только того, что могло из этого выйти. Его губы нашли ее. Поцелуй был глубоким и отчаянным: захлебывающимся, и он ни за что не хотел выныривать за воздухом. Наконец, ему пришлось. Он проложил дорожку из поцелуев вдоль уголка ее подбородка, сбоку от шеи, мочки уха, ее трепещущих век. Когда его губы коснулись ее щеки, он почувствовал вкус слез, но она вцепилась в него так, словно ее корабль затонул, а он был единственной плавучей опорой.
Она все еще могла сбежать. Когда он обхватил ладонями ее округлую грудь через тунику, ему на мгновение показалось, что она сделает это, даже если ее твердый сосок упрется в мягкую шерсть хитона. Но затем, с тем, что могло быть смехом, или рыданием, или и тем и другим одновременно, она прильнула к нему яростнее, чем когда-либо. Они снова поцеловались. Баукис застонал глубоко в ее горле.
Менедем повел ее обратно к затененной стене, где он ждал. Некоторые вещи не должна видеть даже безмолвная луна. Баукис наклонился вперед. “О”, – тихо сказала она, когда он вошел в нее. Он положил руки на ее бедра, как раз там, где они переходили в узкую талию. Она оглянулась на него через плечо. “Быстрее!”
Менедем также знал, что должен действовать быстро, и сделал все, что мог. Но как бы сильно он ни хотел поторопиться, он хотел еще больше угодить Баукису. Если он этого не сделает, после столь долгого ожидания… Тамошняя ирония была слишком жестокой, чтобы размышлять. Когда его удовольствие возросло, а дыхание участилось, он с тревогой прислушался, чтобы убедиться, что и у нее то же самое. Затем с ее губ сорвался тихий мяукающий крик. Она дрожала, внутри и снаружи. Менедем застонал, истощая себя.
Баукис отстранилась от него и выпрямилась. Ее задранный хитон снова упал до лодыжек. “Дорогая”, – сказал Менедем, быстро приводя в порядок свою тунику. Он снова поцеловал ее. “Я действительно люблю тебя”.
“Да”. Голос Баукиса звучал так, как будто она слышала его только наполовину. Ее мысли были далеко. “Я войду первой, и я не буду запирать дверь. Если ты не услышишь шума, знай, что твой отец – мой муж – все еще спит ”. Она сглотнула. Он подумал, не начнет ли она плакать. Некоторых женщин после измены наполняло чувство вины; жена трактирщика, которую Соклей знал в Иудее, была из таких. Но Баукис взяла себя в руки, закончив: “И рабов тоже, конечно”.
“И рабов”, – эхом повторил Менедем. “Утром нам придется вести себя так, как будто ничего не произошло, ты же знаешь”.
Она опустила голову. “О, да. Я запомню. Не ты забывай”.
Вероятно, это был – нет, определенно – хороший совет. Менедем знал, как сильно отец испытывал его. Искушение швырнуть это в лицо Филодему могло стать непреодолимым. Ему придется сдержаться. С самого начала он понял, что это может привести к смерти между ними, если это когда-нибудь случится. Теперь это произошло, и теперь тайна должна была остаться тайной навсегда.
Он поцеловал Баукис еще раз. Она на мгновение прильнула к нему, затем высвободилась. “Я ухожу. Если возникнут какие-то проблемы, я постараюсь дать тебе знать. Я... ” Она замолчала. Собиралась ли она сказать: я люблю тебя? Он так и не узнал. Она расправила плечи и, почти как будто маршируя на битву, вошла в дом.
Менедем ждал там, в тени. Он склонил голову набок, тревожно прислушиваясь. Все, что он слышал, это крик совы и вдалеке последний гимн Гере, который внезапно оборвался, когда женщина, поющая его, нашла дорогу домой. Из дома не доносилось ни звука.
Он все равно подождал еще немного. Затем, так тихо, как только мог, он подошел к двери. Он открыл ее, скользнул внутрь и закрыл за собой. Когда он потянулся за перекладиной, он убедился, что крепко держится за нее и не уронил, когда устанавливал в кронштейны: грохот разбудил бы всю семью. Он тихо вздохнул с облегчением, установив его на место.
На краю двора он снова остановился, чтобы прислушаться. Все было тихо, если не считать ужасного хриплого храпа, доносившегося из комнаты Сикона. Спит на спине, подумал Менедем. Всякий раз, когда повар переворачивался, он шумел, как лесопилка.
Менедем быстро пересек двор, на цыпочках поднялся по лестнице и нырнул в свою комнату. Он запер свою дверь так же тщательно, как и дверь в дом. Затем он лег, уставился в потолок, как делал ранее ночью, и глубоко вздохнул. “Я сделал это”, – пробормотал он. “Я действительно сделал это”.
Это говорила не гордость. Он не совсем понимал, что это было. Вина? Стыд? Некоторые из них, больше, чем он ожидал. Прелюбодеяние ради прелюбодеяния теряло свою привлекательность. Но то, что произошло между ним и Баукисом, было больше, чем прелюбодеяние ради прелюбодеяния, и то, что он чувствовал, имело мало общего с гордостью. Даже при том, что к этому примешивались вина и стыд, они были лишь частью – и притом небольшой частью – того, что обрушилось на него подобно штормовым волнам. До сих пор он никогда не занимался любовью с женщиной, в которую был влюблен. Внезапно он полностью понял, почему страсть была такой сильной, такой опасной. Единственное, о чем он мог думать, это снова заняться любовью с Баукис.
не могу этого сделать, я, понял он, и это знание обожгло, как яд гадюки. В следующий раз, когда Баукис займется любовью, она будет лежать в объятиях его отца. Одна только мысль об этом приводила Менедема в ярость. Он давно знал, что, если он ляжет с женой своего отца, это может заставить Филодемоса захотеть убить его. Ему и в голову не приходило, что ложь с Баукисом может заставить его захотеть убить своего отца.
Этого я тоже не могу сделать, подумал он. Часть его хотела бы, чтобы он остался здесь один в своей комнате на всю ночь. Остальное, хотя… Остальные хотели, тосковали, жаждали большего от Баукиса, чем он мог получить от быстрого совокупления в darkest shadow. Он хотел… Ему ужасно хотелось зевнуть, и он зевнул.
Следующее, что он помнил, утреннее солнце струилось через окно, выходящее на восток. Он еще раз зевнул, потянулся и встал с кровати. Была ли прошлая ночь реальной? Воспоминания нахлынули снова. Так и было! Он надел свой хитон и вышел во внутренний двор, намереваясь позавтракать.
Его отец уже был там, разговаривая с одним из домашних рабов. “Добрый день”, – сказал мужчина постарше, когда Менедем появился. “Я подумал, что ты будешь спать всю ночь вокруг солнца и выходить только ночью, как сова”.
“Приветствую тебя, отец”, – вот и все, что сказал Менедем в ответ. Он взглянул на солнце. Оно взошло почти три часа назад, или он ошибся в своих предположениях.
Взгляд Филодема был таким же. “Только не говори мне, что ты всю ночь напролет играл в игры со Соклеем”, – сказал отец Менедема. “У него нет привычки засиживаться так поздно. После этого ты отправился рыскать в поисках женщин, не так ли? Ты, должно быть, тоже нашел одну, а?”
Над головой пролетел журавль, направлявшийся на юг. Менедем наблюдал за ним, ничего не говоря. Он был отставшим; большая часть его вида отправилась на юг почти месяц назад.
С раздраженным вздохом Филодем спросил: “Ты навлек скандал на наш дом? Будет ли какой-нибудь разгневанный муж притаиться на улице снаружи, ожидая возможности воткнуть в тебя нож?”
Все еще наблюдая за журавлем, Менедем покачал головой. “Нет, отец. Тебе не нужно беспокоиться об этом”. Верно. Тебе не нужно было бы прятаться на улице, если бы ты решил зарезать меня.
“Тогда ты, должно быть, нашел какую-нибудь шлюху, девку, которая так же погрязла в пороке, как и ты”, – прорычал Филодем.
Гнев и ужас наполнили Менедема. Ты дурак! Ты говоришь о своей собственной жене! Еще одна вещь, которую он не мог – не должен – сказать. Это было похоже на что-то из трагедии. И Баукис слушала там, наверху, в женском отсеке? Как она могла заниматься чем-то другим? Какую борьбу ей пришлось бы вести сейчас, просто чтобы сохранить невозмутимое выражение лица?
“Клянусь египетским псом, сынок, что мне с тобой делать?” Сказал Филодем.
Менедем только пожал плечами. “Я не знаю, отец. Если ты позволишь мне...” Он поспешил на кухню, где взял пару ячменных булочек, немного оливкового масла и чашку разбавленного вина на завтрак. Он полил его меньше, чем мог бы; Сикон, который замешивал тесто для сегодняшней выпечки, злобно посмотрел на него. Менедем проигнорировал повара. Он сделал вид, что игнорирует его: сделал это настолько очевидно, что Сикон не смог удержаться от смеха.
Филодем тоже зашел на кухню. Сикон сразу замолчал и начал месить, как будто от этого зависела его жизнь. Менедем скорее имел бы дело с поваром, чем со своим отцом. Филодем покачал пальцем у себя под носом. “Когда ты прекратишь нести чушь и станешь настоящим мужчиной?” потребовал он.
“Адмирал Эвдемос думает, что теперь из меня получится настоящий мужчина”, – ответил Менедем.
“Он беспокоится о том, что ты делаешь в море. Я беспокоюсь о том, что ты делаешь на берегу. И как ты думаешь, что бы он сказал на это, если бы узнал об этом?” его отец огрызнулся.
“Из некоторых историй, которые он рассказывал, когда мы праздновали после моего патрулирования в Дикаиозине, следует, что он сам преследовал женщину или две дюжины”, – сказал Менедем. Филодем издал звук отвращения. Менедем указал на него. “А как насчет тебя, отец? Я спрашивал тебя раньше – когда ты был моложе, ты когда-нибудь испытывал свою удачу, когда женщины возвращались домой с фестиваля?” Пока вы думаете, что у меня была жена другого мужчины, это еще один куплет той же старой песни. Я ненавижу это, но могу с этим смириться. Но если ты когда-нибудь узнаешь, что это был Баукис… Он вздрогнул и поднес кубок с вином к губам.
Филодем густо покраснел. “Не обращай на меня внимания. Мы говорим не обо мне. Мы говорим о тебе”.
Менедем мог догадаться, что это, вероятно, означало. Однако он промолчал. Сикон тоже мог, а повар не знал подобных ограничений. Он издал громкое, грубое фырканье, затем набросился на тесто для хлеба более яростно, чем когда-либо, как будто пытаясь притвориться, что ничего подобного не делал.
Из тускло-красного Филодем стал цвета железа в кузнечном горне. Его взгляд обжег Сикона. “Не лезь не в свое дело”, – прорычал он.
“Да, господин”, – пробормотал Сикон: один из немногих случаев, когда Менедем слышал от него признание в том, что он раб, а не хозяин в доме.
Филодем также услышал это подчинение, услышал его и воспринял как должное. Его внимание снова переключилось на Менедема. “Мы говорим о тебе”, – повторил он. “Я хочу, чтобы с этого момента ты вел себя респектабельно. Ты меня слышишь?”
“Да, отец”. Все, чего хотел Менедем, это сбежать. Он сказал правду: он действительно слышал своего отца. Что касается респектабельного поведения ... после прошлой ночи для этого слишком поздно. Или так и было? Что такое респектабельность, но не быть пойманным? Никто не знал, что произошло, кроме него и Баукиса. Пока это оставалось правдой, он мог продолжать жить под одной крышей со своим отцом. Он сказал: “Я сделаю все, что в моих силах”.
Грубовато Филодем сказал: “Тебе лучше”. Но его голос звучал, по крайней мере, немного смягченно. Возможно, он не ожидал даже такого. Тьфу, развернулся на каблуках и вышел из кухни.
После того, как Менедем закончил завтракать, он вернулся во внутренний двор. Он не прошел и пары шагов, как остановился как вкопанный. Вместе со своим отцом Баукис стоял там, глядя на растение в саду. Она побледнела, когда увидела его. Натуральные. Ты должен вести себя естественно, крикнул он себе. “Добрый день”, – сказал он, надеясь, что его голос не слишком дрожит.
“Приветствую”, – выдавила она чем-то похожим на свой обычный тон.
К огромному облегчению Менедема, его отец не заметил ничего необычного. Филодем сказал: “Теперь, когда прошел небольшой дождь, все начинает прорастать”.
“Они, безусловно, такие”, – согласился Менедем. Баукис посмотрела вниз, на свои ноги. Менедем вспомнил, как стоял позади нее, и… Он почувствовал, как его лицо запылало. Продолжать жить так, как будто ничего не случилось, будет труднее, чем он когда-либо мечтал. Если он не предаст себя, это может сделать жена его отца. Ей всего семнадцать, напомнил он себе. Да, она женщина, но едва.
Возможно, боясь выдать игру, Баукис ретировался в дом. Отец Менедема набросился на него. “Теперь, когда ты проспал полдня, как ленивая собака, что ты будешь делать с остальным?”
“Я не знаю, отец. Я собирался выйти в город”, – ответил Менедем.
“И отправляйся на поиски дома женщины, которую ты развратил прошлой ночью?” Сказал Филодем. “Тебе было недостаточно одного раза, чтобы удовлетворить себя? Сколько проблем ты себе накличешь?“
Одного раза было недостаточно, подумал Менедем. вслух он сказал: “Я знаю, где она живет, но я и близко не собираюсь туда приближаться”. Это была правда, но обманчивая правда. Это заставило его отца закатить глаза. Менедем продолжал: “Клянусь Зевсом эгиды, отец, я не знаю”. Клятва заставила Филодема отнестись к нему немного серьезнее. Он добавил: “Моя жизнь стала бы сложнее, чем она того стоит, если бы я это сделал”.
“Ну, по крайней мере, ты это понимаешь”, – сказал Филодем. “Я думал, ты будешь слеп к этому, как обычно бывают кокарды. Тогда продолжай”.
Менедем ушел, изо всех сил стараясь прогуливаться, а не убегать. Оказавшись на улице, он громко и протяжно вздохнул. Нет, он еще не начал осознавать, насколько это будет тяжело.
Были годы, когда вид «Афродиты», вытащенной из воды в Большой гавани Родоса, приводил Соклея в уныние. Сейчас это казалось менее правдивым, чем в былые времена. Он думал о торговой галере как о чем-то почти волшебном: подобно крылатым сандалиям Гермеса, она могла унести его в страны незнакомые и таинственные, и что могло быть чудеснее этого? После возвращения в Афины, в полис, по которому он тосковал, как человек, оплакивающий потерянную любовь, он думал, что у него есть ответ на этот вопрос, которого у него не было раньше. Что может быть чудеснее, чем отправиться в странные и таинственные земли? Возвращение в дом, который ты любил.
Плотник Хремес помахал Соклею. “Приветствую тебя, сын Лисистрата. Как ты сегодня?”
“Что ж, спасибо”, – ответил Соклей. “А ты сам?” “Довольно хорошо”, – сказал Хремес. “Мой сын подарил мне внука этим летом, пока ты был на море”.
“Поздравляю!” Сказал Соклей. “Ты молод, чтобы быть дедушкой”. Это был не пустой комплимент; он сомневался, что Хремесу было намного больше пятидесяти, а большинство мужчин среди эллинов не женились до тридцати или около того.
И действительно, плотник усмехнулся со смесью смущения и гордости. “Я скажу тебе, что это такое: мы горячая компания, моя семья. Мне так понравилась мысль о том, чтобы трахнуться, не заплатив за это, что я уговорила своего отца разрешить мне выйти замуж пораньше. И Аристион, он такой же. Мне пришлось выдать его замуж. Я боялся, что из-за него какая-нибудь респектабельная девушка попадет в беду.”
“Ты этого не хочешь”, – согласился Соклей. “Вражда между семьями никому не приносит пользы”.
Они поболтали еще немного, затем разошлись в разные стороны. Соклей побрел на юг вдоль края Большой гавани, разглядывая корабли, пришвартованные у причалов или вытащенные на сушу. Большинство из них были ему так же знакомы, как знакомые, которых он мог встретить на агоре. Время от времени он отмечал одну, которая проделала какую-то серьезную работу с тех пор, как он видел ее в последний раз. Он начал с того же удивления, которое мог бы выказать, увидев лысого мужчину, который вышел в парике.
Он также увидел несколько новых для него кораблей. Одна из них, в частности, заставила его задуматься: торговая галера, больше, чем "Афродита , и достаточно тонкая, чтобы сойти за пиратский корабль. Указывая на нее, он спросил у отдыхающего в гавани: “Что это за корабль, о лучший?”
Мужчина не ответил. Возможно, он страдал глухотой или, возможно, идиотизмом. Возможно, был, но не был. Соклей точно знал, в чем заключалась его проблема. Оболос совершил чудесное исцеление. Как только бездельник отправил в рот маленькую серебряную монетку, он сказал: “Это Талия, друг”.
“Изобилие, а? Хорошее название для торгового судна”, – сказал Соклей. “Кому оно принадлежит?”
Он задавался вопросом, хватит ли у другого родосца высокомерия попытаться выжать из него второй оболос. Парень начал было, потом явно передумал. Он сказал: “Она принадлежит Родоклу, сыну Симоса”.
“Знает ли она?” Спросил Соклей, и бездельник опустил голову. “Значит, он получил немного серебра”. Родокл был конкурентом. До сих пор он никогда не был серьезным конкурентом. Все его корабли были старше и меньше, чем "Афродита " и другие суда, принадлежавшие Филодему и Лисистрату. Талия , однако, могла отправиться в любое место Внутреннего моря и могла добраться туда, куда направлялась, так же быстро, как и все, что находится на плаву.
Соклей задумчиво спросил: “У него есть другие, похожие на нее?”
На этот раз другой мужчина подставился. Вместо того, чтобы заплатить ему снова, Соклей повернулся к нему спиной. За это он заслужил несколько самых горячих, земных проклятий, которые когда-либо получал. Он проигнорировал их и ушел. Лежак выругался громче, что не принесло ему денег.
Соклей остановился у большого ветхого склада, всего в нескольких шагах от моря. Там никто не шелохнулся, пока он не просунул голову в дверной проем и не крикнул: “Кто-то раздает украшенные чашки для питья на агоре”.
Он ждал. Ему не пришлось долго ждать. Из недр здания донесся низкий голос с гортанным акцентом: “Раздавать их?” Оттуда вышел Химилькон Финикиец, закутанный в свою длинную мантию. В одном ухе поблескивало золотое кольцо; еще больше золота сверкало на нескольких пальцах. Когда он заметил Соклея, подозрения отразились на его узком лице с крючковатым носом. “Ты лжец, ты обманщик, ты обманщица!” – начал он и продолжил с этого места. Когда у него закончился греческий, он переключился на арамейский.
С тех пор как он научил Соклея этому языку, родосец кое-чему из него следовал. Даже если бы он этого не сделал, звуков было бы достаточно, чтобы показать неудовольствие Химилькона. С его кашлем, хрюканьем и удушающими звуками арамейский был языком, созданным для выражения гнева.
Когда Химилкон наконец немного замедлил ход, Соклей произнес фразу на своем собственном арамейском: “Мир тебе, мой друг”.
“И тебе также мира”, – неохотно сказал Химилкон, – “до тех пор, пока ты не обманешь подобным образом честного человека. Чего ты хочешь? Я имею в виду, помимо неприятностей”.
“Проблемы? Я? Нет”. Соклей говорил по-арамейски, как финикийский купец. Выучив язык, он был рад возможности использовать его, чтобы сохранить свежесть. Он изо всех сил старался выглядеть невинным. Вместо того, чтобы вскинуть голову, чтобы показать, что он не хотел создавать проблем, он покачал ею. Он хотел вести себя как можно больше как носитель языка.
Химилкон заметил. Вокруг Химилкона происходило очень мало такого, чего он не замечал. Все еще на своем родном языке он сказал: “Большинство ионийцев” – на арамейском все эллины были ионийцами, вероятно, потому, что говорящие по-арамейски познакомились с ними первыми – ”Большинство ионийцев, говорю я, которые взяли на себя труд выучить мою речь (и очень немногих волнует любой язык, кроме своего собственного), не стали бы утруждать себя жестами, которые использует мой народ”.
“Если я что-то делаю, мой господин, я хочу делать это хорошо. Я хочу делать это так, как должен”. По-гречески Соклей никогда бы не назвал ни одного человека своим господином. На арамейском, однако, это была всего лишь вежливая фраза: еще одна иллюстрация разницы между двумя языками и различий в мыслях людей, которые на них говорили. Родиец поискал слово на языке Химилкона. Не найдя его, он снова перешел на греческий: “Когда я что-то делаю, я хочу делать это тщательно”.
“Твой раб знает тебя уже несколько лет и заметил это в тебе, да”. Даже говоря по-гречески, Химилкон придерживался цветистых арамейских оборотов речи. Соклей старался говорить не как эллин, используя арамейский; насколько хорошо ему это удалось, возможно, было другой историей.
Соклей задумался, сколько людей заметили это в нем. Когда люди говорили о нем, пока его там не было, говорили ли они что-нибудь вроде: “Соклей сведет тебя с ума, пытаясь запомнить каждую мельчайшую деталь”? Он надеялся, что так оно и было. Репутация трудолюбивого человека была далеко не самой худшей вещью в мире.
Химилкон вернулся к арамейскому: “Если ты пришел сюда не для того, чтобы выжимать мне печень своими насмешками, мой господин, то по какой причине ты нарушил мой покой?”
“Посмотреть, что у тебя получилось, пока мы с Менедемом были в Афинах”, – ответил Соклей. Ему пришлось сделать паузу на мгновение, чтобы придумать глагольную форму мужского рода от второго лица множественного числа; арамейские спряжения учитывали род, чего не делали греческие глагольные формы (за исключением причастий). “Узнать, есть ли у вас что-нибудь, что нам может понадобиться для следующего парусного сезона”.
“Когда ты купил у меня папирус прошлой зимой, ты назвал меня вором”, – сказал Химилкон. “Но теперь ты хочешь заняться еще большим бизнесом, да?”
“Мне пришлось сбить с вас цену, по которой я мог бы добавить свою прибыль и при этом продавать в Афинах на уровне, на котором другие люди могли бы позволить себе покупать”, – сказал Соклей по-гречески, идея была слишком сложной для его ржавого арамейского. “Мне удалось это сделать. И, кроме того, скажи мне, что ты никогда не называл меня такими именами, и я скажу тебе, что ты лжец”.
“Я?” Химилкон был воплощением оскорбленного достоинства. Он тоже продолжал по-гречески: “Я спокоен. Я сдержан. Я рассудителен”. Соклей громко рассмеялся. Химилкон сверкнул глазами. “Я собираюсь ударить тебя доской по голове”.
“Спокойный, сдержанный, рассудительный совет, я не сомневаюсь”, – ответил Соклей.
Это рассмешило Химилькона. “Никому, кто вырос, говоря по-арамейски, и в голову не пришло бы назвать правление сдержанным или рассудительным. Вы, эллины, можете вытворять странные вещи со своим языком. Вероятно, поэтому вы такой своеобразный народ ”.
Теперь Соклей, вспомнив, что он эллин, вскинул голову, показывая, что не согласен. “Мы не странные”, – сказал он. “Это все вы, люди, которые не являются эллинами, странные”.
Химилкон хрипло рассмеялся. “Нет, о дивный, на этот раз ты ошибаешься. Все от Карии до Карфагена, как говорится, думают, что эллины – это те, кто необычен. И если вы отправитесь дальше на восток, если вы окажетесь среди финикийцев, египтян или персов, что ж, все они скажут одно и то же. Это доказывает мою точку зрения; не так ли?”
Соклей снова рассмеялся, услышав, как варвар использует стандартный слоган из любого числа философских диалогов. Родиец также снова вскинул голову. “Прости, моя дорогая, но это ничего подобного не доказывает”.
“Что? Почему нет?” И без того смуглые черты Химилкона потемнели от гнева.
“Ну, разве все от Карии до Карфагена не сказали бы, что египтяне странные из-за всех этих забавных богов с головами животных, которым они поклоняются, и рисунков, которые они используют?”
“Конечно. Египтяне странные люди”, – ответил Химилкон. “Они все делают не так, как большинство людей”.
Это снова рассмешило Соклея, поскольку Геродот написал почти то же самое о египтянах. Соклей продолжил: “И разве все не сказали бы, что иудеи странные, с их богом, которого никто не может видеть, и который запрещает им делать так много совершенно обычных вещей?”
“О, да. Иудеи тоже странные, в этом нет сомнений. Они полны порочных обычаев”. Химилкон говорил с уверенностью и презрением, которые могли быть только у соседа.
“Некоторые люди, – заметил Соклей, – некоторые люди, заметьте, могли бы даже сказать, что финикийцы странные”.
“Что?” Химилкон уставился на него. “Что за глупая идея! Финикийцы странные? Мы соль земли, самые обычные люди в округе. Как кто-то может, даже идиот, – он задумчиво посмотрел на Соклеоса, – думать, что финикийцы странные?”
“Ну, во-первых, вы сжигаете своих собственных детей в трудные времена”, – ответил Соклей.
“Это не странность. Это благочестие – показать богам, что мы их рабы и отдали бы им все, что у нас есть, – сказал Химилкон. – Это только потому, что другие люди недостаточно религиозны, чтобы делать то же самое, и это кажется им странным ”.
“Вот вы где!” Соклей набросился. “Что бы ни делал один народ, это покажется странным другим людям. Это не доказывает, что народ действительно странный”.
“Ну ... может быть”, – сказал Химилкон. Соклей думал, что победил финикийца, но Химилкон добавил: “Конечно, вы, эллины, совершаете очень много странных поступков, вот почему все остальные считают вас странными”.
“О, неважно”, – сказал Соклей с некоторым раздражением. “Мы собирались зайти на ваш склад, когда все это всплыло”.
“Полагаю, так и было”. Химилкон, казалось, не разозлился из-за спора. С запозданием Соклей понял, что ему повезло. Некоторые люди обижались, когда вы позволяли себе не соглашаться с ними. Он не хотел, чтобы Химилкон обиделся, не тогда, когда он вел с ним дела. Финикиец спросил: “Как ты думаешь, куда ты отправишься следующей весной? Это будет иметь какое-то отношение к тому, что я тебе покажу”.
“Я пока не уверен”, – сказал Соклей. “Возможно, в Александрию. Я никогда там не был, но такой новый, широко открытый город, как этот, дает человеку массу возможностей для наживы”.
“Александрия”, – эхом повторил Химилкон. “Так вот, там я тоже никогда не был. Во времена твоего дедушки, ты знаешь, или, может быть, твоего прадеда, Родос был таким же новым, широко открытым городом, как этот ”.
“Может быть”. Но Соклей не казался убежденным. “Однако у Родоса никогда не было всех богатств Египта, на которые можно было бы опереться”.
“Тогда она этого не делала”, – сказал финикийский торговец. “Теперь она знает”. Учитывая всю торговлю из владений Птолемея, которая в эти дни шла через Родос, в этом была доля правды: на самом деле, совсем немного. Химилкон нырнул на склад и жестом пригласил Соклея следовать за ним. “Вот, пойдем со мной”.
Соклей был рад повиноваться. Место работы Химилкона очаровывало его, потому что он никогда не мог быть уверен, что там обнаружится. Он остановился в дверях, чтобы дать глазам привыкнуть к полумраку склада. Ему нужно было видеть, куда он идет, потому что проходы между шкафами и полками были узкими. Вещи торчали, готовые либо подставить ему подножку, либо ткнуть в глаз. Его ноздри подергивались. Химилкон запасся ладаном, миррой, корицей и перцем, а также другими специями и благовониями, которые родосцу было сложнее идентифицировать.
“Вот”. Химилкон остановился и достал шкатулку необычной работы, сделанную из светлого дерева, которого Соклей никогда раньше не видел. “Скажи мне, что ты думаешь об ... этом”. С мелодраматическим размахом Химилкон открыл коробку.








