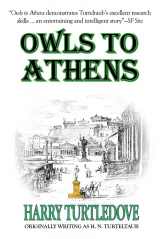
Текст книги "Совы в Афинах (ЛП)"
Автор книги: Гарри Тертлдав
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
“Да, моя дорогая”, – сказал Менедем таким тоном, который доказывал, что он едва слышал. “Разве у нее не самая захватывающая походка, которую ты когда-либо видел? С такой прогулкой она, должно быть, плохо лежит в постели ”.
“Тебя все время полторы горсти”, – ответил Соклей с чувством, близким к отчаянию.
Менедем только улыбнулся ему. Протомахос тоже вышел с улыбкой на лице. “Устрицы, – сказал Мирсос”, – сообщил родосский проксенос. Улыбка Менедема стала шире. Теперь отчаяние Соклеоса было неподдельным. Почему повар выбрал именно этот вечер из всех, чтобы приготовить ужин, который многие считают афродизиаком?
С наступлением сумерек звуки веселья снова поплыли над стенами и проникли в дом Протомахоса. Афинянин вынул из раковины еще одну устрицу. “Я, возможно, сам схожу, посмотрю, какое подходящее время смогу найти”, – сказал он. “Я весь день просидел в театре. Я тоже не хочу сидеть всю ночь. Как насчет вас, мальчики?”
“Мы?” Сказал Менедем. “Боюсь, сегодня вечером мы всего лишь пара неудачников. Но завтра мы все пойдем в театр, а?”
Ты не застрявший в грязи человек, подумал Соклей. Тебе просто не хочется выходить из дома на охоту. Протомахос не заметил ничего неладного. “Да, театр”, – сказал он. “Я полагаю, что утром я буду тем, у кого будет тупая голова”.
Проксен ушел с улыбкой охотника на лице. Менедем зевнул. “Думаю, я пойду спать”, – сказал он.
“А ты?” Бесцветно спросил Соклей.
“Да. Я устал”. Голос его кузена звучал совершенно невинно. Это только усилило подозрения Соклеоса.
Но что он мог сделать, кроме как самому лечь спать? Он намеревался бодрствовать как можно дольше, прислушиваться и убедиться, что Менедем остается в своей комнате. Однако сон подкрался к нему незаметно. Следующее, что он помнил, это как раб колотил в дверь. “Пора вставать в театр, сэр”, – сказал мужчина.
“К воронам с...” Но Соклей к тому времени смирился с тем, что ему не спится. Он встал с постели, облегчился и отправился в «Андрон» позавтракать. Протомах и Менедем уже были там. “Как ты сегодня?” Спросил Соклей.
“Что ж, спасибо”, – ответил проксенос.
“Просто замечательно”, – добавил Менедем с улыбкой. Это могло означать что угодно или ничего. Соклей искренне надеялся, что это ничего не значит.
Он взгромоздился на табурет. Раб, который разбудил его, принес ему ячменную кашу и разбавленное вино. “Ешь”, – сказал Протомахос, не выказывая никаких негативных последствий от того, что он пьянствовал прошлой ночью. “Чем скорее мы доберемся до театра, тем лучше будут места”.
Соклей наблюдал за своим двоюродным братом, пока тот накладывал ложкой овсянку. Менедем не выказал ничего необычного. Поднялся ли он наверх и попытался ли соблазнить жену Протомахоса? Если бы он попытался, удалось ли ему? Что бы ни случилось, женщина не пошла к своему мужу с рассказом об изнасиловании или попытке изнасилования. Это было уже что-то. Но что сделал Менедем? Грозила ли им немедленная выселка или что похуже? Вежливое выражение лица Менедема было доказательством против любопытства Соклея.
Как только Протомах закончил завтракать, он встал. Менедем сделал то же самое. Соклей присоединился к ним. Протомах сказал: “Что ж, теперь мы посмотрим, как наши современные поэты сравнятся с Айсхилосом”.
“Ставлю на Айсхилоса”, – сказал Менедем.
“Мне нравятся некоторые современные работы”, – сказал Соклей. Протомахос опустил голову.
Менедем сказал: “Что касается меня, то я рад приветствовать вас обоих. Большинство современных трагиков думают, что они должны отличаться, чтобы быть умными, и большинство различий никуда не годятся. Во всяком случае, так я это вижу ”.
“Доля правды в этом, безусловно, есть”, – сказал Протомахос. “Хотя, я думаю, только часть, о наилучший. Некоторые стихи, написанные в наши дни, очень хороши”.
Соклей вошел в театр, готовый согласиться с проксеном. На этот раз, несмотря на протесты Протомахоса, он и Менедем заплатили за место ведущего. Протомахос в ответ погнался за продавцом медовых пирожных по проходу, чтобы купить что-нибудь из его товаров для родосцев. Как только он оказался вне пределов слышимости, Соклей сказал: “Пожалуйста, скажи мне, что ты этого не делал”.
“Не сделал что?” Да, Менедем был наполовину слишком невинен.
“Знаешь что. Подыграй жене Проксена. Ты знаешь, что пялился на нее. Ты признался в этом. Ее походка!” Соклей хлопнул себя ладонью по лбу.
“Хорошо. Я скажу тебе, что я не заигрывал с ней”. Менедем наклонился и поцеловал его в щеку. “Но, мой дорогой, я говорю тебе правду?”
Прежде чем Соклей смог найти какой-либо ответ на это, Протомахос вернулся с медовыми пирожными. Соклей сидел там, ел и облизывал пальцы… и волновался. Он не переставал беспокоиться, даже когда начались спектакли. Возможно, его собственное мрачное настроение сделало его менее восприимчивым к ним, чем он был бы в противном случае – или, возможно, Менедем был прав, и они действительно были не очень хороши. В тот день и на следующий примерно половина трагедий, которые он видел, так точно имитировали старые образцы, что он удивился, почему их поэты утруждали себя тем, чтобы писать пером на папирусе. Остальные были определенно новыми, что, на его взгляд, не означало, что они улучшили своих предшественников.
Одна из этих новаторских пьес, "Долон " афинянина по имени Диомедон, которая шла на третий день трагедий, привела Менедема в ярость. “Это было возмутительно”, – продолжал он повторять, когда Соклей, он и Протомахос покидали театр. “Ничего, кроме возмутительности”.
“Как? В том, как поэт обращался с Одиссеем?” Соклей думал, что знает, что беспокоит его кузена.
И он оказался прав. Менедем опустил голову. “То, как он плохо обращался с Одиссеем, ты должен сказать. Надеюсь, ты знаешь историю из Илиады ?”
“Да, моя дорогая”, – терпеливо сказал Соклей. “У меня нет твоей страсти к Гомеру, но я знаю стихи. Одиссей и Диомед шпионят для Ахайои с сильными гривами и натыкаются на Долона, который шпионит для троянцев. Они сбивают его, он умоляет сохранить ему жизнь, но они убивают его вместо того, чтобы удерживать для получения выкупа ”.
“Это близко, но это не совсем правильно, и различия важны”. Менедем все еще кипел от злости. “В Илиаде Долон умоляет Диомеда сохранить ему жизнь, и именно Диомед отправляет его в дом Аида. Но что сделал этот так называемый трагик? Он превратил Одиссея в злодея, вот что. Он заставил его водить Долона за нос, дать ему ложную клятву, что ему не причинят вреда, если он заговорит, а затем, как только он расскажет все, что знает, что поэт заставляет Одиссея делать? Он заставляет его повернуться к Диомеду и сказать: «Истина растрачивается на врага», и затем Диомед убивает Долона! Это неправильно”.
Протомах сказал: “Лучший, поэты изображали Одиссея вероломным пособником, по крайней мере, со времен Софокла. И вы не можете отрицать, что это часть его характера в эпосах ”.
“Я этого не отрицаю”, – серьезно сказал Менедем. “Это часть его характера. Но это не единственная роль, и трагики поступают с ним неправильно, выдавая это за то, кем он является на самом деле. Одиссей – это Софрон: он выжимает максимум из того, что у него есть. Он не такой великий воин, как Ахиллеус, но в одном пальце ноги у него больше здравого смысла, чем у Ахиллеуса в голове.”
“Это мало о чем говорит”, – вставил Соклей.
“Ну, нет”, – согласился Менедем. “Однако Одиссей – это человек, который все может делать хорошо. Он перехитрил циклопа Полифема, он может построить лодку или кровать, он храбро сражается, когда это необходимо, он может вспахать поле, и он тот, кто на собрании Агамемнона не дает ахайоям сдаться и отплыть домой ”.
“Ты восхищаешься им”, – сказал Протомахос.
“Кто бы не восхищался таким человеком?” Сказал Менедем. “Я имею в виду, за исключением трагика, который думает, что знает о нем больше, чем Гомер”.
“Тебе не кажется, что современные поэты имеют право брать то, что им нужно, из Илиады и Одиссеи?” Спросил Соклей. “Вы знаете, мы бы пропустили большую часть нашей трагедии, если бы они этого не сделали”.
“Брать то, что им нужно, – это одно. Конечно, они могут это сделать”, – ответил Менедем. “Однако намеренно искажать то, что они берут, превращая это в противоположность тому, что было… Это заходит слишком далеко. И я думаю, что именно это и сделал этот Диомедон. Вы заметили, что судьи не присудили ему приз. Возможно, они чувствовали то же самое ”.
“У твоего кузена твердые взгляды”, – сказал Протомахос Соклеосу.
“Он свободный эллин. Он имеет на них право”, – ответил Соклей. “Мы не всегда соглашаемся, но нам весело спорить”.
“Что ты думаешь о Долоне?” спросил его проксенос.
“Я забыл, что в Илиаде его убил Диомед”, признался Соклей. “Учитывая это, я думаю, что этот поэт, возможно, сам зашел немного слишком далеко”.
“Ну что ж”, – сказал Протомахос, пожимая плечами. “Вам, родосцам, в последнее время повезло в вашем правительстве больше, чем нам. Я понимаю, как афинянин мог бы захотеть написать пьесу об умном, изворотливом политике, который не останавливается ни перед чем, чтобы получить то, что он хочет ”.
“О!” Глаза Соклея расширились. “Ты говоришь мне, что это не только из-за Одиссея. Это из-за Демет...”
Менедем наступил ему на ногу. “Если это о Деметрии Фалеронском, – прошипел он, – то какой же ты идиот, что кричишь об этом на крыши домов?” Ты хочешь, чтобы македонцы посреди ночи взломали дверь Протомахоса, чтобы забрать тебя и посмотреть, сколько интересных вещей они могут сделать с тобой – и с нашим хозяином – и со мной?” Для него, очевидно, последнее было самым важным.
Но он был так же явно прав. Соклей признал это, добавив: “Несмотря на это, это делает меня более склонным простить Долона”.
“Ну ... может быть”, – неохотно согласился Менедем. “Меня все еще не волнует, что это сделало, но наш добрый хозяин объяснил, почему”.
“Комедии завтра”, – сказал Соклей. “Вам не придется беспокоиться о том, чтобы вынюхивать там неприятные политические послания”.
“Во времена Аристофана мне бы тоже не пришлось беспокоиться о том, чтобы вынюхивать их”, – сказал Менедем. “Он вышел прямо и выкрикнул их людям в лица”.
“Сейчас нам не сойдет с рук то, что он сделал тогда”, – сказал Протомахос. “Ему это тоже не могло сойти с рук к концу его карьеры. Посмотрите на Плутос. Речь идет о богатстве, но не о людях того времени, или не очень много о них. На самом деле, это предвкушение комедий, которые поэты пишут в наши дни ”.
“Какие комедии люди пишут в наши дни...” – пробормотал Менедем.
“Он не очень-то их любит”, – сказал Соклей Протомахосу. “Я сказал ему подождать, пока он не услышит что-нибудь от Менандроса. Я, конечно, надеюсь, что он закончил пьесу, над которой, по вашим словам, он работал ”.
“Я не знаю ни того, ни другого”, – ответил родосский проксенос. “Мы узнаем завтра”.
“Так и сделаем”. Голос Соклея звучал бодро.
“Так мы и сделаем”. Голос Менедема звучал совсем не так.
В тот вечер за ужином Протомахос не сделал никаких замечаний по поводу того, чтобы пойти куда-нибудь отпраздновать Дионисию. Менедем не уговаривал его пойти куда-нибудь или задавал вопросы о том, пойдет ли он. Соклей надеялся, что это означает, что его двоюродный брат действительно не соблазнял и не пытался соблазнить жену проксена. Менедему нравилось заставлять его нервничать почти так же сильно, как ему нравилась супружеская измена.
Рассвет следующего дня выдался холодным, с севера дул противный ветер. Протомахос завернулся в гиматий, прежде чем отправиться в театр. Было достаточно холодно, чтобы побудить Соклея сделать то же самое, но он этого не сделал. Менедем вел себя так, как будто погода не имела к нему никакого отношения. “Ребята, вы не собираетесь замерзнуть?” Сказал Протомахос.
“Мы моряки”, – ответил Соклей. “Когда ты в последний раз видел моряка в чем-либо, кроме хитона?”
“Будь по-твоему”, – сказал Протомахос. “Но если твои зубы будут стучать слишком громко, чтобы я мог расслышать реплики, я буду на тебя сердит”.
У них были великолепные места. Холодная погода удерживала множество людей в помещениях до рассвета. Зубы Соклея действительно стучали. Он изо всех сил сжал челюсти, чтобы Протомахос этого не заметил.
Актеры первой комедии расхаживали с важным видом. Они не носили большие фаллосы, привязанные к поясу, как это было бы пару поколений назад. Их маски были более реалистичными, менее пародийными, чем они были бы в прежние времена. Действительно, мало что, кроме самой пьесы, отличало их от трагических актеров, и некоторые исполнители работали в обоих типах драмы.
Их пьеса, к сожалению, ничем не отличилась. Куплет хромал – пару раз, достаточно сильно, чтобы Соклей поморщился. Даже по вульгарным стандартам комедии сюжет был глупым. И шутки не оправдались. Когда танцоры хора закружились, отделяя одно действие от другого – они при этом не пели, как это было бы во времена Аристофана, – Менедем повернулся к Соклатосу и сказал: “Как вообще получается такая плохая пьеса?”
“Я не знаю”, – ответил Соклей. “Но я подскажу тебе еще более пугающую мысль, если хочешь”.
“Что это?” Менедем говорил так, как будто сомневался, что Соклей сможет придумать такое.
Но Соклей сказал: “Просто помните, только Дионис знает, сколько было написано комедий похуже , комедий, которые даже маньяк не захотел бы выносить на сцену”.
Его кузен вздрогнул. “Ты прав. Это пугает”.
По мере того, как спектакль затягивался, зрители становились все более и более беспокойными. Люди кричали на актеров. Они бросали лук, кабачки и кочан капусты. Один из актеров, ловко увернувшись от сквоша, повернулся лицом к толпе. Стихами более гладкими, чем у поэта-комика, он сказал,
“Если вы думаете, что эти строки трудно слушать,
Помните – мы должны вывести их оттуда ”.
Собственные слова вызвали у него больший смех, чем слова поэта. Овощи перестали летать.
“Вот и все для репутации этого поэта-комика”, – пробормотал Соклей.
“Да, но другой вопрос в том, насколько сильно актер навредил себе своим острым языком?” Сказал Протомахос. “Некоторые люди не захотят нанимать его сейчас, боясь, что он снова выйдет из роли”.
Наконец, к счастью, комедия закончилась. Следующая была лучше – но тогда плохое вино было лучше уксуса. Менедем сказал: “Я не думаю, что Аристофану есть о чем беспокоиться в этом году”.
Соклей хотел бы поспорить с ним. Он знал, что не сможет, не из-за того, что они видели до сих пор. Но затем “герольд" объявил третью и последнюю комедию: «Колакс», Менандрос!”
“Сейчас вы увидите кое-что, на что стоит посмотреть”, – сказал Соклей.
“Неплохое название: Льстец”, – сказал Менедем. “Но что он будет с ним делать?" Если он поднимет шумиху, как эти двое последних парней ...” Он откинулся назад и скрестил руки на груди, словно бросая вызов Менандросу, чтобы произвести на него впечатление.
К огромному облегчению Соклея, поэт не разочаровал. Его портрет льстеца был пугающе реалистичным; напыщенный солдат, против которого выступал главный герой, происходил из породы, слишком распространенной со времен Александра. А его поваром мог быть Сикон, прямиком из дома Менедема.
Он, безусловно, звучал так же самоуверенно, как и Сикон:
“Возлияние! Ты – тот, кто следует за мной – дай мне долю жертвенника.
Куда ты смотришь?
Возлияние! Пойдем, мой раб Сосий. Возлияние!… Хорошо.
Pour! Давайте помолимся олимпийским богам
и олимпийским богиням: им всем, мужчинам и женщинам.
Возьмите язык! В связи с этим, пусть они дадут спасение,
Здоровье, наслаждение нашими нынешними благами,
И удачи всем нам. Давайте помолимся за это ”.
Все закончилось счастливо, как и предполагалось в комедии, когда льстец договорился с солдатом, чтобы тот поделился благосклонностью девушки с ее соседом. Пьеса получила больше аплодисментов, чем две другие, вместе взятые. Повернувшись к Менедему, Соклей спросил: “Что ты думаешь?”
“Это... было неплохо”. Голос Менедема звучал странно неохотно, как будто он не хотел признавать это, но ничего не мог с собой поделать. “Нет, это было совсем не плохо. Это был не Аристофан ...”
“Предполагается, что это не Аристофан”, – вмешался Соклей.
“Я собирался сказать именно это, если бы ты дал мне шанс”, – сказал его кузен с некоторым раздражением. “Это не Аристофан, но мне понравилось. Ты был прав. Вот. Теперь ты счастлив?”
“Да”, – сказал Соклей, что обезоружило Менедема. Он продолжил: “Я был почти уверен, что мне это понравится – мне всегда нравились комедии Менандроса. Но я мог только надеяться, что ты это сделаешь. Я рад, что ты это делаешь ”.
“Если фильм не получит приз за комедию, значит, кто-то снова распределил серебро среди судей”, – сказал Протомахос.
“У нас на Родосе такое тоже случалось несколько раз”, – сказал Соклей. Менедем скорчил недовольную гримасу, чтобы показать, что он об этом думает. Соклей спросил: “Насколько распространено это здесь? Я помню слухи в мои студенческие годы”.
“За последние десять лет я видел больше по-настоящему плохих решений, чем когда-либо мог вспомнить”, – ответил родосский проксенос. “Я подозреваю, что это связано с ...” Он пожал плечами. “Ну, ты знаешь, что я имею в виду”.
Соклей не понял, не сразу, но ему также не понадобилось много времени, чтобы понять, что имел в виду Протомахос. “Много вещей продается в эти дни?” спросил он небрежно, не называя Деметрия Фалеронского по имени: он усвоил свой урок.
Протомахос опустил голову. “Можно и так сказать. Да, можно и так сказать”.
Но затем глава судейской коллегии сложил ладони рупором у рта и провозгласил: “Лауреатом приза за комедию в этом году является «Льстец» Менандроса!” Люди, которые не покинули театр, приветствовали и хлопали в ладоши. Худощавый мужчина лет тридцати пяти, сидевший во втором ряду, встал, довольно застенчиво помахал рукой, а затем снова сел.
“Он может добиться большего”, – сказал Протомахос, неодобрительно кудахча. “Он выигрывает призы уже десять лет. Он должен показать, что, по его мнению, заслуживает их.” Он пожал плечами. “Что ж, ничего не поделаешь. И мы вернемся к нашей обычной жизни через пару дней. ”Дионисия" прилетает только раз в год."
“Тем не менее, я рад, что мы прибыли сюда вовремя”, – сказал Соклей. “Теперь Менедем и я можем начать думать о получении достаточной прибыли, чтобы покрыть все эти дни простоя”. Он посмотрел на север и запад, в сторону агоры. “Мы сделаем это”.
6
Ксеноклея прижалась к Менедему и плакала в темноте своей спальни. “Что мы собираемся делать?” – причитала она, но тихо, так что ни один звук не просачивался наружу через дверь или ставни. “Дионисия заканчивается после сегодняшнего вечера, и я тебя больше никогда не увижу”.
Целуя ее, он почувствовал соленый привкус ее слез. Он думал, что она проявит больше здравого смысла; она должна была быть на три или четыре года старше его, где-то за тридцать. Он попытался отнестись к происходящему легкомысленно: “Что ты имеешь в виду, говоря, что больше никогда меня не увидишь, милая? Не говори глупостей. Все, что тебе нужно будет сделать, это выглянуть из этого окна во внутренний двор, и там буду я. Мы с двоюродным братом собираемся провести в Афинах большую часть лета ”.
Она плакала сильнее, чем когда-либо. “Это еще хуже”, – сказала она. “Я увижу тебя, но не смогу поговорить с тобой, не смогу прикоснуться к тебе ...” Она сделала это очень интимно. “С таким же успехом вы могли бы позволить умирающему от голода человеку увидеть банкет, но не давать ему есть”.
Это было лестно и тревожно одновременно. Он думал, что нашел любовницу, с которой можно развлечься в «Дионисии». Но Ксеноклея думала, что нашла… что? Любовник, который увезет ее, как Парис увез Елену? Если так, ее ожидало разочарование. И тебя могут ждать неприятности, сказал себе Менедем. “Тебе нужно кое-что сделать”, – сказал он ей.
“Что? Это?” Ее рука снова сомкнулась на нем. Он почувствовал, что начинает подниматься. Если бы он встретил ее несколькими годами раньше, они бы уже снова занимались любовью. Ему потребовалось немного больше времени между раундами, чем у него было в двадцать с небольшим.
Но, несмотря на то, что его отвлекли, он покачал головой. “Нет, дорогая. Когда-нибудь скоро тебе нужно будет соблазнить своего мужа. Нанеси что-нибудь шафрановое и накрась лицо. Когда он заберет тебя, вытяни свои тапочки вверх, к крыше ”. Он знал, что цитирует клятву в Лисистрате, но Аристофан сказал это лучше, чем он мог.
“Ты говоришь мне это сейчас? Когда мы такие ?” Ксеноклея схватила его руку и положила на свою обнаженную грудь. Хотя у нее и Протомахоса были замужняя дочь и маленький внук, ее груди были такими же твердыми и торчащими, как у молодой женщины – вероятно, она сама не кормила своего ребенка грудью.
Менедем знал, что она сердита. Он также знал, что должен рискнуть этим гневом. “Я верю, дорогая”, – серьезно сказал он. “Если случится так, что ты будешь беременна, ему лучше иметь возможность думать, что это его”.
“О”. К его облегчению, гнев Ксеноклеи испарился. Она вздохнула. “После тебя он будет заплесневелой соленой рыбой после кефали”.
“Ты милая”, – сказал он и, возвышаясь над ней, вытянул ее ноги к крыше, хотя на ней не было тапочек. После этого она снова заплакала. “Не делай этого”, – сказал он ей, проводя рукой по милому изгибу ее бедра. “Это было весело. Нам понравилось. Помни это. Забудь об остальном”.
“Все кончено”. Ксеноклея плакала сильнее, чем когда-либо.
“Может быть, мы найдем другой шанс, если твой муж пойдет на симпозиум или что-то в этом роде”, – сказал Менедем. “Но это было хорошо – таким, каким оно было, – даже если мы этого не сделаем”.
“За то, что это было”. Ксеноклее явно не понравилось, как это прозвучало. “Я хотела, чтобы это было...” Она вздохнула. “Но этого не произойдет, не так ли?”
“Нет”. Менедем был по-своему честен. “И даже если бы это было так, через некоторое время ты бы решил, что предпочел бы сохранить это. Поверь мне, моя дорогая – ты бы так и сделала”.
“Ты не представляешь, как это мало”, – сказала Ксеноклея. Для кого-то вроде Менедема, который ассоциировал аттический акцент с мудростью и авторитетом, ее слова имели дополнительный вес из-за того, как она их произносила. Она сказала: “Если я возьму Протомахоса в постель, он может упасть замертво от неожиданности”.
“Сделай это в любом случае”, – сказал ей Менедем. Независимо от того, какой вес имели ее слова, он оставался уверен в том, что требовалось в данной ситуации. “И, кроме того, любовь – кто знает? Если ты сделаешь его счастливым, возможно, он сделает счастливой и тебя ”.
В голосе Ксеноклеи слышался только уксус. “Вряд ли! Все, что его волнует, – это собственное удовольствие. Вот почему...” Она не продолжила, не словами, но крепко сжала его.
“Ты мог бы научить его, ты знаешь. Я думаю, он сможет научиться, если ты это сделаешь. Он не глупый мужчина. Дружелюбные женщины научили меня”, – сказал Менедем.
Жена Протомахоса уставилась на него, ее глаза казались огромными в темноте.
Она снова рассмеялась, на этот раз на другой ноте. “Забавно, что прелюбодей дает мне советы о том, как лучше ладить с моим мужем “.
“Почему?” Спросил Менедем, поглаживая ее. “Он будет здесь. Я нет. Ты должна получать все возможное удовольствие, независимо от того, где ты его получаешь”.
“Ты это серьезно”, – удивленно сказала Ксеноклея.
Менедем опустил голову. “Да, конечно, хочу”.
“Конечно’, “ эхом повторила она и снова рассмеялась. “Неудивительно, что у тебя так много женщин – не пытайся сказать мне, что ты впервые играешь в эту игру, потому что я знаю лучше. Ты слишком хорош в этом, намного лучше. Но ты действительно хочешь, чтобы все хорошо провели время, не так ли?”
“Ну, да”, – сказал Менедем. “Жизнь становится намного приятнее, когда ты делаешь, и большую часть времени ты можешь, если только ты будешь немного работать над этим. Ты так не думаешь?” Теперь он сжал ее и наклонил голову, чтобы подразнить языком ее сосок.
У нее перехватило дыхание. “Если ты продолжишь это делать, я никогда не захочу отпускать тебя, а я должна, не так ли?”
“Боюсь, что так”. Он поцеловал ее в последний раз, надел свой хитон и бесшумно спустился по лестнице. Дверь спальни тихо закрылась за ним.
Он выглянул во двор из темноты у подножия лестницы. Никаких шевелящихся рабов. Хорошо. Он поспешил в маленькую комнату, которую выделил ему Протомахос. Он почти добрался туда, когда жужжащий козодой, низко пикирующий за мотыльком, пролетел перед его лицом и заставил его в тревоге отшатнуться.
“Глупая птица”, – пробормотал Менедем. Вот и дверь. Он вздохнул с облегчением. Он добрался.
Он отодвинул засов, открыл дверь, вошел внутрь и закрыл ее за собой на засов. В комнате было чернильно темно. Лампа не горела, но ему и не нужно было ничего, чтобы найти кровать. Он сделал один шаг к ней, когда глубокий голос произнес из мрака: “Добрый вечер, сын Филодемоса”.
Менедем замер. Лед поднялся по его позвоночнику быстрее, чем белка, взбирающаяся на дерево. Если Протомахос поймал его, когда он пробирался обратно в свою комнату, это было почти так же плохо, как застать его в постели с Ксеноклеей. “Я... я могу объяснить...” – начал он, а затем замолчал, когда разум начал преодолевать первый шок ужаса. “Фурии тебя побери, Соклей!” – вырвалось у него.
Его кузен тихо рассмеялся, там, в темноте. “Я просто хотел, чтобы ты подумал о большой редиске у себя в заднице или о том, что еще Протомахос мог бы с тобой сделать, если бы застукал тебя со своей женой”.
“Думаешь? Нет!” Менедем вскинул голову. “Ты хотел, чтобы я упал замертво от страха, и твое желание почти исполнилось”. Его сердце все еще колотилось, как будто он бежал от Марафона до города. Но он чувствовал не напряжение, а остатки паники.
“Если бы ты не сделал ничего плохого, тебе не нужно было бы бояться”, – указал Соклей.
“Когда я был маленьким мальчиком, моя мать могла говорить со мной таким образом”, – сказал Менедем. “Я больше не маленький мальчик, и моя мать мертва. И даже если бы она была все еще жива, ты – это не она.”
“Кто-то должен вразумить тебя, – ответил Соклей, – или напугать, если разговоры не помогут. Наш собственный хозяин ...”
“Теперь, когда с Дионисией покончено, мы с его женой, вероятно, закончили, так что перестань волноваться”, – сказал Менедем. “Если бы он не пренебрегал ею, она бы не посмотрела на меня, не так ли?”
“Он этого не делает”, – сказал Соклей.
“И откуда ты это знаешь?” Менедем усмехнулся. “Я знаю, что Ксеноклея сказала мне”.
“И я знаю, что я видел в первый день Дионисии, когда ты все еще преследовал других женщин по городу”, – парировал Соклей. “Я видел, как Протомахос спускался по лестнице с женской половины с видом мужчины, которому только что понравилось с женщиной. Как ты думаешь, сколько правды в словах его жены?”
“Я ... не знаю”. Менедем пробормотал себе под нос. Ксеноклея, безусловно, звучала убедительно – но тогда она бы так и сделала, не так ли? Он попытался собраться: “Насколько вам известно, Протомахос переспал с рабыней, а не со своей женой – если он вообще с кем-нибудь переспал”.
“Единственные женатые мужчины, которые спят с рабынями в своих собственных домах, – дураки”, – сказал Соклей. “Ты собираешься сказать мне, что Протомахос такой дурак?”
“Никогда нельзя сказать наверняка”, – ответил Менедем, но он знал, что ответ был слабым. Как он сказал Ксеноклее, он не считал ее мужа каким-либо дураком; по всем признакам, торговец камнями был очень умным человеком. Поскольку это так, он продолжил: “Я уже говорил тебе – что бы ни произошло между Ксеноклеей и мной, что не твое дело ...”
“Это если то, что ты делаешь, доставит нам неприятности в Афинах”, – вмешался Соклей.
“Этого не произойдет, потому что мы закончили. Я тебе это говорил”, – сказал Менедем. “А теперь, будь добр, убирайся из моей комнаты, куда тебе вообще было незачем приходить”. Когда Соклей протиснулся мимо него – почти врезался в него, – направляясь к двери, Менедем добавил: “И не думай, что я это тоже забуду, потому что я этого не забуду. Я у тебя в долгу, и мы оба это знаем ”.
“Я дрожу. Я содрогаюсь. Я трепещу”. Соклей открыл дверь и закрыл ее за собой. Он не захлопнул ее; это привлекло бы к ним внимание. Мгновение спустя его собственная дверь открылась, а затем закрылась. Засов с глухим стуком встал на место.
Менедем снова запер свою дверь. Он лег, задаваясь вопросом, сможет ли заснуть после того испуга, который устроил ему Соклей. Он также задавался вопросом, сколько лжи он услышал от Ксеноклеи. В свое время он не раз лгал, чтобы оказаться в постели – или прислонившись к стене, или сидя на табурете, или в любых других позах – с женщиной. То, что женщина лгала ему по той же причине, было, как он думал, чем-то новым.
Почему она это сделала? Чтобы вызвать сочувствие? Чтобы разозлить его на Протомахоса? Он пожал плечами. Вероятно, сейчас это не имело значения. Лучше бы этого не было, сказал он себе. Дионисия закончилась. С завтрашнего дня он приступит к делу. И, независимо от того, насколько приятной была Ксеноклея, он с нетерпением ждал этого. Он зевнул, поерзал, потянулся… и заснул.
Когда он проснулся на следующее утро, дождь барабанил по внутреннему двору Протомахоса. Было позднее время года, но не невозможно позднее. Он был рад, что "Афродита " уже стояла пришвартованной в Пейрее; плыть под дождем означало напрашиваться на неприятности.
Менедем и Соклей вышли из своих комнат одновременно. Они оба поспешили к андрону. Когда они вошли, родосский проксен ел хлеб с маслом. “Добрый день, лучшие”, – сказал он, проглотив кусочек. “Травы и цветы в этом году вырастут позже обычного и лучше, чем обычно”.
“И мы испачкаемся в грязи”, – сказал Менедем, глядя себе под ноги. Они уже испачкались. Раб принес завтрак для него и его двоюродного брата. “Благодарю вас”, – пробормотал он и начал есть.
“В такой день, как сегодня, на агору придет меньше людей”, – сказал Протомахос. “Возможно, вы захотите остаться здесь и отдохнуть, пока дождь не утихнет”.
Хотя Менедем, по нескольким причинам, совсем не возражал бы, Соклей заговорил раньше, чем он смог: “Большое спасибо, благороднейший, но нам лучше спуститься на корабль и забрать кое-что из наших товаров. Если бы вы могли выделить для них одну-две кладовки, мы были бы у вас в долгу еще больше, чем сейчас. Гораздо проще вести бизнес из Афин, чем мотаться туда-обратно в акатос ”.
“Вы прилежны”, – одобрительно сказал проксенос. “Мужчины, которые работают, даже когда им не нужно далеко ходить. Позвольте мне поговорить с моим управляющим, и мы посмотрим, какое место мы можем выделить для вас. У вас будет все, что вам нужно, я вам это обещаю ”.
Когда двое родосцев направились под дождем в сторону Пейрея, Менедем сказал: “Клянусь египетским псом, Соклей, я не собирался подкрадываться к Ксеноклее, когда в доме ее муж. Тебе не нужно было вот так тащить меня за ухо ”.








