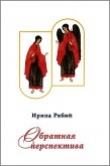Текст книги "Обратная перспектива"
Автор книги: Гарри Гордон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Глава седьмая
1Плющ, не просыпаясь, привычно протянул руку, но тут же одёрнул и проснулся – ладонь легла на что-то упругое и холодное.
Бирюзовая резиновая грелка в виде рыбки лежала чуть пониже соседней подушки.
В последнее время Снежана взяла себе моду: уходя на работу, оставлять вместо себя горячую грелку.
Плющ помалкивал: это было глупо и трогательно, но витало при этом ощущение подвоха, дуновение, знакомое и неприятное, как запах чеснока в автобусе.
На этот раз он проснулся позже обычного и от грелки веяло отчаянным, подземным холодом.
– Нет ничего страшнее, – думал Плющ, разглядывая легкомысленную раздутую рыбку – труп воды, мёртвый натюрморт, смерть после смерти.
Ещё недавно мысли о смерти Плюща не трогали – ну, шестьдесят, так шестьдесят, были же Ренуар, и Клод Моне, Тициан, наконец. Но хронический кашель курильщика приобрёл в последнее время пугающую интонацию, и Константин Дмитриевич всё чаще смотрел с бессмысленной тоской в белое небо.
На самом деле, в умирании нет никакой прелести. Ничего творческого. Это даже не поступок. И стоило ли всю жизнь отстаивать свою отдельность, чтобы тебя в конце сгребли под одну гребёнку. Это даже не событие, в том смысле, что нет ни сюжета, ни драматургии, ни торжественной кульминации, когда захватывает дух обратный отсчёт: три, два, один – старт! Нет никакого старта, только раздражение, страх и стыд.
Вздохнув, Плющ решил вспомнить о хорошем. Хорошее было: бизнесмен Надежда заказала три резные рамы, рамы готовы и сегодня их заберут. Интересно, сколько она заплатит.
Он прошёлся по мастерской и сел в кресло. Плющ садился в него, когда пребывал в замешательстве, и приходил в себя, глядя на этюд Кандинского, писанный с натуры в ученические годы.
Этюд этот он приобрёл давно, на Староконном рынке, выменял на карманный «мозер» без стрелок. При этом продавец Кандинского обещал Плющу небольшого Шикельгрубера, то есть Гитлера, если Костик достанет ему «брегет» в приличном состоянии.
Во были времена! Всего-навсего лет тридцать тому назад.
Серый бережок и розовое море Кандинского на этот раз отозвались в Плюще острым приступом тоски и неприкаянности. Из кухни потянуло печальным запахом гниющих водорослей. Константин Дмитриевич выморгал слезу и удивился себе:
– Ну, ты даёшь, Плющик.
Дело не в натурном пейзаже, это скоро понял и сам Кандинский – с натуры писать – только пачкать. Художник и натура существуют параллельно и самостоятельно, подпирая и уважая друг друга.
Так в чём дело? Неужели и вправду поддаться уговорам и двинуть в Одессу? Карла, судя по всему, не поедет. Конец сентября на носу, а от него ни слуха, ни духа. Что-то он сторонится прошлого. Не нам судить – может, зажрался, ничего страшного. Человек, у которого новые зубы, имеет право на особое мнение.
Стукнула дверь, и заявился Паша.
– О, Криница, – обрадовался Плющ, – Ты, как всегда вовремя. Как ты здесь? Ты же где-то в дыре, у безрукого…
– Да там делов всего… шесть колец. Вырыли на раз. А безрукий, Константин Дмитриевич, оказался твой кореш, Борисыч. Только он не безрукий, разве что в технике. А так – просто не хочет. По барабану. Я, говорит, полжизни отпахал физически, и устал. Пальцы вон скрутило от цементного раствора.
– А, да, – вспомнил Плющ. – Мозаика – каторжная работа. Представляешь – леса шаткие, доски ненадёжные, навернёшься – только так. И ящики со смальтой таскать с яруса на ярус, килограмм по двадцать, и скакать всё время – вниз-вверх, иначе не увидишь, что ты там наваял. Хорошо, я вовремя соскочил. А скажи, Криница, – говорил он, – собирается ли в Одессу?
– Вряд ли. Квасит с местными мужиками по-чёрному. Куда ему.
– Ну, ладно, – с непонятным облегчением вздохнул Плющ.
– Дмитрич, извини, я пустой. Подумал – день только начинается.
– Как начинается, так и закончится. Всё в наших руках. Пошли на кухню.
«Окно надо помыть, – отметил Плющ, открывая холодильник, – совсем серое».
– Клёвая у тебя работа, Пашечка, – Плющ выпил и мечтательно приступил к рассуждениям. – Если порыться, сколько ещё нужно колодцев. И для прошлых людей тоже. В порядке реабилитации… или компенсации? Тьфу, совсем заврался. А давай, Криница, инсталляцию сделаем. В духе времени.
– Зачем?
– Нет, ты слушай. Давай, мы на моей могилке, – представляешь, жёлтая глина с белыми камушками, – поставим деревянную криницу. Сруб и журавль.
– Журавль, Костя, нельзя, – рассудил Паша, – слишком громоздко. Зачем лупить противовесом по клиентам… по скорбящим.
– Тоже верно. А жалко – красиво было бы. Ну, тогда ворот. Представляешь, приходит Карла с Кокой, крутят ворот, а из криницы в деревянной бадье – деревянный Плющик, ручкой машет. Маленький такой, меньше этого. Я вырежу.
В дверь постучали.
– Я сейчас.
Плющ торопливо вышел в прихожую.
На фоне дотлевающих берёз возник крупный синий силуэт.
– Как красиво, – сказал Плющ. – Вы ко мне?
– Константин Дмитриевич? – с сомнением спросил силуэт. – Меня прислала Надежда.
– Проходите, – Плющ изобразил реверанс, – водки выпьешь?
– Я ж за рулем, – отмахнулся водитель. – Тут рамы какие-то…
Плющ кивнул и вынес рамы, обмотанные тряпочкой и обвязанные верёвочкой.
– Осторожно только, не побей. До машины донести?
– Я уж сам как-нибудь.
Водитель окинул взглядом шустрого старичка, достал из кармана конверт.
– Это вам.
– Большое спасибо, – поклонился Плющ.
– И ещё: Надежда просила прибыть к ней на вечеринку. Часов в семь. С супругой.
Плющ представил темень и слякоть, и ветер на мосту…
– Я отвезу, – догадался водитель.
– Большое спасибо, – выпрямился Константин Дмитриевич. – Непременно будем.
– Ну, что там? – спросил Паша.
Плющ вскрыл конверт.
– Триста баксов. За три недели работы. Представляешь?
– Ничего себе! Я за неделю лопатой столько нарою.
– А Снежана за месяц наметёт и намоет… Ну ладно. Дарёному коню…
– Ничего себе! – задохнулся Паша.
– Ну, я же их не покупал…
– И ты, Дмитрич, после этого в гости к ней собрался? Она ж мастера опустила!
– Конечно, поеду. Я ей не папа, чтобы воспитывать. Давай лучше выпьем. У меня, Пашечка, две альтернативы, как говорит Лелеев. Снежана в Одессу выпихивает, а мне зубы нужны, сам видишь, позарез. Бабок нет ни на то, ни на другое, но с этими – он кивнул на конверт, – можно хотя бы ввязаться, а там – Бог пошлёт…
У Надежды в большой гостиной был полумрак, горели свечи. Застолья не было, а был, в духе времени, фуршет.
На одном столике стояли бокалы с белым и красным вином, несколько сортов водки в графинах. На другом – закуски: красная икра в половинке яйца, маслины, проткнутые зубочистками, бутерброды с сёмгой и колбасой.
Покачивались по залу фигуры, человек двенадцать, Плющ с трудом опознал в полумраке двух или трёх знакомых. Снежана забилась в угол, посверкивая оттуда цыганским глазом.
– Что ты сидишь, как Врубель в сирени, – с досадой сказал Плющ, – общайся, давай.
Он вспомнил салоны середины восьмидесятых, их было несколько на Москве, – хозяйки, негласные сотрудницы КГБ, вытаскивали на свет интересных людей. Сходство усилилось до дежавю, когда на пол уселась женщина в свитере и запела тихим голосом что-то этническое, печальное. Парень в джинсах подыгрывал ей на банджо…
«Как медленно расходятся круги хороших намерений, – подумал Плющ, – за двадцать лет – сто пятьдесят километров…»
И всё-таки затхлая эта духовность была ему милей сквозняков с Брайтон-Бич.
– А скажите, Надежда, – вспомнил Плющ, – где же принцесса, ваша дочка?
– Она в Москве, Константин Дмитриевич, в колледже, на дизайнера…
– Дизайн? Ого! Интерьер?
– Да нет, – смутилась Надежда. – Дизайн головы. Визажизм.
– Здорово, – оценил Плющ. – Я знал, что она талантливая…
– Да уж, – вздохнула Надежда и ослепительно улыбнулась. – Простите… У меня гость неохваченный.
У стены в кресле сидел грузный человек, с лицом настолько семитским, словно над этим трудились особо и получилось хорошо. Он помалкивал, казалось, с вежливым интересом слушал и наблюдал.
– Скажите, Михаил Семёнович, – обратилась к нему хозяйка, – правда ли, что у вас в Израиле существует регион, где зимуют наши журавли?
– Наши журавли, – поправил Михаил Семёнович и так глянул на Надежду, что стало очевидно – гость пьян глубоко и безвозвратно.
– А скажите, – чирикнула лёгкая гостья, – зяблики тоже у вас зимуют?
– Зяблик – мудак, – изрёк Михаил Семёнович и замолчал окончательно.
На пороге появился священник, и хозяйка радостно его приветствовала.
Крепкий, лет пятидесяти, он, если б не борода, походил на простого советского человека, майора в отставке, коменданта общежития или начальника отдела кадров. Внешность обманывала – отец Владимир был из художников.
Первым, прищурившись, отец Владимир разглядел Плюща – самого маленького и неприкаянного.
– Что-то, Константин Дмитриевич, давно я тебя не видел, – священник сжал ему плечо тяжёлой рукой. – Зашёл бы в храм, потолковать.
Плющ махнул рюмку водки, артистически поклонился:
– Да я бы зашёл, только боюсь – ты меня, батя, охмурять станешь. А у меня бабушка староверка была. Я, в случае чего, в католики подамся, там хоть сидеть можно.
– Тебя охмуришь, как же… Где сядешь, там и слезешь. А староверы – тоже люди, – отец Владимир вздохнул. – Все мы скоро окажемся староверами. – Он огляделся, – что здесь наливают? Давай, Константин, отойдём. Дело есть.
Надежда, одним ухом контролирующая ситуацию, успокоилась и шарадами отогнала гостей в сторону.
– Нила Столобенского можешь вырезать? Сантиметров семьдесят высотой. Благотворительно!
– Отец Владимир, – напрягся Плющ, – с благотворительностью тоже надо разобраться. Кому, как не тебе, знать, что художнику тоже помогать надо.
– Нет, почему же, – невпопад встряла Надежда, – каждый имеет право на спасение души.
Плющ неприязненно глянул на Надежду, перевёл взгляд на затенённую стену – угадывались на ней две маленькие обнажёнки работы Плюща, Константина Дмитриевича, подаренные им некогда шахматному клубу.
– Так у меня, батя, один этюд стоит тысячу баксов!
– Ну и продавай.
– Так никто ж не покупает, – засмеялся Плющ. – Ладно. В конце концов, работа стоит столько, сколько за неё дают. А что до Нила, давай благотворительность поделим – половина моя, половина твоя.
– Не стяжай! – грозно предупредил отец Владимир.
– Только бабки вперёд. Аванс, хотя бы.
– Губитель, – проворчал священник и полез под рясу, в брючный карман. Он порылся в тощем бумажнике.
– Вот тебе сто баксов.
– Да мне это на один зуб, – развеселился Плющ. – Буквально.
– А ты не роскошествуй. Вставь деревянный. Чем ты хуже древних…
Батюшка обнял Плюща за плечи и сказал тихо и серьёзно:
– Зубы потом. Съездил бы ты, Костя, на родину, погрелся. Там, небось, ещё тепло. Продышись. А здесь – снег скоро выпадет. Покрова на носу. А Нила сделаешь, как вернёшься. Договорились? – он медленно перекрестил смущённого Плюща. – Благословляю.
В салоне тихо ворковали что-то про пиксели и гигабайты. Снежана подошла, взяла Плюща за локоть.
– Может, тихо слиняем?
Плющ медленно покружил вокруг столика, выпил рюмку, но покоя не было. И когда речь зашла о фьючерсах, он решительно шепнул Снежане:
– Сваливаем.
И тихонько пошёл к выходу.
Дома Плющ не находил себе места, не знал что делать: то ли пить дальше и слушать уговоры Снежаны – про Одессу, то ли заснуть, и – утро вечера мудренее.
Всё решил Лелеев, ворвался с белыми глазами, но не от пьянства, а от возбуждения и решимости.
– Дмитрич, – сказал он, не глядя нащупывая стол бутылкой водки.
– У тебя есть этюд, самый завалящий?
– У Константина Дмитриевича не бывает завалящих этюдов, – нахмурилась Снежана.
– Да подожди ты, – отмахнулся Лелеев, – дело серьёзное.
– А у меня, Лелеев, все завалящие, – усмехнулся Плющ, – а что?
– Очень нужно. Мне срочно нужен подарок.
Лелеев достал из кармана триста долларов.
– Отрежь на эту сумму. Говорят, ты в Одессу собрался?
– Какой же ты, Лелеев, дуролом, – умилилась Снежана, – дай, я тебя поцелую.
– Да я хотел… зубы, – пробормотал Плющ, чувствуя, что сдаётся.
– В жопу зубы! – заорал Лелеев. – Наливай!
– Нет, что происходит, – начал Плющ, когда они уселись за столом, как следует, под закуску, – поезжай, говорят, на родину. А родина, Лелеев, это когда тебя выпихивают. Это место, где тебе нет места. – Плющ рассмеялся. – Видишь, развеселился на старости лет, хоть сейчас в клуб, падла, весёлых и находчивых.
Лелеев с серьёзным лицом переждал это лирическое отступление.
– Да кто выпихивал? – спросил он. – Инородцы? Жиды? Черножопые?
– Свои же и выпихивают. Они твою родину больше тебя любят, а ты ещё и виноват. А единственное, что я имею в Одессе – так это дом в Кимрах. А теперь ещё и вы. Тоже выпихиваете. Выходит, родина здесь. А что, классно: летом здесь Левитан, зимой – Саврасов.
Внезапно лицо его погасло, как тусклая лампочка в привокзальном туалете:
– Как же я поеду, Снежаночка, без тебя?
– Вы же знаете, Константин Дмитриевич, меня уволят, если я сейчас уеду. И так… Я подумала, может тебе захочется побыть одному, походить, повспоминать…
– Очень хочется, – простодушно сказал Плющ.
– Ну вот, а я в конце вырвусь на несколько дней, заберу тебя. А жить будешь у Коренюка в мастерской.
– Откуда ты знаешь?
– Так я созвонилась. Одесса тебя ждёт, Константин Дмитриевич, – Снежана победоносно выпила рюмку.
– И не сказала?
– Я же вас боюсь.
Догадавшись, что его решимость ехать бесповоротна, Плющ стал капризничать:
– Только никаких самолётов. Просто, не люблю, когда меня перевозят. Сидишь, как горошина в стручке. И курить нельзя.
Он встал, прошёлся по кухне, потом нырнул в мастерскую и вышел с любимой трубкой и табаком. Трубку он курил в минуты особого самоуважения.
– Пересох табак, зараза. Надо чаще пользоваться. В конце концов, пора выгулять белые штаны. Ты знаешь, Лелеев, какие у меня штаны? Очень даже хорошие. Представляешь, тонкая фланель, английская.
– Сроду не видел, – глупо сказал Лелеев.
– И не увидишь. Как я могу их здесь носить! В Кимрах белые штаны выглядят вызывающе, как лимузин. А в Одессе – это будет символ моей успешности.
– Успешности! – с досадой сказала Снежана. – Они от вас выставки ждут. Даже название уже придумали: «Возвращение».
– Вот суки. Да вы погодите, может, ещё билетов не будет. В Одессе всегда проблема с билетами. А в общем вагоне я не поеду.
– Вот, блин, Багрицкий нашёлся! – рассердилась Снежана. – Помнишь, как он с Катаевым торговался? Ты б ещё спросил: «А кушать?»
– Кушать меня не колышет.
– Так вот. Билет уже куплен. И оплачен. Купейный. Осталось его забрать в кассе на вокзале. Поезд послезавтра, в пятнадцать десять.
– Как же?..
– А так. По Интернету. Иногда, Константин Дмитриевич, надо слезать с пальмы…
Плющ вспомнил холодную грелку и помрачнел:
– И долго ты будешь прыгать с ветки на ветку?
Лелеев почувствовал приближение скандала и громко чихнул.
– Будь здоров, князь, – отвлёкся Плющ. – Какой же ты тонкий, падлюка. Я и не предполагал.
Он попыхтел трубкой и задумался.
Выставки они от меня ждут. Вот всё брошу… Хотя, можно и выставку, если бы не… Одесса – это же заграница. Нужно разрешение на вывоз национального, падла, достояния. Это лет десять назад всё было схвачено, в Министерстве культуры – без очереди.
– Сик… Что там с транзитом, Снежана?
– Каким транзитом?
– Который Мунди.
– А… Так проходит слава мира. Ты о чём?
– Да так… Лелеев! Ты чего мышей не ловишь? Наливай.
– Так о чём, всё-таки?
– Очень просто. Раньше слава была результатом деятельности. Что заслужил – то и маешь. Справедливо, несправедливо – неважно. А теперь что получается – эти потные мальчики и девочки корячатся в телевизоре для того, чтобы их гаишники знали в лицо?.. Интересное кино. Ладно. Одесса хочет выставки, – будет ей выставка. Голый король называется. Я им интересен в качестве мифа. Завтра, ребята, поможете. А теперь – спать. Достали вы меня. Лелеев, приходи часа в два.
На полу мастерской Плющ разложил работы. Это были, в основном, почеркушки – эскизы, нашлёпки, варианты. На картонках, на крафте и ещё пёс знает на чём. Акварелью, гуашью, акрилом.
Срезал с подрамников несколько старых небольших холстов.
– Значит, задача такая. Лелеев, у тебя интеллект среднестатистической внучки дошкольного возраста. Так вот: на обороте этих бумажек надо написать тексты: дорогому дедушке и так далее. Чтобы было понятно – на национальное достояние это фуфло не катит. Вот тебе фломастеры, выбери поярче – и вперёд. Я думаю, Одесса найдёт бабки на паспарту и рамки. А несколько своих, резаных, я захвачу. Это можно.
Вечером пришла Снежана, и Плющ проследил, чтобы старинные его рубашки были выглажены тщательно.
На дно чемодана уложили картонки и холсты, на белые штаны – рулон с внучкиными автографами. Плющ наклонил голову – направо, налево, прищурился:
– Ничего, красиво получилось, – он закрыл чемодан. – Лелеев, дай мобильник, я недорого. Набери этот номер.
– Алло… Я проездом. Приходи завтра ровно в полдень в метро «Китай-город», под башкой. Это Плющик.
Утром на месте грелки оказалась Снежана.
– Костя, уже девятый час. Маронов приедет в девять.
Маронов, президент шахматного клуба, по счастливой случайности собрался этим утром в Москву, по своим делам.
После слякотного Талдома сорок километров по пустой дороге просквозили незаметно через прозрачные леса. Плющ зажмурился и размышлял, стоит ли прибалтывать Карлика приехать вслед за ним, и решил, что не стоит: не собрался, так не собрался.
На Дмитровском мосту движение почти остановилось. «Интересно, настанет когда-нибудь такое время, что я не буду ёрзать хотя бы часа два кряду…» После Икши мрачный Маронов заговорил:
– Константин Дмитриевич, на «Китай-город» к двенадцати никак не успеваем. Дай Бог, к вокзалу в половине третьего. Ещё ж билет надо вызволить.
– Всё правильно. Як бiдному жениться, так i нiч мала.
– Что?
– Это так, по-хохляцки… а сколько сейчас?
– Одиннадцать двадцать. Вот телефон, позвоните своему приятелю.
– Да поздно. Он уже в метро.
Маронов пожал плечами.
Плющу досталась верхняя полка. Нижние места занимали женщина средних лет и молодой гагауз.
– Может, поменяемся? – нерешительно сказала женщина, пока Плющ карабкался наверх.
– Да что вы, всё нормально, – улыбнулся Плющ. – Наверху кашлять удобнее. А что, таможенники сильно шмонают?
Гагауз прислушался. Женщина пожала плечами.
Таможенники не шмонали – посмотрели на беззубого старичка и отвернулись.
2
На одесском вокзале Плюща встретил волоокий Лёня Пац.
– Вы меня помните, Константин Дмитриевич?
– Ну да. Студент. Историк, кажется…
– Нет. Доктор. Диетолог.
– Я и говорю: доктора мастера на всякие истории. Тебя Коренюк прислал?
– В общем, да. Хотя я, как прослышал, сам вызвался… Мой папа вас любил.
– А что с папой? – не сразу встревожился Плющ.
– Ничего, – Лёня пожал плечами. – В Израиле пенсию получает. Тоже занятие для русского режиссёра.
Лёня подхватил сумку, повесил на плечо, потянулся за рамами.
– Нет, это я сам. Мой лёгкий крест. Ехать далеко?
– Да нет, Канатная, угол Успенской. На тачке пять минут.
Плющ закашлялся и закурил.
– А давай пешком пройдёмся. Сколько я здесь не был… Лет пятнадцать?
Он снял куртку, уложил её поверх сумки.
– Тепло, падла. Как в детстве.
– Сегодня обещали девятнадцать. Вода, правда…
– Я, Лёня, никогда не относился к морю потребительски, – высокомерно заявил Плющ и засмеялся.
В историческом центре ничего не изменилось: серые и охристые дома сокрушались и терпели из последних сил, ржавели каштаны. Только акации зеленели сквозь пыль, как ни в чём не бывало, но и с ними что-то произошло – стали, как и положено старикам, меньше ростом.
Ничего приветственного не исходило из окрестного пейзажа. Наоборот – Плющу показалось, что он никогда не уезжал отсюда, а пора, и уже давно, этот город сидит в печёнках, и жизнь где-то далеко впереди, широкая и молодая.
– Красиво, падла, – встряхнулся было Плющ, но призрак коммунального примуса был так непрозрачен, и так внятно доносился сквозь жизнь соседский утренний кашель, что все недавние десятилетия – с моментами славы, толпами иностранных коллекционеров, все радости и замешательства, гордость забвения, томительность нищеты, и бабы, бабы – показались ему сном на солнцепёке – сладостным и мучительным.
В мастерской Коренюка пахло увядшим ультрамарином, по стенам висело несколько ранних холстов хозяина, прочие стояли аккуратным рядком на стеллаже. Чувствовалось, что здесь давно уже ничего не происходит, и накануне была уборка, с антикварных вещей, найденных когда-то на знаменитых одесских помойках, когда новое поколение впервые предпочло «пепси» мещанскому быту, стёрта пыль. Диван, на котором Плющу предстояло ночевать, был аккуратно покрыт клетчатым пледом.
Степан Коренюк с чёрно-белой бородой и в белой рубашке сидел за столом и пил зелёный чай. Он встал навстречу вошедшим, степенно обнял Плюща, три раза коснулся бородой его щеки. Плющ не знал, какого рода отношения ему предстоят, и решил задать тон первым:
– Здорово, Стёпа, а где, падла, фанфары?
Коренюк без улыбки отвечал, что жизнь пошла нелёгкая, радоваться нечему, но для него, для Плющика, как для дорогого гостя, будет сделано всё – и общение, и отдых, и даже возможность поработать, если захочет.
Общение началось уже через несколько минут – пришёл Пасько, снисходительно улыбнулся и сел на диван. Пасько вот уже сорок лет был женат на еврейке, и успел возненавидеть всех людей, оптом и в розницу.
Пришли молодые братья Лялюшкины, сыновья покойного художника. Забежал телеведущий Феликс, толстяк с жадными и опытными глазами.
– Феликс, а где же твоя камера? Ты что, готов упустить шанс?
Феликс засмеялся:
– Нет, Плющик, ты от меня не уйдёшь. Мы запишем интервью в студии. На двадцать пять минут.
– Что ты, Феликс, у меня же столько слов не наберётся…
– Ничего. Я подскажу.
Появилась незнакомая журналистка. «Страшная какая», – удивился Плющ. У неё было зыбкое глицериновое лицо, в котором свободно плавали тёмные глаза.
«Я понял. Вот в таких деталях и кроется дьявол».
– Что-то я, ребята, не догоняю, – прервал холодную паузу Константин Дмитриевич и закашлялся. – Мы будем что-нибудь пить?
– Плющику, Плющику, – вздохнул Коренюк. – Я давно уже не пью. Врачи запрещают.
Он заметил ехидную улыбку Пасько, и продолжил:
– Но ради твоего приезда…
Младший Лялюшкин сорвался с места. Плющ потянулся к карману.
– Денег дать?
Лялюшкин на ходу сделал отстраняющий жест.
– Только не надо ностальгического шмурдила, – крикнул Плющ вдогонку, – водки возьми.
Лялюшкин принёс много, и водки, и вина.
Пришёл Кизимов, и Плющ искренне обрадовался, даже выдохнул вслух. Лёня Пац отозвал его в сторонку.
– Константин Дмитриевич, я сейчас тихонько слиняю. Вот, возьмите мобильник. Умеете пользоваться? Вот здесь, в меню, забит мой телефон. Звоните в любое время. Карточка местная, поэтому в Москву надо звонить через код. И это дорого. Ну, ничего, ещё купим.
Он тронул Плюща за плечо и скрылся.
– До чего трогательный пацан, – заметил Плющ.
– Да уж! – захохотал Пасько.
– А где, – вспомнил Константин Дмитриевич, – Зелинский? Жив, хотя бы?
– Он теперь труднодоступен, – улыбнулся Кизимов, – как и подобает главному историку Одессы.
– Понятно, – засмеялся Плющ, – я для него ещё слишком живой.
– Что вы, Константин Дмитриевич, – округлили глаза Лялюшкины, – он будет рад вас видеть. Спрашивал уже. А на выставку придёт обязательно.
О выставке, оказалось, уже договорились в Музее западного и восточного искусства, октябрь у них свободен. В любой момент, по мере готовности.
Тут же условились, что Лялюшкины займутся оформлением работ завтра же и открытие можно назначить число на двадцатое.
– Ты бы рассказал что-нибудь, – заметил Коренюк, выщипывая губами вино из рюмки. – Кстати, как там Карлик, всё стихи пишет?
– Нет, почему. Серьёзным художником заделался. Недавно написал Голгофу. Три метра на сто семьдесят. Для жены президента.
– Что, и мастерская хорошая?
– Ничего. Метров сто двадцать. С верхним светом. Правда, не в самом центре, а в Сокольниках. В лесу, можно сказать. Только он, в основном, в поместье своём сидит, на реке Медведице. Он купил это поместье на Горьковскую премию, дали ему такую за книжку рассказов.
«Понятно, – подумал Коренюк, – всё, что говорит Плющик, надо делить на два. Но даже если поделить…»
– Он хоть помнит, откуда взялся, где родился, чьё вино пил?
– Я его спрошу, – корректно ответил Плющ.
– Голгофа, говоришь, – откликнулся Пасько, – а какое отношение он имеет к христианству? Сейчас каждый, кому не лень…
– Пасько, Пасько, – загрустил Плющ, – я, конечно, понимаю, что Христос был хохол, но ведь только по папе…
Коренюк встал:
– Добре, Плющику. Ми зараз пiдемо разом з Пасько, бо вже темно, а iхати далеко. Ви тут пийте, iжте, тiльки хату не зпалить. А ранком побачимся. Всё. Вiтаю усiх.
– Стёпа, – засмеялся Плющ, – я же прирождённый украинец, так что со мной можно говорить по-русски, ничего страшного…
Второе Христианское кладбище давно стало мемориальным, и хоронить здесь давно не полагалось, но за последние годы оно так изменилось, что Плющ его не узнал. Новые роскошные памятники, золочёные и мраморные скульптуры, склепы, размером с однокомнатную квартиру… «Странно, – подумал Плющ, – если они так хорошо умирают, почему живут так плохо?»
На главной аллее, по дороге к часовне, висел красивый транспарант: «Уважаемые скорбящие! Помните, место погребения свято! Не бросайте на соседние могилы мусор и увядшие цветы! Администрация».
Плющ помнил направление к могиле отца, но номер участка забыл напрочь. Надо идти прямо, потом налево, потом ещё налево… или направо? Отыскать скромную плиту среди зарослей и роскошеств было немыслимо, и он, поплутав с полчаса, зашёл в контору.
За столом сидел мужик в телогрейке, ещё двое темнели по углам. При появлении Плюща мужик снял со стола бутылку, и обратил к посетителю лицо, исполненное почтительной скорби. Выслушав просьбу, мужик расслабился:
– Приходи, дед, завтра. Будет начальство. Книги надо поднять. Это обойдётся тебе гривен в семьсот. А я – я могу тебя только похоронить.
В углах рассмеялись.
– Большое спасибо, – приподнял шляпу Плющ.
– Не обижайся, батя. Все там будем. Выпей вина.
На третий день Плющ позвонил Лёне Пацу:
– Не могу я с этими бендеровцами. Определи меня куда-нибудь.
Была ещё одна причина съехать от Коренюка: Кизимов, лучший из оставшихся в Одессе, оказался полным алкоголиком. Это была большая угроза свободе и независимости – стоило, скажите, пожалуйста, выбираться сюда с таким трудом, чтобы таскать старого товарища за ноги по чужой мастерской…
– Я так и предполагал, – ответил Лёня. – Я сегодня же вывезу своих с дачи – холодно уже, нечего им там делать. Потерпите до завтра.
– …а давай, Лёня, не спешить, – попросил Плющ. – Сумка лёгкая.
– Давайте, – обрадовался Пац.
Они вышли из машины на пятнадцатой станции Люстдорфа, на небольшой площади, окружённой магазинами и маленьким базарчиком. Сезон окончился, и базарчик был пуст. Стоял пацан с вязкой мелкой вяленой ставридки, баба с кошёлкой, из которой торчали горлышки пластиковых бутылок.
– Домашнее вино, мальчики, – сказала она, – пробуйте. Чистая лидочка с изабелкой.
Плющ посмотрел на Лёню. Пац помотал головой.
– Дай попробовать, мамочка.
Тётка оглядела Плюща, налила в пластиковую крышку:
– Кушай, деточка.
– Кто ж так делает! Налей хоть полстакана, как тут распробуешь…
Тётка с готовностью достала стакан, на сто пятьдесят граммов, и плеснула полный.
– Две гривны.
Плющ залпом выпил вино, последний глоток выплюнул фонтанчиком. Достал двухгривенную бумажку, с шиком промокнул ею усы и подал продавщице:
– Совесть надо иметь, рыбонька.
Снял шляпу и крутанулся на месте.
– Пошли, Пац. А что, ты и вправду диетолог?
Лёня печально кивнул.
– Если на то пошло, пойдёмте в тот магазинчик. Тогда и я с вами выпью.
В магазине продавались куриные окорочка, мороженое и спиртные напитки. Серьёзный человек за прилавком молча кивнул в ответ на приветствие.
– Сделай нам, Рональд, два по как всегда, – сказал Лёня.
Рональд снова кивнул, поставил перед ними две стопки, наполнил их из нестандартной бутылки. Достал из холодильника упаковку крабовых палочек.
– Будем, – сказал Лёня и двумя пальчиками взял стопку.
– На здоровье, – сказал продавец.
Пока Лёня расплачивался, Плющ стоял на пороге и жмурился.
– Ну как?
– Нормально. Даже вкусно. А что это было?
– Это ворованный коньяк из Приднестровья. «Квинт». И стоит, между прочим, как ваша балованная «Лидочка».
Плющ усмехнулся:
– Так есть, оказывается, жизнь на Марсе. И с фаршем этим холодным, из минтая, ты классно придумал. А давай, Пац, постоим, покурим.
– Да курите, ради Бога.
Плющ презрительно выкатил нижнюю губу, сказал высоким голосом:
– Неужели Плющик будет стоять просто так, и курить, как поц. Ой, извини.
– Ничего, – сказал Лёня и нырнул в магазин.
– Понимаешь, Лёня, – сказал Плющ, принимая стопку, – у меня жизнь високосная.
– Это как?
– А сколько я ни проживу, это будет на один день больше. Такой подарок. Уж не знаю, за что.
«Как бы этот день не оказался сегодняшним, – подумал Лёня и внимательно посмотрел на Плюща. – Да нет, ничего, порозовел даже, повело немного, но это от солнца».
– Зайдёмте в магазин. Я вас представлю.
– Рональд, – торжественно сказал Пац. – Константин Дмитриевич будет захаживать в ближайшее время. Ему – как мне. О’кей?
– Говно вопрос, – кивнул Рональд.
– Это детская, – показывал Леня, – туда можно не заходить. Вот здесь, – он приоткрыл дверь, – вы будете спать, как белый человек. Кровать двуспальная. Тёлок водить можно, но только осторожно.
Плющ понимающе кивнул.
– А это гостиная. Диван. Телевизор. Книжек, правда, почти нет. Все дома.
– Я, Лёня, книжек не читаю, – горделиво сказал Плющ. – Там буковки маленькие. Лучше скажи мне, Пац, кто написал: «И беспамятство клюкою мне грозит из-за угла?»
Лёня пожал плечами:
– Наверное, Пушкин. А что?
– А то, что мне этого достаточно. Зачем мне книжки?..
«Надо же, трезвый совсем», – подивился Леня.
– Только, Константин Дмитриевич, пожалуйста, в спальне – не курить. Хорошо? А то ей потом занавески воняют.
– А она у тебя кто?
– Так… Экономист. Пошли дальше. Кухня. Газ умеете включать? Посуду найдёте, если что.
Лёня открыл холодильник. Плющ разглядел курицу в целлофане, палку колбасы, консервные банки, ещё что-то…
– На первое время, – сказал Леня. – Ну да я буду наезжать, если не возражаете, и звонить, конечно. Ну, всё, кажется.
– Всё, всё, – нетерпеливо сказал Плющ, – поезжай, давай. Большое спасибо.
Неужели один, в кои-то веки! Плющ сел на диван и запрыгал на тугих пружинах. Вышел во двор. Главное – никуда не спешить.
Внизу, под обрывом, сквозь шелест листвы погромыхивало море. К морю – завтра, вечереет уже, а всего – часа четыре пополудни.