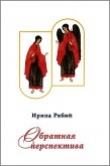Текст книги "Обратная перспектива"
Автор книги: Гарри Гордон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
«Ходить гарбуз по городу, пытаеться свого роду…»
Что ж сразу не сказал, любый Карло, что ты хохол?
В предыдущем письме я, мариться менi, ввёл тебя в уныние, теперь же хочу позабавить воспоминаниями о милой нашей неньке Малороссии.
Если бывал ты в Гайвороне, то должен помнить: как идти к югу, за росстанями, стоит корчма. Держит её жидок Шмуль, мужчина так себе – ни рыба, ни птица, детишек, однако же, как гороху.
Завьюжило однажды, чёрт ногу сломит, и местные хлопцы – что поделать – напились домашнего сивого вина. Добавить решили казёнкой.
Друг за дружкой чёрным цугом добрались они до корчмы.
– Гей, Шмуле, вiдчиняй, трясця твоiй матерi!
Жидок открыл, потчует, однако – боится. А Хома Драбадан, первый хлопец на селе, з вусами, под Тараса Бульбу рядится, – Хома и говорит:
– Знаешь ли ты, Шмуль, свиняче рыло, что проклятый лях снова у ворот, и мы теперь, как попьём горилки, в поход идём. И ты с нами, жидок. Собирайся, там и сложишь голову свою, курча доля!
Хлопцы ждут потехи, Двойра бледнеет в приоткрытой дверке. Шмуль налил дрожащими руками чарку, выпил медленно, и – хлоп шапку на пол:
– А шаблюку дасте?
Что, милый хохол, не оскорбил ли я твое иудейское сердце? Не обижайся, голубчик, все свои. Но полно. Не буду больше забавлять тебя историями, попрошу тебя прослезиться со мной: Днепр ли вспомнить при тихой погоде (что до редкой птицы, я, конечно, подпустил гиперболы), смушковые ли шапки снега на хатах, солому ли, раздавленную полозьями… а то: качки плавают в синем пруду. Одна отражается себе, а другая стоит кверху попою… и тоже отражается. А что до Италии – это та же Малороссия, так же задумана Господом, только получилась лучше.
Да, если твой Славка снова окажется в Италии, или ещё где, но рядом со мной – дай знать: с превеликим удовольствием поспорю с ним, хоть и не в рифму.
До следующего письма.
Твой Гоголь.
* * *
Милостивый государь!
Если честно, не возьму в толк: на кой ляд Вы ко мне обращаетесь?
Между нами хоть и есть общие качества, но их – всего ничего: Вы не прибились ни к какой партии, не прибился и я, честь нам и хвала, но что же?..
Вы человек небольшой учёности, впрочем, как и я, однако – я касаюсь больших тем, а Ваше количество – сугубо мизерное, вот и развлекайте своих домашних.
Вы включаете злободневных людей и события в своё повествование, прячете их под прозрачными покровами, то же делаю и я, но помилуйте: коли уж спрятали, зачем поливать их патокой? Покажите нутро во всём безобразии.
Вы человек инакого со мной духа, вероятно, марксид, вот и имя у Вас такое… собачье.
Я, какой-никакой, дворянин и, конечно, скован традициями, хоть они мне и претят. А Вы – свободный человек? Может быть, Вы – индеец? Тогда поезжайте в Американские штаты.
Вам не нравится, что я каламбурю. Между прочим, я создаю слова, а не паразитирую на них. А блоху я ковал, потому что русский человек и умелец.
Меня не волнует, как я скажу, главное – что я скажу. Искусство должно приносить пользу. А ромашки искусства чистого – пусть нюхают нигилисты.
Что Вы можете знать о русской жизни? Левша ему не нравится! А если Вы, милостивый государь, и поползали немного по Европе, правда, без пользы и плодотворства, то я и назову Вас на французский манер: Ле Вша.
Меня хоть гоняли, как козла бешеного – Вам это не грозит. Вас никто и не заметит. Вы не делаете поступков, одни намерения, и те – благие. А благими намерениями, – сами знаете…
Вы считаете моих «Соборян» великим произведением? Ну и что? Многие так считают. А мне что за дело?
Что Вы можете об этом знать, что почувствовать, Вы, семитский засланец в нашем православном поле…
Прощайте.
Николай Лесков.
* * *
Бог помочь, уважаемый Карл Борисович.
Рад пригодиться свежему человеку, хоть и старику.
Свежему по необычному в ваши дни желанию нащупать старинную для себя, прежнюю почву и, твёрдо стоя на ней, обновить свои добрые чувства в стремлении распространить их на ближних.
Рад также, что Ваше окаянное винопитие не лишило Вас ума окончательно: кажется мне, желание труда у Вас изрядное, больше, по крайности, чем желание праздности.
Думаю, что так с Вами происходило не всегда, а только к вечеру получилось – что же, лучше поздно, чем никогда.
Вашим серьёзным занятиям должна предшествовать мера, необходимая всем серьёзным занятиям: работу должно делать с профессиональным умением, иначе Вы не будете убедительны и сгодитесь, как учитель, разве что для дворовых баб и неразумных ребятишек.
Умение правильно запрягать или ловко косить у вас теперь не в заводе, о чём я жалею чрезвычайно. Потому научитесь для начала худо-бедно играть в шахматы. Эта игра хорошо учит профессии: невозможно делать импровизации, не изучив наигранного опыта предшествующих игроков.
Так же хочу предостеречь Вас от увлечения литературным стилем, который, в самом деле, в литературном произведении играет роль рамы. И чем рама вычурнее да красивее, тем более теряется сама картина, смысл её, сущность и красота.
Думается, что самая верная дорога – это интонация. Её не подделаешь, потому что это Господь набормотал.
Полезность свою должно осуществить на ниве просвещения, однако, – вот незадача: народ уже просвещён, и, на грех, слишком, а просвещать придётся правящих господ.
Например, если среди Ваших знакомых есть люди, вхожие в кабинеты министров и сенаторов, не премините их научить, чтобы при каждой встрече Ваши знакомые напоминали им о долге и бедственном положении, особенно духовном, вверенного их попечительству обыкновенного народа. Ничего, что это наивно – капля камень точит.
Господа эти погрязли в мздоимстве, но тут было бы простой ошибкой обвинять их, и только. То, что они потеряли простую веру, или то, что власть развращает, было бы недостаточным объяснением такой жизненной хватки. Корни мздоимства, или, как у вас говорят, коррупции – вот ещё словцо – лежат в самой глубине существа бедного человека. А бедные они оттого, разумеется, что забыли Бога и лишили себя его помощи.
Желание взятки происходит в человеке от неумеренной жажды потреблять. Иному и не нужно вовсе, а он всё-таки пойдёт и купит себе десятую сорочку или, чего доброго, парусный дредноут, а то и захолустный остров у Мавританских земель, который он, может быть, и в глаза не увидит, потому что жизнь коротка и предельна на земле.
А взявши взятку – этот человек пойдёт давать, другому: покупая, ты обеспечиваешь прибыль, выходит так, что даёшь взятку. И пошла писать губерния, получается поголовная порука.
Надо бы объяснить всем и каждому очевидные и простые вещи – не возьмёшь с собой туда, да и здесь не распорядишься со смыслом.
Вот эти соображения и должно объяснить чиновному государственному человеку.
А вообще, уважаемый Карл Борисович, государство – это дрянь, схема, чертёж, придуманные одними людьми для управления другими. Бог его не создавал, Бог не видит ни государств, ни денег. Да и религия Богу не нужна: если каждый обретёт Веру, религии останутся только обряды, соразмерные с первобытностью человека.
А что касается науки и искусства, – не сожалейте о них, ну их к лешему.
Искусство бесполезно, а то и вредно: искушает слабую душу обещаниями непомерными и прельстительными.
Наука – и того вреднее. Помяните моё слово: рано или поздно земля от учёных изысканий взлетит на воздух. А не взлетит – будут населять её подопытные уродцы.
Вы сделайте так: поступили правильно, сотворили реальную пользу – тут же составьте прокламацию о содеянном и раздайте соседям.
Чтобы и они, просветившись, так же и поступили. Глядишь – и всё окружение Ваше укрепится духом и просветлеет душой.
Мир хочет добра, но не умеет его правильно сделать. Для этого и нужны профессионалы.
А живопись Вашу бросьте, пустяки это. Или рисуйте для отдыха, как барышня, коль на дичь не охотитесь…
Пока до свидания.
Ваш помощник в добрых делах
Поздний Л. Толстой.
* * *
Мiй добрий Карле!
Не могу я тебе ничего посоветовать, и не писал бы оцю цидульку, но помстилось мне, что ты сможешь помочь. Восстанови, будь ласка, моё доброе имя.
Чёрные хмары надо мною, над Каневом, над Днепром, чёрные круки кружат и каркают – невмоготу.
Они не могут знать хорошо фактов моей треклятой жизни, и ты не можешь, да и сам я всё напутал.
Про душу мою разъясни ты им, земляк мой небесный!
Они всё трындычат, какой я националист, какой самостийник, и така зверюка апокалиптичная…
Мне от того не холодно и не страшно, но мне не всё равно, что главное во мне не видят. А главное во мне, любый друже – воля святая. Всем крепостным сердцем своим я ищу её, выглядаю во всех её проявлениях. И где проклюнется, хоч маленько – и я уже там, уже ликую.
Менi однаково – кто знущается над моей Украйной: Царь, чи его псари, чи ляхи, чи свои паны, чи их псари, но кто бы ни добился воли для сирой неньки моей – в задницу буду целовать, будь то жид, чи мусульманин, или даже португалец.
А как хлынет с Украины
Прямо в сине море
Вражья кровь – тогда отрину
И поля, и горы, —
Брошу всё. От счастья плача
Взмою прямо к Богу —
Поклониться. А иначе
Я не знаю Бога.
Я даже жалею, мiй друже, что не стал настоящим художником: в живописи и гнев, и боль – не так неприглядны, как в Слове, выносимы, по крайности.
Объясни ты им, чтоб именем моим не прикрывались, и не псували рiдну мову всуе, пока они делят мiж собою галушки. А волю ни с кем делить нельзя, – ею можно только делиться.
Как осознают себя малой частью великого целого —
И меня в семье великой
Не забудьте, словом,
Поднимите – помяните
Незлобивым словом.
И ты, Карле, скажи отдельно, тихенько-тихенько: Добрый був дядько.
Надеюсь на тебе
Твiй Тарас Шевченко.
* * *
Карл Борисович!
Я никакой не советчик, и не смею посягать на самое тонкое и важное пространство человека – одиночество, но Вам, коли уж нарвались, скажу несколько слов.
Я не верю, что Вы морской человек, если маетесь душой по поводу Ваших несвершений.
Несбывшееся, которое ведёт нас неисповедимыми путями, а порой просто водит нас за нос, несбывшееся – вот верный залог нашего плодородия и долголетия.
А Вы торопитесь рассказать всё, что знаете, завершить всё задуманное и прихлопнуть свою судьбу, как муху.
Представьте себе, каково было бы Сизифу, если б он вытолкал свой дурацкий камень на гору. Какое разочарование: столько лет жизни и непомерного труда – а ради чего?
В нашем деле главное – не то, что ты сказал, а то, что осталось невыраженным – то ли осознанно, то ли потому, что не допёр, то ли потому, что невыразимо.
К слову сказать, будь я Максим Горький, послал бы я Вас «в люди», несмотря на Ваш почтенный возраст. Вы ничего не видите вокруг, потому что окно Ваше мало и неподвижно. Вы ничего не делаете человеческого, потому что ленивы, а объясняете своё безделие усталостью. Сделайте что-нибудь, хоть гадость: Вы давно били кому-нибудь морду? И не за правду, не из благородства, а так, сдуру?
Ваши давно устоявшиеся представления о жизни, её образы, меркнут в Вашем затхлом сознании без доступа кислорода, Вы давно не видели и не знаете посторонних людей, однако, пишете о них, и рядитесь в их одежды, и даже замещаете их собой, – извиваетесь, как портовая плясунья, в своём театре одного актера.
Оторвите свою задницу от стула. Даже плохонькая птица знает, что бесполезно сидеть на протухших яйцах.
Хотя, впрочем, что это я… Вы хоть кривляетесь, да не врёте. А устали Вы, прежде всего, оттого, что неправильно пользуете свою проницательность и воображение.
Что ж. Наберите воздуха побольше и ныряйте.
Желаю удачи.
Александр Грин.
* * *
Из всех полезных изобретений умного человека, дорогой Карл Борисович, самое лучшее, кроме паровоза, это крыша над головой.
В доме стоит дух основательности, и злополучное терпение, которое выработала в человеке дикая и равнодушная природа, становится здесь механизмом для культурного размышления.
В холодной природе человек живёт не свободно, он вынужден не думать, а только принимать решения, чтобы немедленно продлить свою жизнь.
Писатель по своему социальному устройству живёт под крышей, как обеспеченный человек. И тут его подстерегают многие опасности: природные инстинкты не вызывают уже в нём уважения, он теряет бдительность, перестаёт чувствовать и начинает сочинять, презирая внешние опасности, с которыми считался бы при жизни на воле.
Поэтому, Карл Борисович, безопасная для ума, временная жизнь на природе необходима, она не требует ожесточения сердца. Напротив – любовь сидит в свободной атмосфере полезным витамином и попадает иногда в прохожего человека через глаз, или рот, или ухо.
Не нужно только смотреть на внешний мир свысока и топтать его снисходительно: по склону любого попутного оврага следует двигаться бережно, как по небритой щеке великого до неузнаваемости человека.
Здесь снова подстерегает писателя внутренняя опасность. Встречных людей нельзя любить только оттого, что они встретились, упаси Бог умиляться их трудной жизни, только потому, что она не похожа на Вашу.
Не стоит устраивать, как некогда Константин Паустовский, оргию гуманизма, это ставит под сомнение вашу добросовестность.
Что касается тематики Ваших размышлений, то и тут следует Вас предостеречь: пишущий о художнике легко может впасть в эстетство – читать его будут только художники, и то лишь те, которые не окуклились окончательно в своих образах, символах и знаках.
А писать о деревенском человеке – ещё большее эстетство: деревенский человек читать не будет, а будет читать спекулянт, подыскивающий себе национальную идею бесплатно. Прочтёт Ваше писание и плюнет.
Впрочем, чужого мнения не стоит бояться – критики, за редким исключением, жулики и перлюстраторы: читают то, что не им адресовано.
Так что, пишите, если иначе не можете, но помните о моих предостережениях. Авось, точное слово пригодится какому-нибудь человеку в душевном хозяйстве.
Успешной Вам работы
Андрей Платонов.
* * *
Мистер Чарльз!
Вы меня читали, и я польщён, вероятно, в переводе миссис Олл-Райт-Ковалёвой, и это действительно – Олл-Райт, потому что у себя на родине, в благословенных Штатах, на своём родном языке я выгляжу, как неотёсанная деревенщина, или, по-вашему, прогрессивный писатель-деревенщик, что-то вроде мистера Распутина.
Да, являясь не особенно отёсанным, не получив должного и желаемого образования, я обладаю, тем не менее, завидным качеством: понимаю людей, распознаю их с первого взгляда, и, будучи человеком сочувствующим и незлым, о чём свидетельствует сам факт написания этого письма, умею преподнести их более располагающими, и, кто знает, более значительными.
Тема провинции – для меня вовсе не тема, а сущность моего внутреннего мира, который на грани эпох, при смене представлений о добре и зле, очутился в состоянии стресса, что грозило моему физическому существованию.
Это привело меня к необходимости создать некое безусловное пространство, реальнее реального, населить его людьми, приходящими, временно остающимися, и уходящими, и таким образом выжить не только самому, но и предотвратить мировую катастрофу, хоть на короткое время, потому что – мы-то с Вами знаем – предотвратить её совсем, похоже, невозможно, а возможно лишь придать ей ползучую и стёртую форму.
Насколько я понимаю, Вы, мистер Чарльз, тоже стремитесь создать свою Йокнапатофу, в чём я желаю Вам преуспеть, и в чём, я подозреваю, Вы преуспеть не сможете, потому что Россия, во-первых, не Америка, и потому что, во-вторых, Америка не Россия, и возможности у неё, хотя бы в создании воображаемых отношений, гораздо больше, – настолько она, Америка, ещё первобытна и не определена ещё Небесами, как безусловный объект красоты и силы.
В моей Йокнапатофе главная проблема – пережить и перемолоть буржуизацию и урбанизацию прекрасного патриархального быта, с его устоями, табелями о рангах в семейных и расовых отношениях, согласиться с устоями новыми и не сойти с ума от крови, пота и скрежета, сопровождающих крушение старого и нарождение нового мира.
В Вашей Йокнапатофе – сладкий запах упадка, смешанный с запахом коровьего навоза, вымирание и вырождение, поголовная американизация тех, кто спасается, как может.
Вам, мистер Чарльз, труднее, и я искренне желаю Вашей Йокнапатофе существовать, как всё ещё существует моя, и приютить и взлелеять то количество персонажей, которое сможете потянуть.
Именно поэтому, желая Вам сил и здоровья, позволю себе дать Вам несколько советов:
Не бросайте, по возможности, физических усилий, лучше всего, если позволяют средства – авиаспорт; это и новый взгляд с высоты, и, конечно, адреналин, столь необходимый Вам в Вашем возрасте.
Если же нет такой возможности, и Вы стеснены финансово – займитесь дайвингом, говорят, у Вас есть сносное Чёрное море. То же ощущение полета, тот же адреналин плюс трофеи – морская рыба очень полезна, она убивает холестерин.
Старайтесь не злоупотреблять бобами, а сою и вовсе вычеркните из своего рациона – она очень не полезна мужчинам.
Желаю Вам победить. Вы сможете!
Уильям Фолкнер, эсквайр.
Глава десятая
1Январское солнце поднималось уже высоко и Карл, срывая перед сном листок календаря, радовался графе «долгота дня», зачитывался ею.
День прибавился уже на час, и каждую ночь прирастало две-три минуты. Знать бы только, чему ты радуешься…
Ивовый модерн заливался сверху вниз тягучим маслянистым светом. Синие тени сползали на глазах. На толстой иве обозначился тёмный пупок посреди ствола.
– Смотри, Танюша. С дерева штаны сползают.
– Привет от Олеши, – сказала Татьяна и глянула в окно. – Действительно. Ты бы в магазин сходил по такой погоде.
Выход из дома зимой был для Карла проблемой почти не разрешимой: снять домашние штаны и надеть уличные, развязать шнурки на сброшенных давно, в прошлый раз, ботинках, снова завязать их…
– Гулять надо, – призывала Татьяна.
– Как это? Добрести до Битцевского парка и подставить белочкам варежку? И потом: резкий запах мёрзлого воздуха, вынужденное ощущение себя в другой реальности…
– Сейчас пойду, – вздохнул Карл. – Что купить?
В дверь позвонили.
– Кто бы это мог быть?..
– Картошку продаём, – сказал мужик с дальнего края лестничной площадки: он звонил в соседскую дверь. – Хорошая, курская. Шестьсот рублей мешок.
– А сколько в мешке?
– Тридцать килограмм.
– А десять можно? Нам хранить негде. Даже балкона нет.
– Десять нельзя, – сочувственно вздохнул мужик, – можно полмешка…
– Кто там? – спросила Татьяна.
– Та, картошка. Просил десять кило – не хочет.
– И ладно. Они сверху хорошую насыпают, а роют со дна, сплошной мусор. Так ты идёшь? Я тебе список напишу.
– Пиши, а я пока покурю.
Под самым окном разговорились птицы:
– Почём, почём, почём, – тревожно спрашивал воробей.
– Триллион, триллион… – отвечала серенькая замухрышка.
– И всё? и всё? – удивлялась синица.
– Я тебе напишу картошку, – сказала Татьяна, – только много не таскай, килограмма три, не больше. Лучше ещё раз сходишь…
В дверь позвонили. Молодой человек с тревожными азиатскими глазами, волнуясь и перебивая сам себя, заговорил:
– Хозяин, возьмите посуду, очень хорошая, много, большой набор, Цептер…
У ног его стояла большая красивая коробка.
– Кто там? – окликнула из кухни Татьяна.
– Посуду продают.
– Не надо. Нам её девать некуда.
– Хозяин, вы не поняли. Всего тысяча рублей, шестнадцать предметов, она в десять раз дороже стоит, а мне уезжать домой, а её на таможне бесплатно отберут… нам зарплату выдали товаром, всего тысяча рублей, отберут таможенники…
– Извини, но нам и вправду не нужно. Найди кого-нибудь ещё… Подожди секунду…
Карл отбежал в комнату, торопливо зачерпнул из кармана уличных брюк скомканные десятки, прибавил сотню и вернулся к двери.
– Вот, возьми, на трамвай, что ли…
– Спасибо, хозяин. Может всё-таки…
Карл закрыл дверь. «Почему на трамвай?.. Где ты видел трамвай?» – удивлялся он.
– А давай, Танюша, чаю попьём. И сразу же пойду в магазин.
В дверь позвонили.
– Да что же это! – плачущим голосом сказала Татьяна.
Карл решительно рванул дверь. На пороге стоял Славка.
– Господи, – забормотал Карл и взял Славку за рукав. – Да проходи, проходи…
На Славке было музейное двубортное пальто из ратина, кроличья шапка и подвёрнутые валенки с галошами. Он был бледен: под многолетним сизым загаром просвечивал белый подмалёвок.
– Здорово, – смущённо сказал Славка и поставил на пол спортивную сумку Nike. – Я у тебя, Борисыч, поживу, а завтра утром – уеду. Хозяйка твоя где?
– Я здесь, Слава, – Татьяна вышла в прихожую и нерешительно потянулась с поцелуем, но остановилась: Славка не любил сантиментов.
– Раздевайся, пойдём на кухню.
Славка сел в угол, пригладил жёсткую седину. Наклонился к сумке:
– Вот, Татьяна, тебе творог. Ты любишь. Это гостинец, бесплатно.
– Спасибо, Слава. Внучки скучают по домашнему творогу. А у тебя – особенный.
– Хорошо, – снисходительно сказал Славка. – А это, Карла, тебе.
Водка легкомысленно сверкнула бликами.
– Хозяйка, если не возражаешь, отрежь нам корочку.
Татьяна бросилась что-то разогревать. Карл спросил:
– Каким ветром?
– Херовым, Борисыч. Был я в больнице, на этой… – он достал из кармана бумажку. – Каширское саше. Зелёный дедушка послал.
– Какой дедушка? – удивилась Татьяна.
– Да ты не знаешь, – смутился Славка.
– Я тебе потом расскажу, – торопливо сказал Карл. – Познакомлю. Наши со Славой дела.
Славка переждал диалог и продолжал:
– Я оттуда. Сказали – ложись на обследование. Полипы какие-то…
Карл с Татьяной переглянулись.
– Полипы, так полипы, – серым голосом сказала Татьяна. – Надо обследоваться, Слава.
– А корова? И так Машке доверил на два дня. Потом век не расплатишься…
– Танюша, так я схожу в магазин по-быстрому, – вспомнил Карл. – Чтоб потом не отвлекаться.
Ему хотелось по пути осмыслить Славкино положение.
– И лекарства какого купи, – жалобно улыбнулся Славка, – болит, блядь.
– Какого?
– Ты же знаешь. Любого.
– Купи, Карлик, но-шпу, – сказала Татьяна. – И аллохол. Ну, и анальгину, что ли.
Карл купил всё по списку и добавил бутылку водки – день длинный.
За обедом Славка постанывал и пил неохотно. Трудно было смотреть на такого Славку: гонял, бывало, дачников клюкой, и навоз выдавал не всем, а выборочно – изгалялся, но только по-пьянке.
– А где ж, Слава, твоя клюка, – удивился Карл.
– Я, Борисыч, её не взял. Так хромаю. Думаю – Москва большая, хер, потеряешь и не найдёшь потом…
Солнце исчезло. Деревья за окном стояли тёмные, застёгнутые на все пуговицы, будто собрались уходить.
– Как стемнеет – спать лягу, – предупредил Славка. – Рано уеду.
– Я тебе, Слава, утром такси вызову. До Савёловского.
– Богатый? – хмыкнул Славка.
– Нет, ленивый. Одеваться, до метро тебя провожать…
Постелили Славке в маленькой комнате. Славка оглядел постель и хмыкнул:
– Чисто, как в больнице.
– Что ты! – сказал Карл. – Шик-мадера! Может, Славка, тебе бабу какую вызвать?
– Карлик, ты совсем пьяный, – покачала головой Татьяна.
– Нет, Борисыч, – с важностью ответил Славка. – Кто с водкою дружен, тому хер не нужен…
Он сел на кровать и тут же привстал:
– Что там… мешает.
Татьяна сунула руку под матрац и вытащила детский кубик.
– Принцесса ты на горошине, – рассмеялся Карл. – Спокойной ночи. А я пойду, биатлон посмотрю. Там знаменитый Бьёрндален…
– Пердалин, так Пердалин, – сказал сонный Славка. – Прощай пока.
Они посидели ещё на кухне, но не пилось и не разговаривалось – жалко было Славку.
– Что там у нас с давлением? – спросила Татьяна. – Постучи по барометру.
Карл постучал.
– Нормальное. Чуть повыше.
– Пойду-ка я спать, Карлик. Вставать рано. А ты смотри своего пердалина. Только звук убавь.
Мелькали голубые горные тени, зеленели ели, яркие биатлонисты дышали с надрывом, из запалённых ртов текла длинная слюна.
Закричала кошка, яростно и самозабвенно, за стеной стонал Славка.
Карл выключил телевизор, шуганул кошку и вышел на кухню. Сел за стол, отразился в тёмном окне и налил себе водки. Вышел Славка в солдатских кальсонах, сел в угол и скорчился.
– Налей, Борисыч, – попросил он. – Только не в эту… Стакан есть? Вот так, половину. А корочку – не надо.
– А хуже не будет?
– Хуже – не будет, – Славка выпил залпом и немного просветлел. – Вот скажи, Борисыч, мы с тобой сколько знакомы? Лет тридцать? Двадцать?
– Двадцать пять.
– Вот. А я про тебя ни хера не знаю. Сашку твоего, мериканца, и то знаю – он в телевизоре, хотя я и не смотрю. Все говорят – умный. А где он? Чего его нет? Отдельно живёт? Жалко, я бы его спросил… А ты, что ли, рисуешь? Или куплеты сочиняешь?
– Рисую, Слава. Да вот, висит…
Славка внимательно посмотрел на осенний хутор у моря.
– Хероватая картинка. Мрачная. Я тебе, Карла, денег дам, купи себе белой краски.
Карл налил Славке ещё полстакана – чем быстрее напьётся, тем легче уснёт. Но Славка, настроенный на разговор, только отхлебнул немного. «Не болит – и слава Богу», – подумал Карл.
– Вот ты деревню нарисовал. И море с волнами. Скучаешь, наверно, а почему не едешь?
Карл налил себе полчашки:
Когда-нибудь устану бриться,
И в хате с видом на лиман
Я в старых книгах буду рыться
И перечитывать Дюма.
(Дым из каменных труб
Вьётся раннею ранью,
Серый день на ветру
Повисает таранью.)
И, собираясь на рыбалку,
Увижу, как звезда дрожит,
И жёлтая, как смерть, собака
Ко мне тихонько подбежит.
Холодным носом в пыль уткнётся,
И возле ног моих свернётся…
– Ну вот, видишь, – кивнул Славка, – там хорошо. А я тараньку давно не ел. Пива у нас нет. Поехал бы, и собаку себе завёл. А Татьяна твоя – в платье бы ходила. По бережку.
Карл:
Мне удалось раздобыть билет,
И поезд ещё не ушёл.
Еду в Одессу, которой нет —
Это ли не хорошо…
Там свежесть сгоревшего огня
Серая тень таит.
Одесса забыла, что нет меня,
И ничего, стоит.
Всё в контражуре, конечно, но
Море полно говна.
То ли виною её вино,
То ли моя вина.
И где-то на перекрёстке лучей —
Каждому по лучу, —
Одесса спросит меня: – Ты чей?
И я своё получу.
Славка:
– Предатель, получается, жалко. А мог бы стать капитаном, в загранку бы ездил, богатым сделался…
Карл:
Всё, как было, остаётся,
Всё, как много лет назад:
Солнце ходит, море трётся,
Суслик важен и усат.
Те же заросли бурьяна
У ларька «Вино и сок»,
Всё такой же дядька пьяный
От ларька наискосок.
Дядька пьяный на песке
С сединою на виске.
Над коричневой губою
Папиросочка горит,
Он беседует с прибоем,
Сам с собою говорит.
Сколько лет – пятнадцать, двадцать
Славит здешние края…
Подойти, поизгаляться…
Боже мой, да это ж я.
Славка:
– Значит, место тебе не подходящее. Там, говорят, вина красного много. А тебе водка больше подходит.
Карл:
– Слава, а почему ты прозой со мной разговариваешь? Чем я хуже Бродского, или Рубцова?
Славка:
– Не хочу тебя обижать. Ты – знакомый. Слушай, Карла, если тебе на юге херово, живи у нас, в деревне. Я тебе тёлку продам. Что тебе Москва – всё равно на стуле сидишь и на пердалина смотришь. А Татьяна твоя по бережку бы ходила. В комбинзоне…
Карл:
…Тракторная колея,
Ливень, холод, мрак кромешный…
Что же делать, если я
На другой воде замешан.
Царских скифов кирпичи,
Глина, красная от жажды.
Там из солнечной печи
Выкатился я однажды.
Не мечтая о Руси
За две тыщи километров,
Над обрывом проносил
Брюки, круглые от ветра…
Золотой литой залив,
Голубой, седой, жемчужный…
Ветром жарким, отчим, южным
Выперт я под кроны ив.
Валерьяна, лебеда…
Родина? Конечно, да.
Но, казалось бы, родной
Старый пруд, покрытый ряской,
Недоверчиво, с опаской
Расступился предо мной.
Славка:
– Ты, Борисыч, меня напугал, как собака. Как же ты живёшь? Куда тебе деваться?
Карл:
Молчит усталая жена,
Течёт разбитое корыто —
Тысячелетняя война
Между призванием и бытом.
Без поражений, без побед —
Братания да перебежки.
Так равно радует обед,
И строчка, вспыхнувшая в спешке.
Но неизменно, всякий раз,
Едва вода заткнётся в кране,
Едва забрезжит чай в стакане —
Как будто кто-то рад за нас.
Карл победоносно поглядел на Славку. Тот спал, наклонившись над столом, и дышал тяжело, как биатлонист на финише после долгой и трудной трассы.
Утром Карла разбудила Татьяна:
– Карлик, Слава ушёл…
Комната была пуста. Постель аккуратно свёрнута рулоном. Больше Славку они не видели.
Кричала кошка, развязавший алкаш с верхнего этажа громыхал Окуджавой, и Славкина боль, тёмная, коричневая, долго стояла потом по углам.