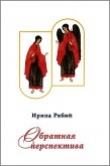Текст книги "Обратная перспектива"
Автор книги: Гарри Гордон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Гарри ГОРДОН
ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Роман
«Призрак жизни давней
На закате дня
Сквозь сердечко в ставне
Смотрит на меня…»
Александр Межиров
«… и беспамятство клюкою
Мне грозит из-за куста»
Алексей Королёв
ПРОЛОГ
«… Я, Печёнкин Геннадий Александрович, продаю свой дом в деревне Упеево Устиновского с/с Кимрского района, завещанный мне матерью, Ириной Ивановной Печёнкиной, 28 декабря 1983 г., за 650 рублей Новиковой Антонине Георгиевне, проживающей по адресу г. Москва Рижский проспект, 71, кв. 17.
Деньги в сумме шестьсот пятьдесят рублей мною получены от Новиковой А.Г. 24 февраля 1984 г. при свидетелях: Смирнов Андрей Егорович, Сагарсасу Марселино Диего Армандо Мерино, Волнухина Антонина Павловна.
Деньги отдала Новикова Антонина Георгиевна.
Деньги получил Печёнкин Геннадий Александрович. 24. 02.1984 г.»
– Вот и всё, – сказала секретарь сельсовета. – Поздравляю.
– А печать? – напомнила Антонина Георгиевна.
– Никакой печати не нужно, – терпеливо, но с готовностью повысить голос внушала секретарь. – Подписи продавца и свидетелей удостоверяют документ. Так везде. – добавила она миролюбиво.
Антонина Георгиевна промокнула платочком лоб.
– Геннадий, – строго попросила она. – К апрелю, пожалуйста, освободите дом. Мы въедем…
– Не боись, бабка, – Генка глянул с печальной злостью. – К апрелю пропаду. Сгину.
– То есть, как это сгинешь! Сгины…пропадать не надо. У тебя же родня есть.
– Сгинет, сгинет, Георгиевна, – успокоил свидетель Андрей Егорович, колхозный бригадир, – куда он денется.
Жена бригадира, свидетель Волнухина, безмолвно прикрыла веки.
Антонина Георгиевна с сомнением разглядывала расписку. Листок из школьной тетрадки в клеточку. Филькина грамота. И всё же… «Я потом обрадуюсь, – успокоила она себя, – вот только выйду на свежий воздух».
– Пойдёмте, Антонина Георгиевна, стемнеет скоро. Дорога скользкая, – торопил Марселино.
Марселино молодец, спасибо ему великое. Антонина Георгиевна знала его ребенком, – соседи по лестничной площадке. Худенький мальчик с глазами больного телёнка. Думала даже, что еврейчик. А, оказалось, вывезли его младенцем из франкистской Испании. Советская власть дала ему образование, и теперь он солидный человек, главный инженер, отец семейства. Прослышал случайно, какая у Антонины Георгиевны забота, и предложил:
– Поедемте, у меня концы в Калининской области.
– Так ведь зима? – удивилась Антонина Григорьевна. – Что там увидишь…
– Весной поздно будет – убеждал Марселино. – Всё раскупят. Да и цены подскочат.
На следующий день принёс фотографию. Бревенчатая изба на фоне леса. Четыре окошка с наличниками по фасаду. Высокая трава. Белоголовые дети на переднем плане.
– Что это, Марселино?
– Это мои владения. Дом и шесть соток.
– Целых шесть! – восхитилась Антонина Георгиевна, – а дети?
– Дети соседские. Ну что, Антонина Георгиевна, едем? Купим вам точно такой. Может чуть поменьше.
– И речка будет?
– И речка. Приток Волги, а как же!
Антонина Георгиевна зажмурилась. Детство она провела в деревне, и как всякий городской человек была убеждена, что несколько соток одичавшей земли могут сделать чудеса, вернуть забытые представления о смысле и радости жизни, напомнить о корнях и истоках…
Она представила зелёные пупырчатые огурцы, холодящие ладонь, млеющие в парнике розовощёкие помидоры, стебли сельдерея, наливающиеся неоновым светом в сиреневых сумерках.
Внучки ползают по клубничным грядкам, слизывают на корню крупные ягоды, сверкающие после утреннего полива.
Надо только руки приложить хорошенько, а глаза – ничего, побоятся и перестанут.
Неизвестно, правда, как проявит себя зять в таких настоящих человеческих условиях, есть ли у него руки, а главное, захочет ли пахать… Ничего, можно напомнить, что у него растёт дочь, а для кого всё это, как не для неё. Так-то он ничего, не злой, по крайней мере, а жадный ли – не разобрать, вечно у них нет денег.
Татьяна, тоже, странная – не могла найти что-нибудь посущественней. Говорит – поэт. Хорошо, допустим. Но какой он поэт, если нигде не печатается, и в организации поэтической не состоит. Этак каждый назовёт себя поэтом или астрономом, пойди, проверь. А работает этот поэт и вовсе – художником. От слова «худо» – рисует в какой-то конторе стенгазеты, да лозунги пишет: «Слава КПСС!», а сам советскую власть ругает.
Указала ему как-то на это, а он смеётся: «Я, говорит, лозунги пишу за деньги, это, может и нехорошо, зато власть ругаю – бескорыстно, а это лучше, чем наоборот. И потом – «Слава КПСС!» – это просто наша всеобщая фамилия».
– Ну, спасибо вам, Андрей Егорович, – сказала Антонина Георгиевна у машины, и протянула руку. – И вам, Антонина Павловна. И тебе, Гена. Будь счастлив.
– Постой, бабка, – откликнулся Генка, – а магарыч?
– Какой тебе ещё магарыч! – звонко ответила Антонина Георгиевна, – шестьсот пятьдесят рублей забрал. Я, между прочим, два года копила. С пенсии.
Она посмотрела на бригадира Андрея, ожидая поддержки.
– Тут я, Георгиевна, Генке не указ, – глядя в снег, сказал Андрей Егорыч. – Его дело. А только по-людски надо.
Антонина Георгиевна растеряно глянула на жену бригадира. Та медленно опустила веки.
«Ну вас к чёрту! – в сердцах подумала Антонина Георгиевна, – мало я вам колбасы навезла. Сервелата дефицитного…»
Марселино сунул Генке пять рублей и едва ли не втолкнул в машину Антонину Георгиевну.
– Всё, мужики, пока. До апреля.
Машина тронулась, Марселино включил отопление.
– Ну, всё, – вздохнула Антонина Георгиевна, – можно выращивать рассаду.
Но должной радости не случилось. Тревожно было на душе. Она раскрыла сумку и вынула расписку. И эта дрянь стоит шестьсот пятьдесят рублей… Антонина Георгиевна пробежала по тексту. Господи!.. Сагарсасу Марселино Диего Армандо Мерино… Простое имя «Марселино», почти русское, распахнулось вдруг павлиньим хвостом, зловещим и нелепым, среди заснеженных лесов.
– Марселино, выключи, пожалуйста, печку. Что-то жарко.
Антонина Георгиевна сбросила с головы платок. Да что ж это за документ такой получается…Иностранец в полный рост в глубине Калининской области – свидетель! Опера «Кармен». У любви, как у пташки крылья, прости Господи!.. А если районное начальство потребует эту расписку – пиши пропало. Затаскают. Посадить – не посадят, не то время, но сделку признают недействительной. И ещё сельсоветчице попадёт. Вот тебе и Марселино! И ещё: свидетель – Волнухина Антонина Павловна. Тут Антонина, и там Антонина. Похоже на подтасовку или путаницу. Не может быть веры такой бумажке…
– Антонина Георгиевна, если хотите, сделаем крюк, километров двенадцать, посмотрите на дом хоть издали, с реки… Лёд крепкий, проедем спокойно.
– Не надо, Марсик, – вздохнула Антонина Георгиевна. – Что теперь изменишь.… Будь что будет.
Глава первая
1За Кимрами в щели автобуса просочилась гарь, химическая, резиновая, пассажиры достали носовые платки и отвернулись в разные стороны, как будто обиделись друг на друга. Тлела городская свалка.
Карл уткнулся в окно и сквозь марево разглядывал жёлтые и голубые волны дыма, пёрышки пламени, прорывающиеся кое-где, и беспорядочную свору обеспокоенных чаек.
С чайками у Карла связано одно из первых разочарований. В детстве, пробираясь на трамвае сквозь колхозные поля, к дальнему таинственному пляжу, где предполагались пугающие синие глубины, коричневые скалы с гулкими пещерами, парящие и реющие альбатросы и небольшие белые, хохочущие от восторга чайки, Карл увидел их, – и альбатросов, и белых, – на чёрной пашне. В развалку, по-вороньи, они переваливались на глыбах чернозёма, рылись в разбросанном навозе, выклёвывали из коричневой жижи червяков цвета морской волны.
Это было двойное унижение, и маленький Карл заплакал.
Унижены были птицы, вольные и гордые, списаны на берег, низведены до чина побирушек и говноедов.
Унижен был Карл, ставший свидетелем такого позора. Как если бы он подглядел одну из заманчивых тайн взрослой жизни, подглядел и ужаснулся.
Тем не менее, полного разочарования не произошло, победила радость жизни, и теперь, оказываясь иногда на берегу моря, Карл с удовольствием смотрел на резких, срывающих пену с волны хохочущих птиц, или на основательных мартынов, треплющих увядшую медузу, понимая, что эти-то и есть настоящие, а прочие – так, добровольные репатрианты, беженцы, перерожденцы, и вообще, – зарекаться не стоит.
Он только что вернулся из Италии, где повидал, кроме прочего, таких беженцев из Восточной Европы.
Украинцы, молдаване, поляки стайками толклись на вокзале Тибуртино, что-то таскали, грузили, заходили, таинственно оглядываясь, за угол и возвращались с подчёркнуто будничным видом.
По вечерам они ели у фонтана, на прохладных мраморных скамейках. Из хрустящих крафтовых пакетов доставалась печёная курица, маслины, иногда, – вяленые pomodori в оливковом масле и, главное, хлеб. Вино было дешёвое, в литровых пачках.
Поужинав, иностранцы стреляли у прохожих сигареты и беседовали на новом, загадочном языке, смеси польского и румынского.
Некоторые из них очень скоро стали патриотами своего места – своего вокзала, своего фонтана. Один западный украинец заставил Карла в благодарность за сигарету, или ещё почему, выпить большую кружку воды.
– Такоi води, як у цьому фоntаnа немаЄ навiть на полонинi, – убеждал он.
Вода действительно была хороша. Но это не удивило Карла, его удивил хлеб. Подыскивая эпитеты, Карл остановился на слове «вкусный».
В Риме Карла с семейством встречали племянники, братья сорока и пятидесяти лет, отъявленные одесситы. Обещали хлеба и зрелищ.
Они ходили, по возможности, парой. В их жестикуляции и манере спорить было нечто такое, отчего их часто принимали за любовников.
В 90-е годы закружило их в водовороте эмиграции, и спустя несколько лет вышли они обновлённые и нагие, из вод Тирренского моря и, подскакивая, прокалывая пятки на морских ежах, плюхнулись в белый песок. Младшего звали мэтр Шланг – в нём постоянно находилось столько спиртного, сколько помещается в метре садового шланга.
Сели в двухэтажную электричку. Предстояло ночевать три недели в пустующем, по сезону, курортном посёлке под финиковыми пальмами и кипарисами.
В электричке братья размахивали руками так по-итальянски, и так по-итальянски галдели, что возник откуда-то человек в униформе, красивый, кудрявый, и вежливо напомнил, что они не в Польше.
… И дело не в двадцати градусах тепла в середине марта и, конечно же, не в голубом небе. И не в цветущей мимозе, совсем такой, как веточка в стакане, но размером с одесскую акацию. И что за мимозой – каменный дом тринадцатого века о двух этажах с черепичной крышей.
Четыре стены, дверь, два окошка, третье наверху. Из дверного проёма на каменные ступени вышел дядька в помочах, с осанкой проконсула. Причём тут дядька?..
Дело в том, что сущностью этой картинки, её целью и причиной был воздух. Он был правдой – полной и единственной. Он являл собой древность и будущее, и настоящее – одновременно. Он и был собственно Временем, – ниоткуда не берущимся, никуда не утекающим. А птичьи свисты, растворённые в запахах, это – в подарок.
Дядька на крыльце долго смотрел на непонятную экспедицию, возникшую на платформе, с чемоданами, квадратными глазами, в тёплых куртках.
– Неореализмо! – подумал дядька и ушёл в дом.
2
Автобус задрожал, остановился и затих. Водитель вышел, отфыркиваясь от дыма, поковырялся в капоте, вернулся в кабину и задумался.
– Всё, приехали, – очнулся он через некоторое время. – Пушной зверёк. Песец.
Пассажиры, матерясь, растворились в дыме, жёлтом и голубом. Карл огляделся. Слева клубилась свалка, справа кладбище разбегалось в поле новыми нарядными могилами. Зацветала черёмуха у кладбищенской сторожки, пахла плавящимся пластиком и тлеющей ветошью. Из сторожки вышел мужик в телогрейке, постоял и скрылся среди могил.
Карл подбросил рюкзак на спине. Ловить попутку здесь было бессмысленно. Никто не остановится. Нужно пройти хотя бы с километр.
Вокруг больших свалок ходит множество легенд и догадок, здесь разворачиваются детективные коллизии, зреют кровавые сюжеты, чего только не пишут… Карл не верил во все эти страсти – кроме тоски здесь не было ничего. Кромешная тоска да ворох серых чаек.
Собирался дождь, свисал вдалеке серыми косицами, в кювете рябила стылая вода. Карл время от времени оглядывался на набегающий шорох машин, безнадёжно поднимал руку.
Свалка осталась далеко позади, но скучно не стало – мусорная струйка текла вдоль шоссе путеводной нитью, путник мог быть уверен, что, следуя ей, он не собьётся с дороги, придёт, куда надо. Пластиковые бутылки, обёртки, пакеты от чипсов, сигаретные пачки…
Карл вспомнил немца из поезда Берлин-Москва. Немец был юный, студент, наверное, и, очевидно, это была его первая заграничная поездка. Целый день он простоял в тамбуре, радовался свободе, благо бригада была российская, и курить не запрещалось, он и курил, и смотрел в окно, и удивлялся – сначала заросшим польским полям, потом грязным скамейкам с затоптанными сиденьями на платформе Варшавы, напряжённо и зачарованно всматривался в партизанские снега Белоруссии, просевшие под апрельским солнцем. В России, сразу же после границы, снега стали белее и суше, а вдоль колеи…
Немец погасил сигарету, испуганно повертел головой, ушёл в своё купе и никто его не видел до самой Москвы…
Вдоль колеи километрами тянулась полоса мусора. Тряпки, бутылки, стулья, тулупы, валенки, галоши, ушанки, кастрюли, чайники, холодильники, диваны, чемоданы, книги, рюмки, рамки, картины, корзины, картонки…
Было очевидно, что Россия восстала из пепла и тлена, отряхнула прах и пошла по новым своим делам.
3
Как ни странно, но после Италии деревня показалась маленькой. Так было в детстве, когда Карл вернулся из пионерлагеря. Низкой и маленькой показалась комната, пугающих прежде размеров тёмный буфет как будто присел, маленькой стала мама, и папа стал совсем маленьким.
Казалось бы – какая Италия, – вот на этом лугу, от Славкиного дома до реки можно разместить целый тосканский холм, и город на нём, и тысяч пять народу.
Луг был плоский, кочкарник, заросший высокими травами.
«Может быть, оттого маленькая, что своя, как детство?» – неуверенно гадал Карл. Да нет, за двадцать пять лет пребывания здесь, наездами, он это место не мог назвать своим. Разве что, как заблудившийся человек, оглядевшись, вбив несколько кольев для благоустройства, любит своё временное пристанище.
Карл слегка гордился тем, что происходило у него на глазах, хоть и помимо его воли и усилий: перелесок, возникший по руслу ручья, стал за четверть века полноценным лесным массивом, и наступал, и нависал стеной, высылая вперёд задиристую мелкотню – сосенки и берёзки выскакивали из травы и подбегали к самому дому. Пустые заболоченные берега медленной реки заросли ивняком, ольховником, на невысоких пригорках светился молодой березняк. Ещё недавно были здесь только две бобровые хатки, вон там, у острова, о них шёпотом рассказывали друг другу дачницы, округляя глаза от почтения к живой природе. А за последние несколько лет развелось этих бобров, как прости Господи, не то слово. Посрезали всё, поспиливали, любимую иву вон, столетнюю – и дачницы округляли глаза от печали по вековой иве.
Да, провели здесь юные лета его дети, а спроси, что их держит здесь, что связывает, – пожмут плечами: домик в деревне, плохо ли… Даже у детей здесь не было воспоминаний детства – летние отношения непрочны и необязательны.
Двадцать пять лет останавливает коня на скаку Татьяна – только бы дом не рухнул. Мать её, выбравшая когда-то это место, мужественно мёрзла весной и осенью, сражалась с кислыми почвами, торопила зелёные помидоры, плакала над ними, вспоминала тёмные дубравы над душевной Окой, мельницы на весёлом Осетре, на своей родине.
Положение Карла в семье было хорошим, но затруднительным. Его любили, но толку в практической жизни не ждали, и редкие инициативы воспринимали с недоверием, в лучшем случае снисходительно. Лидера из него не получилось, и Карл зачислил себя в серые кардиналы, и бывал иногда до того сер, что сливался с окружающей средой. Со временем он выбрал себе место, самое безопасное при землетрясениях – ни внутри и ни снаружи, а в дверном проёме.
Стараясь быть полезным, он хватался за физическую работу, не требующую инженерного мышления. Валил деревья на дрова и столбы для забора, копал землю. Монотонная работа радовала – мозги свободны, а душа ликует вместе с мускулами. Но с годами мускулы ликовать отказывались, душа приуныла, а мозги панически цеплялись хоть за что-нибудь душеспасительное. Может быть, детство? Но детство – это так, полродины, полсудьбы, его можно поменять, выдумать заново, обрести задним числом, наткнувшись на приснившийся когда-то городок, или улицу, или дом. «Детство – это всё-таки место, – думал Карл, – а вот родина…»
Вырос Карл в Северном Причерноморье, неуловимом для него. Жаркие глиняные обрывы над морем, марево над степью, мелкие лиловые колючки, сладкие гроздья акаций, танго над пароходиком, – всё это вспоминалось, разглядывалось, искусственно даже раздувалось до средних размеров счастья, но помалкивало, не отвечало, даже осаживало иногда – взглядом исподлобья, немым вопросом: «А ты хто такий?» Хто вiн такий Карл не знал, на этот счёт не было семейных преданий, были только анекдоты из жизни.
Последние доживающие деревенские люди тоже не помнили о себе, да и не было для воспоминаний ни повода, ни привычки.
Карла они долго не замечали, а, заметив, отворачивались. Тощий нерусский в лёгкие разговоры не вступал, презирал, что ли, или стеснялся, хрен поймёшь. А имя его и вовсе – язык сломаешь.
Именем свои Карл тяготился – не расскажешь каждому, что назвали тебя в честь вождя мирового пролетариата, и любить тебя за это, пожалуй, не стоит, но уважение, какое-никакое… Со временем, заметив, что рыбу он ловит хоть и мелкую, но в любую погоду, до посинения, что с техникой он не в ладу, но брёвна таскает из леса «пердячим паром», его всё-таки, нет, не зауважали, а полюбили по-своему, и заочно называли уменьшительно, хотя, казалось бы, куда уж меньше…
4
«Пойти к Славке, отметиться», – решил Карл. Он приготовил гостинец – бутылку водки, кружок колбасы, коробочку аллохола. Славка с некоторых пор, сломав ногу, пристрастился к лекарствам. Сначала это был анальгин, действительно спасавший его в одиноких трудах. Приняв лекарство, Славка стелил в межгрядье телогрейку и лёжа, отставив ногу, полол. Нога со временем срослась, осталась лёгкая хромота, но Славка лекарства уже полюбил, причём, всякие, видимо, из чувства благодарности, в память об исцелении. Ему привозили препараты от язвы, от аритмии, от повышенного давления и пониженного, от заболеваний печени и почек, всяческие спазмалитики и анальгетики и даже средство от выпадения волос. Лекарства он хранил в коробке из-под радиоприёмника, и в дождливые дни, если выпить было нечего, меланхолично глотал три-четыре таблетки без разбору.
Славка встретил Карла на крыльце. В чёрных пальцах висела банка молока.
– Из окошка тебя увидел, – поздоровался Славка. – Держи банку, у меня руки в навозе. Огажу. Хозяйке передай – пусть попьёт. Бесплатно пока. Если летом будет брать – договоримся.
Он с достоинством принял у Карла пакет, поставил под лавку, у ног, достал жестянку с табаком.
– Как зимовал? – спросил Карл.
Славка оглядел его с головы до ног – не шутит ли, – и вздохнул.
– Шишку на лбу когда набил? – не унимался Карл. – Свежая.
Славка оживился.
– Дедушку из зелёного домика знаешь? Вчера приехал. Ну, и позвал меня. Посоветоваться. Ну, советовались мы до темна. – Славка помолчал, будто вспоминая, как советовались. – А ты Борисыч, знаешь, для чего у нас берёзы растут? Я вот знаю. Идёшь себе в темноте, шатаешься. А она – вон, белая, стоит и светит.
– Интересно, – удивился Карл, – а шишка тогда откуда?
– На осину набрёл, – хмыкнул Славка.
Он погасил окурок, растёр его сапогом вместе с цветком мать-и-мачехи. Из окошка доносились старые песни о главном, передача на «Маяке», ухватистый голос тянул:
И где бы ни жил я
И чтоб я ни делал —
Пред Родиной вечно в долгу…
– Слав, – спросил Карл, – а родина – это что?
– А зачем тебе? – Славка глянул мрачно, почти враждебно.
– Да так, – смутился Карл, – интересно.
Славка посмотрел в небо, оглядел улицу, зелёный домик дедушки-дачника вдалеке, перевёл взгляд на своё подворье и остановился на скирде коровьего навоза с небольшой чайкой на вершине. Он шевелил губами, словно что-то подсчитывал.
– Родина, Борисыч, это когда говна много, а раскидать – рук не хватает. И антенну ветром порушило.
На обратном пути Карл не удержался, и, укоряя себя за подозрительность, сделал крюк, прошёлся мимо зелёного домика. Так и есть: домик заколочен, как и в прошлом году, и в позапрошлом, и ещё… Серебрились доски, крест-накрест перехлёстывающие тёмные окошки, яркая некогда зелёная краска шелушилась, просвечивала вагонка телесного цвета. Жила здесь несколько лет назад нелюдимая женщина, водила за ручку тихую девочку, принуждённо здоровалась. «Вот это Славка, – огорчился Карл. – То-то лицо у него такое просветлённое, одухотворённое почти. Неужели, всё это лекарства? Надо же – придумать себе Карлсона на старости лет…»