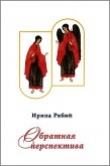Текст книги "Обратная перспектива"
Автор книги: Гарри Гордон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Славка чувствовал на затылке взгляд госпожи Стелы, и ему было неприятно.
– Ты бы, Степанида, – миролюбиво сказал он, – в бор сходила. Там черники полно, поела бы…
– Слав, а Слав, – просила госпожа Стелла, – дай подоить.
В желании подоить не было для Степаниды ностальгии, это был каприз, ей было интересно – сможет ли, так же ловко у неё получится, как когда-то, ведь она так далеко ушла в социальном отношении, и участь такая ей больше не грозит. Так человек, лет десять назад бросивший курить, может позволить себе сигарету по пьянке.
– Пойди, Степанида. Корова у меня капризная, тебя не подпустит.
– Славик, – кокетливо предупредила госпожа Стелла, – не дашь – порчу наведу. На тебя и на твою корову.
Славка задохнулся. Он привстал, опрокинул складной стульчик, замахнулся клюкой и закричал страшным голосом, как на корову:
– Пошла-а! Волшебница подамбарная! Я тебе попорчу! Я тебе так попорчу!
В конце августа Славка занемог неведомой какой-то болезнью, от которой не помогали ни горсти таблеток, ни стакан, ни то и другое вместе. Болит нога – ладно, спину ломит – оно и понятно, попробуй покорячиться на грядах, да двор почистить, да дров заготовить… Возраст, что говорить. То срачка, то пердячка. Но тут другое – ничего, вроде, не болит, а голова кружится, вставать с кровати приходиться в три приёма, иначе упадёшь – в глазах темнеет. И тяжёлые вздохи случаются сами по себе, как будто кто-то умер. Славка думал, что так болеют только дачницы – приходилось слышать их разговоры.
Болезнь возникла неожиданно и вела себя так нелепо, что Славка слёг – превозмогать её не хватало ни сил, ни умения.
О Славкиной болезни деревне возвестила корова – кричала, недоенная, с утра пораньше. К полудню, не выдержав, прибежала Машка, Васькина жена, бежала с матюками, спотыкаясь зелёными галошами, в чёрном мужском пиджаке и белой косынке.
Славец, зараза, опять нажрался, да так, что совесть потерял, проучить бы, да корову жалко. Подоив, Машка отнесла ведро с молоком себе домой, и, помедлив, всё-таки зашла к Славке в избу. Славка лежал в постели, чёрный лицом, до того чёрный, что подушка казалась белой. Машка удивилась и испугалась, что он помер, но Славка произнёс тихим и трезвым голосом:
– Подоила? Молоко себе возьми.
Машка закивала:
– Хорошо. Спасибо. – От неожиданного стыдного слова она покраснела в полумраке. – Да что с тобой, Славец?
– Что… Что… помираю.
– С чего это? Вроде вчера не с кем было. Ладно. Пойду поспрашиваю. Может, у Митяя осталось. Или у Карлика…
– Постой. Не ходи никуда. Трезвый я. Понимаешь, не помираю, а помираю. По-людски.
Машка заголосила и выскочила из избы.
– Входи, Борисыч, – пригласил Славка. – А дверь оставь. Пусть открыта будет. Душно мне. В обед сдуру лежанку затопил. Посмотри, горит ещё?
Карл приоткрыл дверцу.
– Горит.
– Хорошо. Ты, Борисыч, достань ту коробку с шифоньера. Да, с лекарствами.
Карл достал коробку, поставил себе на колени и стал перебирать. Мало ли. Вдруг, по симптомам, окажется что-то знакомое.
– Ты, Борисыч, хернёй не занимайся, – тихо, но строго сказал Славка, – ты коробку закрой и сомни. Сильно, двумя руками. Кашу с утра ел? А теперь засунь в печку.
Карл пожал плечами и повиновался.
– Как же ты теперь? Без лекарства?
Славка подтащил подушку повыше, отжался и сел.
– Лекарства, Борисыч, нужны для болезни. А для смерти они и на хер не нужны.
Славка перевёл дыхание.
– Я тебе, Карла, наследство оставлю.
Карл улыбнулся, но от того, что Славка впервые назвал его по имени, проступили слёзы.
– Неужели? И что ты мне оставишь? Корову?
– Корову, Борисыч, тебе нельзя. Подохнет. Я её Сан Санычу откажу. А тебе… Погоди, сейчас увидишь. Само придёт. Помолчи, устал я.
Славка закрыл глаза. Карл подошёл к окну и распахнул створки.
Совсем близко накрапывал дождик, редкие капли качали голову декоративного подсолнечника, занесённого дачницами в славкин палисад. На ветле сидели дети и помалкивали.
Славка глубоко вздохнул и задвигался.
– И всё-таки, Слава, – не уважая себя за менторский тон, сказал Карл, – надо бы врачу показаться. Давай съездим в Кимру, а?
Славка усмехнулся:
– Да меня Нелька смотрела. Знаешь, медсестра, москвичка. – У тебя, говорит, Славец, рак печени и ещё эта… ну, как её… да ты знаешь, зверёк такой детский… на ёлке сидит, шишку грызёт.
– Белка, что ли?
– Вот. Белка. Только она ласково сказала. Белочка.
Карл рассмеялся и нахмурился.
– Дура твоя Нелька. И сволочь.
– Да я согласен. А только что врач? Та же Нелька. Или Валька. Что она может знать? Ещё хорька какого-нибудь припишет, прости Господи.
Хлопнула в сенях дверь и лёгкий голос спросил:
– Можно?
– Входи, – посветлел Славка.
В дверях появился дедушка из зелёного домика.
– Принимай наследство, Борисыч, – Славка заулыбался и глубоко вздохнул.
Дедушка из зелёного домика кивнул Карлу и присел на кровать.
– Ну и что ты надумал, Слава? Дай-ка руку.
Он посчитал пульс, покачал головой и достал из кармашка пластинку с таблетками.
– Слушай внимательно. Каждые три часа таблетку под язык. Жди, пока не рассосётся, – он оглянулся на ходики. – Тикают? И слава Богу. Ты понял? Слава – Богу. Если молиться не умеешь, хотя бы не вставай. И кури поменьше. А завтра посмотрим.
Он повернулся к Карлу.
– Верно, Карл Борисович?
– Не будет он лежать, – смутился Карл.
То, что зелёный дедушка знает его имя-отчество, Карла не удивило.
– Будет. Правда, Слава? А Мария за ним присмотрит.
Карл не сразу понял, что Мария – это обыкновенная Машка.
– Отдыхай, Слава. А мы с Карлом Борисовичем пойдём посоветуемся.
– Что с ним? – спросил Карл на крыльце.
– Да… плоховато. Если завтра не успокоится, придётся везти в больницу. И не в Кимры, а в Москву. Ну что, пойдёмте?
Карлу было любопытно побывать в облупленном зелёном домике, да ещё со ржавым замком на дверях, настолько любопытно, что он пренебрёг смущением.
– Давайте мы с вами прогуляемся, – предложил Зелёный дедушка, – вон как вечереет. Пойдёмте к реке.
– А посоветоваться? – по-детски расстроился Карл.
– Одно другому не мешает. – Зелёный дедушка достал из кармана довольно большую флягу, отливающую перламутром. – Вот, ношу на всякий случай. Вдруг – мороз…
Он лукаво заглянул Карлу в глаза.
– Мороз? В августе?
– Всё бывает, Карл Борисович.
– Простите, а как мне всё-таки вас называть?
– Называйте просто Дедушка. Хоть мы и ровесники. Вы какого года? Ну, вот видите. Я на год старше. А год, это знаете… Да вы хлебните.
Напиток оказался крепким и незнакомым. Долгий глоток ударил не в голову, а в сердце, и растёкся, как тёплая капля дождя по холодному стеклу.
– Ну, как?
– Здорово. Только что это? Не коньяк вроде, и не виски…
– А-а-а, – весело ответил Дедушка, прихлебнув. – Сам не знаю. То ли нектар, то ли амброзия.
Прогуливаться бесцельно Карл не умел никогда. Это огорчало Татьяну: «Ну что ты прилип к этому стулу! Погулял бы, хоть вокруг дома».
– Я не быстро иду? – спросил он Дедушку.
– Да нет, нормально.
Они шли по деревенской улице к реке, солнце кануло в тучу, оставив на зелёном небе золотое пёрышко. Низом кружила небольшая тучка, сизая, местная, из неё выпадали невпопад редкие капли.
Карлу было неуютно – обязательно попадётся кто-нибудь полузнакомый, бросит полуприветствие, а если знакомый – то ещё хуже. Вопросы, домыслы. А Дедушкой – вдруг понял Карл – не хотелось делиться ни с кем. Да и нельзя, наверное, – Славка обидится. Но никто, удивительно, не попался на пути, ни одна собака не залаяла.
– Вас не хватятся дома? – спросил Дедушка. – Вы ведь вольны гулять, когда вздумается?
«Волен-то волен, – подумал Карл, – а Таня, наверное, в недоумении – ну, сколько времени можно провести у Славки…»
– Дайте-ка ещё хлебнуть.
Карл хлебнул и успокоился.
– Странно, Дедушка, слышать в нашей деревне интеллигентную речь.
Дедушка покосился на Карла.
– И вы туда же? До чего интеллигенты любят, как сейчас говорят, наезжать на интеллигенцию.
– А я себя интеллигентом не считаю, – повысил голос Карл.
– Считаю… не считаю… Вы можете убить? Или украсть? А оскорбить женщину? А настучать на товарища?..
– Уж стучать-то!..
– Стучали представители. Одни из. А интеллигенты – никогда.
– Да я и не предлагаю отлавливать интеллигентов. Я ведь про интеллигенцию. С какой стати она присвоила себе христианские ценности и кичится, и кусается, и царапается.
– Не только христианские, но и магометанские. Помните, кодекс Тамерлана? Не бросай товарища в беде, уважай врага своего, а не только возлюби. А любовь часто исключает уважение, ну вы же знаете. Так вот присвоили – и слава Богу. Кому-то надо всё это, с позволения сказать, разумное, доброе, вечное сохранить. Много сеющих, да мало посеявших. А ещё и полоть надо, и окучивать, и поливать. Поэтому прекраснодушные труды многих уходят в крапиву, порастают быльём. А вот хранить – это спиной к стене, все четыре лапы вперёд когтями и зубы в придачу. А как же! И потом – интеллигент хоть философствует худо-бедно. Ему можно возражать, а возражая – догадываться. А поговори с человеком сугубого дела – с военным, скажем, или с конструктором, или с купцом. Они всё знают, и объяснят и научат, и места для догадок не оставят. Вот наш друг Славка – типичный интеллигент. Сопротивляется.
– Дайте хлебнуть, – потребовал Карл.
– И всё-таки интеллигенция, – запальчиво продолжил он, – напоминает мне злобных старушек в церкви, шипящих на неловких прихожан.
– Церковные старушки – это деревянное язычество, которое теплится в глубине православия. Согласитесь, однако, что деревянное теплее, чем мраморное. Так что не будем их трогать. Скорее уж – тут я с вами соглашусь – это беззубая слепая кобра из Киплинга. А сокровище, то бишь культура наша, проклято. Кто огребёт – беды не оберётся. Вот и растаскиваем по мелочам, что плохо лежит, и обгладываем в Интернете, думаем – обойдётся.
Они подошли к причалу. Темнели лодки в тусклой воде. В зарослях крапивы трещал коростель.
– Вот вы спрашиваете – Родина, – помолчав, сказал Дедушка. – Тут два варианта. Либо Родина – там, где хорошо, либо хорошо там, где Родина. Второй вариант предпочтительней. Хотя – оба существуют, и, значит, правомерны. Вон коростель. Он ведь неспроста уходит в тёплые края пешком. Знает, собака, что, пролетая, можно многое не заметить, или не почувствовать, не наткнуться, в конце концов. И зона его обитания огромна. От Украины до Урала. А может, ещё шире, не знаю, можно уточнить. А потому огромна, что у него есть выбор. Он знает, где остаться. Хотя, по мне, ценнее хранить и защищать, если ты не курица.
Они хлебнули по последнему глотку. Дедушка потряс флягой и сунул её в карман.
– А вы знаете, как псковитяне оборонялись от врага? – с улыбкой в темноте спросил он.
– Ну, камнями кидались. Смолу горячую лили. Или кипяток…
– Говно горячее! Представляете, – оживился Дедушка, – подъезжает к крепостной стене Стефан Баторий, в белоснежном мундире, гарцует, задаётся, а сверху на него – горячее говно. Стефан обиделся: «Разве это война?» – и уехал восвояси.
– Вот и Славка говорит, – вспомнил Карл, – говна много, а раскидать некому.
– Да уж пусть лучше лежит…
Стемнело. Ни одно окно не светилось в деревне. Карл оглянулся на свой дом. Мерцала веранда, и над крыльцом вспыхнул фонарь – Таня зажгла, чтобы Карлик не заблудился.
Они сидели молча на причале и болтали ногами.
– Всё, – поднялся Дедушка, – пора по домам. Возьмите фонарик, вы ведь пойдёте напрямик. Кочки – ноги сломаешь. До свидания.
Татьяна встретила Карла с улыбкой.
– Ну, и где рыба?
– Не клюёт, – сказал Карл и покраснел.
4
Славка поднатужился и остался жить. Он был слаб и блаженно улыбался. Сквозь вековой загар просвечивала бледная кожа.
Он сидел на лавке под сиренью и явно не знал, с чего начать.
– Ты, Борисыч, окошки покрасил?
– Ну, покрасил.
Карлу было любопытно, как Славка выйдет на тему.
Славка вздохнул:
– Так налил бы.
Вмешалась Татьяна:
– Славик, ты же знаешь, что не жалко. Но тебе ведь нельзя. Ты и так уже третий день…
– Вчера не пил, – быстро сказал Славка.
– Как же не пил, – горячилась Татьяна, – Карлик, скажи…
– Ну, пил. Только я вчера не хотел.
Карл вынес полстакана и корочку чёрного хлеба – Славкино лакомство. Славка поднял стакан и оживился.
– Мне Зелёный дедушка велел выпивать каждый день сто грамм. От сердца.
– А печень как же? – усмехнулся Карл.
– А печень, Дедушка сказал, как заболит – к врачу поедем. Ей Богу. Я обещал.
Славка выцедил водку и стал рассуждать.
– Вот мне шестьдесят. Я лежу, лежу и думаю: лучше быть живым алкоголиком, чем мёртвым… – Славка недоумённо заморгал. – Кто я? Колхозник? Никогда. Крестьянин? Куда мне. Да кто я, Борисыч?
– Однодворец.
– А это ещё что такое?
– Ну, хозяин.
– А ху, пусть будет хозяин. Немножко подходит.
– Слав, – вспомнил Карл, – а с наследством как быть? С Дедушкой. Вернуть?
Славка осклабился:
– Ладно, Борисыч. Пользуйся пока.
Татьяна глянула на небо и обеспокоилась:
– Карлик, пора ехать. Неудобно опаздывать – люди под мостом. И дождь вон собирается.
Они копили на новый колодец долго, как Плющ на аттестат зрелости, но всё же скопили. Сейчас приедут мастера из Кимр, посмотрят, что да как, выберут место.
Карл с опаской подошёл к трёхсильному «Джонсону», покачал его. Бултыхнулось с полбачка бензина, в один конец и то не хватит. А вот ещё два литра уже разведённого, в пластиковой бутылке. Теперь в самый раз. Но ведь ещё отвозить их обратно… В сарае скопилось с полдюжины канистр – дети навезли – пустые в основном, но были и тяжелые. Так, в одной из них солярка, не перепутать бы. Вот, кажется, и девяносто второй.
Карл налил пятилитровую флягу из-под воды, подробно прочёл аннотацию на банке с маслом, аккуратно отмерил…
В технике он не разбирался так глубоко, что тупел перед ней, впадал в ступор, как некогда у чёрной доски на уроках математики. Мотором пользовался редко, и каждый раз боялся, что не вспомнит последовательность двух-трёх действий и не сможет завести.
Взвалил мотор на плечо – тележке он не доверял – подпрыгнет на кочке и стряхнёт что-нибудь важное. Подхватил флягу с бензином.
Татьяна шла впереди с вёслами и дождевиками для гостей. Карл залюбовался её силуэтом на фоне серого неба, даже прищурился.
Татьяна вычерпывала воду из казанки, Карл, пыхтя и матерясь, прилаживал мотор.
Он с детства мечтал о резиновой лодке. Лодка продавалась во всех спортивных магазинах и стоила восемьдесят рублей – деньги непомерные. Была она двухместная, из мягкой толстой резины, тальк серебрился на ней, как соль на чёрном хлебе. Её можно было накачать велосипедным насосом за пятнадцать минут. Смущали только вёсла – они были короткие, и грести нужно было от локтя, а не всем телом, как мечталось.
За всю жизнь так и не нашлось свободных восьмидесяти рублей. А сейчас – вон казанка, надёжная и устойчивая, как утюг. Сашкин катер «Прогресс» валяется, перевёрнутый, возле дома, лёгкая килевая лодочка, ялик, стоит вон рядом, у тростника, а той, о которой мечталось, не будет уже никогда.
Всякий раз, оказываясь на причале, Карл старался не смотреть в сторону ялика, которому он изменил с плоскодонной казанкой – щемило сердце от ощущения собственной ничтожности.
Нет ничего печальнее брошенной лодки. Над ней всегда идёт дождь, или стоят сиреневые сумерки, мерцает слабая звезда.
Некрасовская «несжатая полоса» – размышлял Карл – символ социальной несправедливости и тяжкой доли русского народа. Символ, но не образ. А брошенная лодка – образ, да что там образ – сама жизнь. Вот и у Рубцова: «Лодка на речной мели скоро догниёт совсем…»
От этих рассуждений Карлу стало ещё противней – человек, совершивший предательство, не имеет права на элегию.
С этим яликом было много хожено.
Мощный западный ветер гнёт еловый бор на том берегу, как тресту, и разводит волну на широкой реке, резкую, ломкую, с жёлтыми барашками, ялик на скорости стоит дыбом, и держать носом к волне нельзя – там берег, и руль дрожит и вырывается из окоченевшей руки, и валит майский снег – коварный, несправедливый, и нужно пройти двенадцать километров до моста – там ждут, а перевернуться никак нельзя – на тебе сапоги-ботфорты, ватные штаны и ватный же бушлат весом с полтонны.
Перевернуться всё же пришлось, но в другой раз – тихим майским вечером. Карл сидел на руле и гордился оказанным доверием – технически подкованные пассажиры, опытные водилы – Сашка и родственник среднего звена сидели по бортам, пили водку, закусывали сырой сосиской. Карл пил мало и через раз – за рулём всё-таки.
Километрах в полутора от причала родственник преисполнился любви к своей жене, встречающей его, возможно, на берегу. Он выпрямился во весь рост, приложил ладони ко рту и полётным голосом закричал: «Дина-а! Я люблю тебя-а-а!» Этого ему показалось мало, и он шагнул в сторону берега, к борту, где сидел Сашка…
Карл увидел перед собой голубое днище. Оно лоснилось, как спина дельфина. Вода оказалась холодная, но не слишком, свитер намок мгновенно и держал градус.
Очкарик Сашка бултыхался сосредоточенно, – длинноногий, он пытался нащупать дно и, не нащупав, сдирал с себя сапоги. Очкарик родственник, выпучив глаза за стёклами и отдуваясь, пытался дотянуться до перевёрнутой лодки. Карл прикинул – до берега далековато, и с сожалением, нога об ногу, содрал свои сапоги тоже.
Родственнику помогли добраться до борта, Сашка нащупал дно, и все успокоились и даже развеселились. Карл всё же сердился – не хватало утонуть на мелководье во имя чужого шутовства.
Материальный ущерб составили две сумки с продуктами, две пары резиновых сапог, насос «Малыш» и две с половиной бутылки водки.
Не считая, правда, Сашкиных ключей от машины с кнопкой сигнализации. Кнопка намокла, и машина больше не завелась. Никогда.
Случались штилевые закаты с торчащими на корме удочками, когда ялик слушался малейшего движения весла, всё понимал, улыбался и подмигивал.
Татьяна выгребла из узкого коридора между стенами тростника. В коридоре стояли лилии и кувшинки – не намотать бы – выгребла на чистую воду, Карл повспоминал немного, разобрался с подсосом, дёрнул с волнением за верёвочку. Мотор завёлся со второго раза. Карл вздохнул с облегчением, сел поудобнее, пристально посмотрел вдаль. Достал сигареты и попросил Таню прикурить.
5
Небо обложило от леса до леса, редкие капли падали весомо, со значением. «Пойти сетку проверить, – решил Славка. – Как зарядит – хер выберешься, а рыба подохнет».
Он надел болотные сапоги, взял ведро. Тусклое облако светилось на мокрых досках причала. На лавочке сидел Николай Рубцов. На нём была короткая курточка с капюшоном, в покрасневшей озябшей руке – бутылка портвейна.
Славка подошёл почти вплотную, но Рубцов помалкивал. Славка закурил и выжидал с любопытством. Наконец Рубцов, не оглядываясь, заговорил:
Рубцов:
Мне лошадь встретилась в кустах,
И дрогнул я, но было поздно.
В любой воде таился страх,
В любом сарае сенокосном…
Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.
Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
Мы жутко так, не до конца
Переглянулись по два раза.
И я спешил – признаюсь вам —
С одною мыслью к домочадцам:
Что лучше разным существам
В местах тревожных не встречаться.
Славка:
– Это у тебя, Николай, болезнь такая. Как её… Хорёк, что ли. Шёл бы ты и, правда, к домочадцам, чем болтаться по тревожным кустам.
Рубцов:
– Счастье твоё, Славка, что я люблю тебя, как русский народ. А то дал бы тебе по морде. Выпить хочешь?
Славка:
– Давай.
Он взял бутылку и хмыкнул:
– Давно не пил из горлА. Пора тебе, Николай, завести стакан. И дом. И лошадь. И бабу.
Рубцов, горестно качая головой:
Россия! как грустно! как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом безвестные ивы мои!
Пустынно мерцает померкшая звёздная люстра,
И лодка моя на речной догнивает мели.
Славка:
– Так починил бы. Это вон Борисыч, – он кивнул на полузалитый дождями ялик. – Борисыч не может. Старый уже, слабосильный, а ты… «Матушка возьмёт ведро, молча принесёт воды», – передразнил он. Здоровый лоб вымахал, а воду ему старуха таскает. Да ещё молча. Не перечит…
Рубцов:
Я забыл, что такое любовь,
И под лунным над городом светом
Столько выпалил клятвенных слов,
Что мрачнею, как вспомню об этом.
И однажды, прижатый к стене
Безобразьем, идущим по следу,
Одиноко я вскрикну во сне
И проснусь, и уйду, и уеду.
Поздно ночью откроется дверь.
Невесёлая будет минута.
У порога я встану, как зверь,
Захотевший любви и уюта…
Славка:
Конечно, ни детишек, ни кола
И не двора – не оберёшься боли.
Любил бы ты потише, Николай,
И посамоотверженнее, что ли.
Ты заблудился в собственном лесу
Меж радостью, печалью и недугом.
И не тряси ты нашим русским духом, —
И так шибает в нос, куда ни сунь
Рубцов:
Россия, Русь – куда я ни взгляну…
За все твои страдания и битвы,
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шёпот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя…
Россия, Русь! Храни себя, храни!
Славка:
Знаешь, даже неловко
Слушать высокий слог.
Ты б для начала лодку
Проконопатить смог.
Ты б для начала бабу
Добрую полюбил,
Ты бы курочку Рябу
Зёрнышком покормил.
Ты же поэт хороший,
Вот и сиди, пиши.
Что ты всё строишь рожи
В нашей лесной глуши!
Рубцов озадаченно посмотрел на Славку.
– Я русский! – сказал он, отхлебнув из бутылки.
– Это ты сейчас русский. А как помрёшь – хер тебя разберёт, русский ты или мавританец!