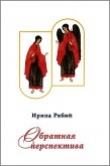Текст книги "Обратная перспектива"
Автор книги: Гарри Гордон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Глава шестая
1Карл сидел за кухонным столом и смотрел в окно. В окне ивовые стволы и ветви выстроили витраж в стиле модерн, плавный и затейливый, с прозрачными вставками: синие – тень от дома напротив, табачные – трава, и белые мелкие кусочки неба.
Тридцать с лишним лет просидел он на этой кухне, – оттолпились и истаяли молодые, отсидели за этим столом взрослые, поднимали кверху лица, пели вторыми голосами.
А теперь – изредка заглянет кто-нибудь пожилой, а то и старый, да внучки, пришедшие в гости, забегут попить водички, – и назад, в комнату, к своим мультикам.
И пейзаж за окном изменился, – не было никакого витража, а были – саженцы, бетон и грязюка под белым небом. Интересно: когда зарастает луг в деревне, – это одичание. А рукотворные заросли, выходит, – культура и благоустройство.
Сейчас, вернувшись из деревни, хотелось сидеть тихо, медленно догадываться до чего-то хорошего.
Год назад произошло событие, радостное на первый взгляд – вышла книга стихов, полное, можно сказать, собрание. Две книги прозы и книга стихов, – об этом пятнадцать лет назад и не мечталось, – Карл знал, что не будет напечатано ни строчки, и писал «в стол», как, впрочем, и другие. Он привык к этой действительности, иногда только возникало на душе что-то вроде изжоги – непрочитанные стихи перекисали, отравляли душу.
Стихи, как и картины, живы, когда их читают, или смотрят, или, если повезёт, застрянут в чьей-нибудь благодарной памяти…
Книга вышла и Карл, после первой радости, ужаснулся: тридцать лет жизни вместилось на трёхстах страницах. Твёрдая корочка снизу и сверху. И, что совсем непостижимо, оказалось, что издано всё, до последней строчки. Он почувствовал себя голым новорождённым стариком.
Стихов уже не будет, это понятно, но оказалось, что проза после поэзии – ничего страшного, никакая это не капитуляция, и не предательство, жить можно. Только, оставаясь поэтом, он и к прозе относился как к поэзии: профессионального рукотворства не признавал, ждал, когда натечёт.
Татьяна по-прежнему работает в школе, рассказывает зачем-то детям о мировой художественной культуре, останавливает коня на скаку, никак не остановится.
Каждую ночь перед сном Карл отрывает листок календаря, и, чтоб оправдаться перед улетевшим днем, подробно рассматривает: фазы Луны, восход, заход, долгота дня…
Вот эта «долгота дня» звучит и вовсе издевательски. А что ты хочешь – натечёт или не натечёт – неизвестно. Рыть надо. Был же колодец. Но каждый новый день необратимая повседневность застила глаза, заставляла таращиться на ивовый витраж.
Заехал Сашка, сияющий: выкопал в интернете сведения о художнике Коке – жив, в городе Шымкенте, по такому-то адресу. Сашка видел Коку однажды, лет двадцать назад в дни смуты и развала, тот был проездом в Москве, уже тогда утомлённый до неузнаваемости.
– Полетим, – сказал Сашка.
Карл молчал.
– А что! Раздадим его долги… поддержим. Или деньги – не так важно?
Ещё как важно. Карл вспомнил годы тяжёлого безденежья, когда добрые слова раздражали, а деньги радовали. Но Кока… «Ты зачем приехал, – скажет он. – Спасать меня? Что, деньги лишние? А где ты был эти двадцать лет? А до этого – ещё двадцать? Что ты хочешь вернуть? Самоуважение? Валяй, только без меня. А у меня всё в порядке. Вот мой стол. Мой бокал. Даже рисунки есть – шариковой ручкой. Посмотри, если интересно. И вали отсюда».
«Это ещё в лучшем случае, – вздохнул Карл. – Может не узнать, не вспомнить, не открыть дверь…»
Брошенные лодки… Вот и Плющик. Разве плохо было, когда заезжал к нему год назад? Пили, вспоминали, радовались. Договорились вместе ехать в Одессу. Куда же ты пропал, Борисыч… А ближайшее окружение? Всех разогнал, никому не звонишь, даже назвал себя «недозвоном». Отхохмился. Просело твоё октановое число, задок-передок. Интересно, роет ли Паша колодец? Нет, неинтересно. Роет, наверное.
Как бы так исхитриться и написать роман без слов, картину без изображения. Неужели, пока существуют люди, придётся искать общий язык… С покойниками общаться – ещё ничего, нет необходимости смотреть в глаза.
Карл устал от этого кошмарного монолога и включил телевизор. «Я этот ящик выкину когда-нибудь, – грозила Татьяна. – Когда ни включи – бесы прыгают. Неужели не страшно?»
Бояться не надо. Страхи изнурительны – беды приходят и уходят, а душа, изъеденная страхами до дыр, не восстановится. Чего бояться. Можно бояться американского президента (для более продвинутых сойдёт и польский), украинского парламента, экономического кризиса, ингушской диаспоры в Кологриве, строительства мусоросжигательного завода. А детей лучше всего пугать глобальным потеплением. Не надо обслуживать душой страхи – даже если Земля исчезнет – Небеса-то останутся.
– Танечка, если б у меня был камин, я не смотрел бы в телевизор.
Он листал каналы то с отвращением, то с любопытством, иногда останавливался полюбоваться хорошим кадром, особенно, если в нём была вода, – море ли, лужа, не важно.
Интеллектуалы, конечно, бесили. Собирались они просто так, решали глобальные проблемы просто так, кабинетной терминологией – щеголяли. Особенно Карла сердило, когда что-нибудь живое – образ, радость, поэзию, они называли текстами и смыслами. Сидит в ящике поэтесса с плечами регбистки и говорит о смыслах. Ужас.
И всё равно – телевизор не мешал думать и печалиться. «Ну, не поехал я с Плющом в Одессу, – размышлял Карл под сводку погоды, – но написать я о нём могу. Это даже лучше».
На следующее утро, наскоро выпив кофе, он с опаской подошёл к письменному столу, долго искал ручку… Таня сегодня придёт поздно, включи настольную лампу и не смотри на часы. Главное, не думать о жанре, не важно, что это будет, давай, рой.
Карл зажмурился и начал:
«Тёплая стоячая вода временами покрывается плёнкой сала. Случаются заморы – не хватает кислорода. Рыба либо дохнет, либо «делает ноги».
Косте Плющу кислорода хватало. Он сам его вырабатывал. Просто ему не нашлось места. Одесситы умеют угощать, но не любят делиться.
В Одессе слишком длинная скамейка запасных. Прибегаю к этому футбольному термину, потому что так, к сожалению, понятнее.
Плющу помахали ручкой, сотворили его образ и повесили на стенку. Образ каши не просит. Костю Плюща сделали легендой прижизненно. Легенда разрасталась, поджимала судьбу, вытесняла её, оставляя судьбе самое неблагодарное – физическое выживание…
Он слишком рано стал профессионалом, а профессионализм – это планка, ниже которой нельзя, а выше – как получится. И если обычно художник выжимает из себя ученичество, Плющ последовательно выжимает из себя профессионала. Потому что много званых, да мало избранных. Потому что профессионал – человек бывалый, а Плющ – небывалый человек.
Уход его из южнорусской школы можно объяснить по-разному. Я не собираюсь этого делать – на то есть искусствоведы. Хотя, если человек стал легендой – так ли уж важно, что он делает и как… Знаю только, как обидно бывает художнику, когда его хвалят за пустяки и не замечают главного. Знаю только, что многочисленные обнажёнки и рыбки – тема неприкаянности и сиротства…»
«Ерунда какая-то, – остановился Карл. – Что-то среднее между предисловием и некрологом. Ладно, потом разберёмся. Поехали дальше».
Зазвонил телефон. Ну что ж, вовремя. Надо прерваться и покурить.
Карл вышел в кухню, поднял трубку. Вкрадчивый голос Будякова заворковал:
– Как жив? Что делаешь?
– Да вот, представляешь… Впервые за два… нет, три года сел за стол, – Карл вдруг осёкся и насторожился:
– А что?
– А то, – торжественно, как приговор, объявил Будяков, – пора водку пить!
– С чего это?
– А с того, что я сегодня рано освободился, и через час буду у тебя.
– Будяков, помилуй, – взмолился Карл и посмотрел на часы. – Половина двенадцатого! Можешь хотя бы после трёх?.. Поезжай домой, пообедай, отдохни…
– Нет, – отрезал Будяков, – я из дома уже не выберусь, на ночь глядя. Я ведь ложусь в девять.
«Да хоть в пять», – досадовал Карл, но отказать не смог – одинокий человек, под семьдесят, рвётся к тебе, значит, надо. Другой бы порадовался…
– Что ж ты девушкам спать не даёшь, падла, – вздохнул Карл. – Давай, жду. Только говна не бери.
– Га-га-га, – загоготало в трубке. – Иду.
Лет тридцать назад Будяков был здоровым дядькой, волосатым и спортивным, жизнерадостным до недоумения, гоготал, читал умные книги и ухаживал за барышнями, осторожно, но наверняка. Он не любил ошибаться, ошибка могла стоить ему личной свободы.
Жил с мамой, работал инженером, а по выходным регулярно писал стихи. Борис Слуцкий назвал его поэтом выходного дня. Стихи по выходным получались всякие, – иногда радовали, иногда – слушать было неловко, читал он их честно и охотно, приговора не боялся. Суровые друзья его щадили – он охотно давал взаймы.
К пятидесяти годам Будяков внезапно бросил свой НИИ и ушёл в трубочисты. Ему даже не поверили поначалу – что за Андерсен, – но оказалось – правда, в старых домах отопление какое-то специальное…
Так или иначе, но хорошие строчки стали появляться чаще, а сам Будяков стал симпатичнее. А теперь и вовсе прелесть – лысый, с тяжёлой бородой, с палкой в руке, согбенный и весёлый, он походил на крупного гнома или самодельного Санта-Клауса.
Карл с сожалением посмотрел на исписанную страницу – зацепиться не получилось, ну ничего, лиха беда начало, снимем стресс, а завтра… Он представил себе завтрашнее похмелье, передёрнул плечами и пошёл резать сало.
Будяков принёс серенький тонкий журнал – издание еврейского культурного центра.
– Смотри, целую подборку напечатали. Вот.
Карл полистал страницы.
– А кто такой Шумихер?
– Это я, я Шумихер, – радостно тыкал в себя пальцем Будяков. – Я – Шумихер по маме!
– Жидовская ты морда, – умилился Карл. – И где же твоя водка?
Будяков суетливо достал из сумки бутылку «Столичной», с потёртой советской этикеткой.
– Что, из подарочного фонда? Образца тысяча девятьсот восемьдесят шестого года?
– Нет, ей Богу, – забожился Шумихер, – только что купил!
– И где ты их находишь… Небось, рублей за девяносто?
– Обижаешь… восемьдесят семь. Ну, со свиданьицем, – Будяков истово чокнулся и опрокинул рюмку в мягкий рот. – Господи, хорошо-то как… Сегодня, между прочим, праздник: Вера, Надежда, Любовь. И мать их Софья.
– А тебе, Шумихер, что за дело?
– Да ничего… Я хожу в церковь довольно часто. Свечку ставлю. По маме, по…
– А в синагогу?
– И в синагогу. За мацой – святое дело. Слушай-кась. Давай я тебе стишок прочитаю…
– Тебе скоро семьдесят, а ты всё стихи пишешь. Как тебе не стыдно?
Стихи были хорошие. Что-то про дедушку Моисея, который стучал посохом по паркету, а маленький мальчик, лирический герой, боялся, что хлынет вода из-под посоха и зальёт нижнюю квартиру. Хорошие, но…
– Слушай, а откуда у тебя советский киндер в сороковые годы знает Библию?
– Как откуда? Ну, я же знаю… Это художественная правда.
– Никакая не правда, никакая не художественная. Самая обыкновенная подтасовка. А вообще, ты кто? Русский поэт, или, может быть, еврейский?
– Га-га-га!.. Какая разница!
Крыть было нечем.
– Я понял, – сказал Карл, разливая по рюмкам. – Когда тебя не печатают – ты русский поэт, а когда…
Зазвонил телефон.
– Карлик, – сказала Таня, – я у Кати. Буду поздно. Что с голосом? Ты здоров?
– Танечка, у нас Будяков! – радостно, как с Новым годом, поздравил её Карл. – Он теперь Шумихер!
– А, понятно… Ничего не понимаю… Пока. Привет Будякову.
– Скажи мне, Шумихер, любимец богов, – приставал Карл, – кто ты есть на самом деле?..
– Да никто. Трубочист. Устал я. Вот интересно: если б тебе дали возможность прожить ещё одну жизнь? Ты бы как…
Карл вспомнил серые промозглые семидесятые, хамство, демагогию, нищету, высокие слова «коллектив», «дисциплина» и поёжился. Но ведь было и другое…
– Да, пожалуй, так же. Только сначала взял бы отпуск лет на двести…
– А я, – мечтательно сказал Будяков, – жил бы в Индии…
– Так ты ещё и ариец? Никак не пойму – придурок ты или мудрец?
– Га-га-га… Какая разница! Что-то я, Карлуша, с тобой всё время напиваюсь. Побляду я.
– И не надоело? Я эту хохмочку слышу уже лет тридцать.
– Га-га-га… Ну и что?
– Ничего. А только ты ведёшь себя кое-как. Сам совратил, а сам в кусты? У меня есть заначка. Грамм триста. Танечка на компресс держит.
– Какой компресс?
– Не знаю. Видимо, сейчас тот самый случай.
– Тебе хорошо, ты будешь спать, сколько захочешь, а мне вставать на рассвете…
– Пей, сволочь!
Когда Будяков ушёл, Карл первым делом вытер лужицы со стола, смёл крошки.
– Терпеть не могу богему, – бормотал он.
От компресса осталось рюмки на три. Или четыре. «Вера, Надежда, Любовь, – вспомнил Карл. – Надо звонить, поздравлять».
Давно никому не звонивший, он слегка протрезвел от такого решения. Нашёл старую книжку с номерами телефонов и стал листать.
– Вера? Здравствуйте. Это некий… Что, узнали? Значит, не быть мне богатым. Ну и хорошо. Это я вас с ангелом поздравляю. Куда пропал? Это вы куда-то пропадаете. То вас нет, то вам не до меня… Я-то помню. Точнее не вас, а о вас. О вашем существовании. Что? Иногда греет, иногда мешает. Увидимся? Конечно…
Карл налил рюмку, чокнулся с трубкой.
– Ваше здоровье, Вера. А когда увидимся, вы мне будете мораль читать? Что? Будете? Значит, с вами всё в порядке. Это я мудрый? Ну да – мудрость даётся человеку под старость, и не для добрых дел, а чтоб смерти не боялся. Вот если б я был мудрым смолоду – валялся бы на печи тридцать лет и три года. Зачем? Чтоб дров не наломать. Причем тут Христос… Я об Илье Муромце… Кто про что, а вшивый про баню. Извините. Что, грубо? Но вы ведь тоже не молодеете. Новые поклонники? Вы поосторожнее с новыми. Поматросят и бросят. Знаю я их – теперь мода на пожилых дам. Ну вот. Я с вами как на духу, а вы… Ладно, до встречи…
Карл положил трубку, утёр лоб салфеткой.
– Кокетка старая… Она меня будет лечить!
Он прошёлся по кухне, машинально отщипнул кусочек хлеба. Опомнился, наполнил рюмку.
– Так, а где у нас Надежда? Ага…
– Надя? Не ожидала? Конечно, я. Ну, поздравляю. Да так, привычно. Всё нормально. Кризис. Дети? Их, конечно, жалко, но смею напомнить, что это мы сироты, а не они. Да перестань, всё отстоится. Попса тем и хороша, что она вечна, как мусор. Её можно не замечать. Ну да, всё высокое – сиюминутно. Главное – помнить об этом вечно. Ой, не греши. Чего только нет в книжных… Думаю, да. Белинского да Гоголя с базара понесут. И Некрасова, конечно. И эти две сладкие парочки: Ахматова – Цветаева, Мандельштам – Пастернак. Вот-вот, как на колхозной танцплощадке. Выплюнут папиросы и пойдут бацать: Пастернак с Цветаевой, Ахматова с Мандельштамом. Что, ёрничаю? Кого люблю, того ёрничаю. Прости, я сейчас.
Карл выпил рюмку и закурил. Дуры бабы. Почему они меня всё время в чём-то подозревают. Ёрничаю…
– Алло, ты здесь? Надька, я не ёрничаю. Так… сижу, догадываюсь. Что, думать? Знаешь, Наденька, дедуктивным методом истину не найдёшь, не очки и не зонтик. А потом: чего её искать. Её ощущать надо. Надька, ты дама, безнравственная во всех отношениях. Потому что, по закону лирики, количество нравственности не переходит в качество. Учёные доказали. Вот смотри: допустим, я напишу роман о страданиях русского или какого там народа. О подвиге, о доблести, о славе… Что обо мне скажут? А скажут: – какой, блин, масштабный талант! Матёрый человечище. А если напишу, например, о… о червяке, влюблённом в уклейку, скажут: мило, но… Так вот: написать то или другое хорошо – нравственно одинаково. Количество единиц добра одно и то же. А написать плохо? В первом случае – зла навалом, а про рыбку – плюнут и забудут. Так что, люди добрые, не грузите… Что? Сам себе противоречу? Неважно. Главное, что я общаюсь с Надеждой. А вот спорим: завтра позвоню, трезвый! Ну, пока, так пока…
Карл посмотрел в окно и обратился к голубю на подоконнике:
– Граждане, не насилуйте Надежду по телефону.
Он поднял бутылку, глянул напросвет:
– Рюмка третья.
– Здравствуй, Люба. Слава Богу, что ты дома. Да так, задолбали эти недотроги, Верка с Надькой. От, ты тёмная: именины у тебя. Поздравляю. Да, вспоминаю по любому поводу – надо и не надо. Ты бы звонила иногда… А то: поехали в деревню. Там недели через две останется последний листик на диком винограде, что у террасы. Как у О’Генри. Это по твоей части. Ещё что? На болоте – клюква в сахарной пудре. От ты тупая: изморозь, понимаешь? А полёвки и землеройки потянутся гуськом в дырку под домом. Да, много. Будут грызть в темноте детские книжки с картинками. Костю Плюща давно видела? Мы с ним собирались в Одессу. Да вчера, в сентябре. Там штормы выбили, как одеяло, шершавую суконную воду, и весь хлам – останки насекомых, пылюка, пыльца цветения и увядания, микроорганизмы, – всё осело на дно. Так что, прозрачная. Что с этим делать? Как в воду глядеть. Провидеть. Почему это я ёрничаю? Просто я – мрачный оптимист. Я точно знаю, что всё будет хорошо, – и у меня, и у других, и у всех вместе, – только радости мало. Уходит, утекает радость. Как воздух из проколотой резиновой лодки, знаешь, были такие, за восемьдесят рублей. Что, горняя радость? Конечно, конечно… Ты прямо, как Верка. Слушай, Любонька, твоими бы устами… Да ты никому не отказываешь. И кто ты после этого? Я не собираюсь с тобой ругаться, наоборот… «В гостях, на улице и дома я вижу тонкий профиль твой…» Что, уже толстый? Не важно, в размер укладывается. «Твои шаги звучат за мною, куда я ни войду, ты там, не ты ли лёгкою стопою за мною ходишь по пятам…» Нет, сам я так не умею. А всё равно: я ведь всё время пишу о тебе. Не мытьём, так катаньем. Всё, Любка, водка моя кончается, кураж мой оседает, давай прощаться. Танечка о тебе вспоминает и хочет общаться. Целую, дура старая…
Карл поставил пустую бутылку под стол – на Софью водки не хватило. Ну и хорошо – вроде бы и не очень пьян. Зажечь телевизор и посматривать на часы – ждать Танечку. Он встал и включил чайник. Зазвонил телефон. Дальний высокий голос, – чувствовалось, что из глубокой тьмы, – напряжённо прокричал в телеграфном стиле:
– Я – проездом. Приходи завтра ровно в полдень в метро Китай-город под башкой. Это Плющик.
«Не забыть бы», – Карл написал на листке календаря: «Плющ. Полдень».
По телевизору показывали аномалию: на севере Африки выпал снег. Сиреневый негр на крупном плане был так ошеломлён, что заговорил по-русски.
Утром кричала кошка. Твёрдо расставив все четыре лапы, упёршись невидящим взглядом в батарею центрального отопления, она кричала протяжно, с глубоким разбегом, голосом, рассчитанным на всеуслышанье.
– Время пришло, – оповещала она, – и теперь вы узнаете, что я о вас думаю.
Карл с отвращением открыл глаза и посмотрел на часы. Десять. Потянулся за тапком, чтобы швырнуть в кошку, но изнемог. Закрыл глаза и стал считать крики. Когда-нибудь это же кончится. После пятнадцатого кошка опомнилась, нежно спросила: «Мяу?» и ушла в кухню. Карл поплёлся следом – пересохло во рту, вспомнил вчерашние телефонные разговоры и поморщился. Что-то было хорошее… Ну да, Плющик. Выходить надо через час. Успеваю.
Где-то слева или справа, – не разберёшь, в блочных домах стороны света не определяются, ни к чему, – затрещала дрель. И тотчас же сверху, перекрывая дрель, закричал Окуджава.
Сосед, алкоголик в завязке, аккуратно, раз в полгода, срывался и грузил голос совести трех поколений децибелами, искажающими суть.
– Возьмёмся за руки, друзья, – угрожал Окуджава, – и теперь вы узнаете, что я о вас думаю…
В метро Карл почувствовал запоздалое волнение перед встречей. Значит, Плющик всё-таки собрался в Одессу. В начале октября там хорошо. Вода ещё не остыла, тёплое ватное солнце стоит над побелевшими клёнами, луна взлетает из-за моря, лёгкая, как одуванчик…
Если он проездом, сколько у нас времени? И почему Китай-город? Центр, понятно. И башка – бюст революционера Ногина, – одна на всю Москву. «Там на Маросейке, – вспоминал Карл, – года два назад была забегаловка, где рюмка водки стоила тридцать рублей. Не надо о водке. Но там есть и пиво…»
Под башкой стояли люди и читали газеты. Странно, после беспокойных девяностых газеты в метро давно уже не читают, всё больше потрёпанную Маринину или мятую Устинову, но здесь, на традиционном месте встречи, стереотип, что ли, срабатывает…
Девочка с голым, не по сезону, пупком, листает какой-то глянцевый гламур. Перетекали с линии на линию серые, чёрные и разноцветные люди, грохотали поезда, Карла укачивало, появилось ощущение другой реальности, где не было места ни Плющу, ни ему самому. Он поглядывал на часы: двенадцать пятнадцать, двенадцать тридцать… В без двадцати час стало ясно, что Плюща не будет, может и не было вовсе, но сделать усилие и уйти было трудно.
Ровно в час он собрался и вытолкнул себя на Маросейку. В забегаловке, не поинтересовавшись, почём теперь водка, он медленно, но без удовольствия выпил кружку пива.