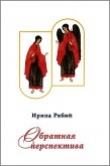Текст книги "Обратная перспектива"
Автор книги: Гарри Гордон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Глава четвертая
1Плющ завязал галстук, вгляделся в зеркало и вздохнул:
– Что делается? Я был, Снежаночка, похож на мачо. Как там… Бэ самэ мучо. А теперь – чистый дедушка Мичурин. Одно лицо.
– Это потому, что вы добрый, – отозвалась Снежана. – Иди с Богом, водитель уже сигналит.
Бизнесмен Надежда попросила Константина Дмитриевича посмотреть работы своей дочери – есть ли у неё талант, стоит ли заниматься, а если стоит – не подготовит ли он ребёнка к поступлению в художественное училище. Занятия раза два, хотя бы, в неделю, за приличные, разумеется, деньги. А то и без таланта – возраст у девочки опасный, что ей болтаться по Кимрам – вокруг грязь, криминал и Голливуд.
– Хорошо бы, – вздохнула Снежана.
Постоянная нехватка денег душила и старила её.
Пенсии Плюща и её зарплаты офис-менеджера, а попросту уборщицы, хватало на оплату коммунальных услуг – ничего себе, услуги, – удобства во дворе, и, пожалуй, сигареты – курили они оба здорово. Деньги от изредка продаваемых резных рам считались шальными и тратились быстро и вдохновенно.
Морская рыба дорожает с каждым днём, а Костик речную не ест – приторная, говорит, и сладкая. В Москве хорошо, там выбор, а здесь – скумбрия мороженая, да мелкая камбала, и то не всегда. «Вот уж, воистину, Москва – порт пяти морей» – Снежана кисло улыбнулась своей шутке – что-либо придумать приходилось редко, а стихи не сочинялись уже давно.
Она окончила педагогическое училище ещё при советской власти и несколько лет проработала в детском саду. Что вспоминать. Детские сады, как некогда церкви, превратились в овощехранилища, склады под чипсы и пепси-колу – новое поколение оказалось капризным и прожорливым. Пришлось помотаться. Хорошо, хоть была отдушина – шахматный клуб, бородатые интеллектуалы. Там и встретила Константина Дмитриевича четыре года назад.
Когда проехали мост и остановились у двухэтажного особняка деревянного барокко, Плющ затосковал. Какой из него преподаватель, он и сам сроду не учился, и учителям не доверял.
Учитель, по его мнению, это неудачник, не справившийся с профессией или судьбой.
Если что-то умеешь – делай себе, кто мешает, а не можешь – нечего пудрить мозги другим. Если речь идёт о передаче опыта, то у меня нет опыта. Только возраст. Я из него состою, и отдавать нельзя – рассыплюсь.
Но, поднявшись на второй этаж и позвонив, Константин Дмитриевич вдруг ощутил острый восторг от осознания своего несовершенства и возможности начать всё заново.
Окончив четыре класса и работая подмастерьем у печника, Плющ и не помышлял об учёбе в художественном училище, но там учились его друзья – и Карлик, и Кока, – всё равно приходилось там болтаться, и писать постановки, и спорить, – правильнее было бы всё-таки поступить.
Требовался аттестат зрелости: в этом случае не нужно было сдавать общеобразовательные предметы – диктант Костик завалил бы обязательно. В крайнем случае, годилась бы справка об окончании восьми классов. А диктант – пацаны что-нибудь придумают, Карлик подбросит.
Документы – подлинные, разумеется, – продавались на Староконном рынке. Аттестат стоил двести пятьдесят рублей, справка – сто. Деньги немалые, но скопить можно. Только какой же ты художник, если копишь деньги, вместо того, чтобы пить белое сухое, без которого не докажешь, что Сальвадор Дали – просто гамно.
Однажды в конце мая Плющ ворвался в мастерскую сияющий.
– Где пропадал? – спросил Карл.
– А я, пацаны, бабки делал. Неделю раствор месил. И в результате – у меня на кармане триста карбованцев.
– Аттестат! – строго сказал Кока.
– Ну да. Причём, свежий. Урожая этого года. Когда у них там выпускной?.. В воскресенье – на Староконный. Только, мальчики, поедем вместе. А то мне туфту двинут – я того аттестата в глаза не видел.
Кока достал из кармана мелочь, сдул табачные крошки.
– У меня рублей шесть, – ответил Карл.
– Ребята, а я? Я в доле.
Кока пасмурно оглядел Плющика.
– С тебя тридцатник. И больше не вздумай.
Взяли три бутылки вина, три пачки болгарских сигарет «Витоша», кружок полтавской колбасы и буханку чёрного хлеба.
Отцветала уже сирень, но над её синей листвой колыхались и шумно дышали огромные груды белой акации, в её сладком запахе возвращались смутные детские печали. А когда этот запах смешивался с запахом морской воды, ещё прохладной и потому особенно свежей, тянуло сделать что-нибудь глупое и необъяснимое.
Под Аркадией, на диком пляже, горел в пещере небольшой костёр из плавника, на гибких веточках дерезы покачивался над огнём шашлык из колбасы и хлеба. Колбаса шипела и лопалась, жир капал на гладкие, обточенные морем деревяшки, и капля долго чернела, пока деревяшка не обгорала.
О живописи – это слишком серьёзно, об этом потом, вечером, в пустом гулком коридоре под статуей Лаокоона. А сейчас – акации гонят волну, волны эти сталкиваются над берегом с волнами прибоя, мерещатся в этой зыби пленительные образы.
Девушки на курсе, конечно, никакие. Одна – дура, с вечно воздетыми ручками и круглым животом, похожа на примус. Другая – красивая, ничего не скажешь, только уж слишком распущенная, опасная, гуляет с фиксатыми жлобами, старыми, лет под тридцать. А эта вообще – комсомолка с тонкими ножками и бородавкой на губе. Римка, конечно, ничего – весёлая, талантливая, с крепкими ногами и низко посаженным задом, а двигается – как американский авианосец «Кирсардж». Только и с ней говорить не о чем – тёмная, как антрацит, с какого-то хутора под Херсоном.
– Вот мы привередничаем, – грустно сказал Кока, – а женимся в результате на каких-нибудь кугутках.
– Я не женюсь, – похвастал Плющик. – Я, как приспичит жениться, ухо себе буду обрубать, вроде Ван Гога.
– Это сколько тебе ушей понадобится, – рассмеялся Карл. – И вообще – ты Ван Гога с отцом Сергием перепутал.
– Тихо! – Кока приложил палец к губам и насторожился. Все замерли.
– Нет, показалось, – сказал Кока.
Карл знал, что не надо расспрашивать. Показалось – и показалось. Он выполз из пещеры – и задохнулся, как от хорошей новости: шелестела и клокотала в прибое галька, впереди – полное лето каникул, ему – восемнадцать, а до женитьбы – как до того Лузановского мыса, что висит над горизонтом светлой охрой, с разбелённым ультрамарином в лощинах.
Кока взобрался на скалу и подбрасывал в воздух остатки хлеба. Чайки кружили над ним, овевали крыльями щёки, садились на плечи, зависали над головой, царапали светлые волосы, Кока хохотал и разбрасывал руки. Внезапно он затих.
– Стоп! А где Плющик?
– Мало ли… Зашёл за скалку.
Кока спрыгнул с камня.
– Ты – туда, а я – туда.
Карл посмотрел на море – да нет, Плющик сдуру туда не полезет, он и в тёплой воде не очень-то… По гальке и по песку, перебираясь через осыпи и завалы, заглядывая в пещеры, мимо бледной парочки, недовольно поглядевшей вслед, Карл обошёл несколько бухточек и вернулся к угасшему костру. Через некоторое время подошёл Кока.
– Ну?
– Слинял, гад.
– Это кто слинял? Это кто гад?
Светящимся силуэтом Плющ возник в проёме пещеры, торжественно вынул из-за пазухи тёмную бутылку кубинского рома.
– Плакал аттестат зрелости, – обречённо кивнул Кока.
– А ром – он и есть сама зрелость, – возразил Плющик, – напиток настоящих мужчин. Ничего, Кокочка, на справку осталось. Ты, ведь, Карлуша, диктант подкинешь?
Швыряли камни, целились в сигаретную пачку, жменю гальки подбрасывали таким образом, чтобы она, входя в воду, произносила «Бурлюк!». Спорили, у кого лучше получается. Пили за настоящих мужиков: дядю Хэма, Поля Гогена, Александра Грина.
– Я вам скажу хорошую новость, мальчики. Этих бабок всё равно бы не хватило. Я узнавал – с этого сезона аттестат стоит пятьсот.
2
– Ну как, рассказывай. – Снежана нетерпеливо пододвинула стул. Лелеев поднял над столом стеклянные глаза.
– Ты меня, Снежаночка, сначала напои, накорми, а потом спать уложи.
– Нет, серьёзно.
– А серьёзно, – Плющ налили себе полстакана водки и залпом выпил. – А серьёзно – ничего серьёзного. Разночинец, дай-ка зажигалку.
– Ну, не томи…
Плющ, наконец, успокоился.
– Во-первых. Ты же знаешь, Снежаночка, эти музейные особняки – сплошные коммуналки и жить страшно – деревянные конструкции сто раз погнили. А тут – капитальные перекрытия, и весь второй этаж – заблудиться можно. И полы тисовые. Водила меня, госпожа, водила, а потом завела в ванную и показала свою джакузи…
– Что-что? Лелеев, что ты ржёшь?
– Джакузи. Ну, хреновина такая. С водоворотиком.
– Ладно. А сама-то она как, Надежда?
– Ничего. Только обаятельная. Сволочь, наверное.
Лелеев закашлялся.
– И нечего кашлять. Хорошему человеку незачем казаться хорошим.
– Да Бог с ней, – Снежана придвинула тарелку с макаронами, измазанными мясным фаршем. – Что ученица?
– А… – Плющ вдруг устал. – Четырнадцатилетняя дылда. Ростом… Лелеев, встань-ка.
Лелеев приподнялся в недоумении.
– Ну, да, – удовлетворённо кивнул Плющ. – Не меньше. Садись. Покажи, говорю, свои работы. Приготовился. Думаю – кувшинчики какие-нибудь, яблочки, берёзки… а она приносит… Знаешь, бумага для ксерокса, формат А4. И на ней фломастерами – принцессы в бальных платьях. С диадемами. А вместо глаз – миндалины с ресничками. Ну, говорю, а ещё что-нибудь умеешь? А она осматривает меня с головы до ног, делает восхищённые глазки и нежно так выдыхает: «да…»
Плющ внезапно вскочил, с шумом отодвинул стул и взревел:
– На хрен!
Лелеев тихо выпил и приподнялся.
– Я пойду…
– Иди, иди…
Когда дверь за Лелеевым закрылась, Плющ грустно усмехнулся:
– Всё, Снежаночка. Теперь вся Кимра будет знать, что я обозвал Надежду и сукой, и падлой.
Глава пятая
1После пожара ничего не изменилось, но было ощущение, что раскрылась новая тетрадка, и жизнь началась с красной строки.
В этом новом спокойствии чувствовался, тем не менее, какой-то изъян, раковина, пузырёк воздуха невысоко над головой.
Карла раздражало чувство новой неполноценности, он восстанавливал все события девятого мая, но пузырёк не исчезал, а только смещался, как при моргании помеха в глазу, похожая на инфузорию Хуана Миро.
Облегчение пришло внезапно. Вот Славка на лугу – корову доит, а вот рядом с ним… Конечно же, это та старуха с перепелиными яйцами на пожарище, возникшая так мистически вместо дедушки из зелёного домика.
Гнетущий пузырёк над головой лопнул – он оказался сомнением Карла в собственной психической нормальности.
Старуха стояла тёплая и живая, потрогай, если не веришь, и дышала как Славка, как корова. У неё были имя и статус – госпожа Стелла, ясновидящая. И гостила она у своего родственника Васьки.
Васька, в отличие от Славки, был человек положительный и нелюбознательный, в свободное время отсиживался за печкой – мрачно болел язвой желудка. Казалось, он вырезан из дерева, не пригодного для поделочных работ, из делового, местного, сосны, например, и потому пошёл продольными трещинами сверху донизу.
Наезды родственницы терпел со скрипом, считал её балоболкой, не годящей для деревенской жизни. Дура, дом продала, а теперь мыкается по родственникам, почву какую-то ищет.
Эта госпожа Стелла была когда-то Стешей, Степанидой, и жила недалеко, в большом селе, в двадцати километрах отсюда. Муж ушёл от неё рано, ей и тридцати не было. Стеша, гладкая, доброжелательная баба, не горевала, поработала недолго в колхозной чайной, но не выдержала напора грубых человеческих сил, и уютно вжилась в своё небольшое хозяйство, с козой, коровой и десятком кур. Развала колхоза она, замечтавшись, не заметила, тяжёлые перестроечные времена проулыбалась – дачник не вымер, и даже слегка плодился и требовал молока.
Однажды Стеша проснулась позже обыкновенного, вспомнила, какой сегодня день и заволновалось – ей стукнуло пятьдесят пять, время заслуженного отдыха, и должно произойти, наконец, что-то чрезвычайное.
Она затаилась в кровати и прислушалась. За окном было тихо, два-три ленивых голоса донеслись издалека, проурчал грузовик, хлопнула дверца кабины, и опять тишина.
Стеша накинула халат и вышла на крыльцо. Солнце стояло высоко, розовая пыль улеглась за ушедшим стадом, сияли влажные от росы чёрные крыши. На яблоне, одной из трёх в её хозяйстве, пламенело в холодной листве единственное яблоко, ранее не замеченное, чудом явившееся невесть откуда.
– Вот это подарок, – восхитилась Стеша и огляделась. Это явление нужно было закрепить, засвидетельствовать. Этим нужно было поделиться. Но никого не было вокруг, зато – сверкала бисером паутина, растянутая в лопухе, ломкая стрекоза отражала чудовищным глазом белое облачко, засохшая грязь тракторной колеи отливала небесной голубизной.
Немыслимые объёмные цвета мелькали в воздухе, растворялись и вспыхивали, проносились над рекой, копошились в листве, жужжали и жалили.
У Стеши закружилась голова, она закрыла лицо ладонями и присела на крыльцо.
Замычала корова. Стеша неохотно опомнилась и пошла доить. Корова Глаша смотрела на неё печальными глазами стареющей красавицы. Коричневая шерсть отливала фиолетовым и зелёным.
– Нюр, – Стеша постучала соседке в окно. – Нюр, выйди-ка…
Соседка показалась на крыльце с пёстрой тряпкой в руках.
– Чего тебе, Степанида?
Стеша неожиданно смутилась и начала издалека:
– Нюр, а что ты мне подаришь на День рождения? Ну, если вдруг?..
– Чего это ты? Ну, не знаю. У тебя всё есть. Кол осиновый. А что?
– Ничего. Твоя Лялька всё лето рисовала. Может, остались краски какие, бумага, кардонки?..
– Не-е. Она всё с собой увезла, в школу. У них теперь требования, знаешь какие!
– Тогда найди мне простой карандаш и листик бумаги. Я у себя обыскалась.
– Кляузу будешь писать?
Стеша обиделась:
– Я когда-нибудь кляузничала?
– Тогда зачем тебе карандаш и бумага? Ладно, погоди, посмотрю.
Нюра ушла в избу и вернулась с карандашом и тонкой пачкой писчей бумаги.
– Вот тут Лялькины каракули. Не получалось что-то. А обратная сторона чистая. И карандаш хороший, целый. Вот ещё, погоди, – она раскрыла ладошку, – резинка, ластик. Напишешь кляузу, сотрёшь и опять напишешь, – она рассмеялась. – А что это ты про день рождения?
– Да ничего. У меня, сегодня. Спасибо тебе, Нюра.
– Поляну накроешь? – закричала Нюра вслед.
– Какую поляну?
– Какую… Полбанки хоть поставишь?
– А, конечно. – Стеша в нетерпении притопывала ногами, – вечером…
Она осторожно обломила ветку с яблоком и листвой, осторожно, чтоб не стряхнуть созревшее яблоко, поддерживая снизу ладонью, разместила ветку на розовой скатерти. Положила листок бумаги на кухонную доску и долго точила нож, чтоб очинить карандаш – грифель, знала она, должен быть длинным и острым.
Ну и что с того, что карандаш серый? Ты же знаешь, что яблоко красное. Если понимать, что рисуешь – то и получится.
Яблоко было не только красное. Оно было ещё жёлтое, синее, зелёное и фиолетовое. И очень круглое. Стеша не представляла, что предметы бывают такими объёмными и весомыми. А тень, оказывается, не тёмная, а почти такая же, как свет, только другая, с отражёнными воспоминаниями. А зелёные листики сворачиваются, тают, а потом опять чернеют, и всё это по каким-то правилам, указаниям, непонятным пока для Стеши, получается какое-то неведомое государство, чужое налаженное хозяйство, чужое, но гостеприимное – заходи, пожалуйста, будь как дома. Легко сказать…
Время шло, и свет из окна перемещался. Стеша вдогонку исправляла, стирала, портила, пока не догадалась, что всему своё время и можно взять другой листок и начать всё заново.
«Всё, как в жизни, – поражалась Стеша, – да нет, это и есть сама жизнь, где ж ты была раньше, дура старая…»
Под вечер зашёл за творогом культурный дачник, и Стеша не удержалась. Она вынесла рисунок и смущённо залепетала:
– Глядите-ка, Антон Петрович, какое у меня яблоко выросло в одночасье.
Антон Петрович взял рисунок, вытянул руку и прищурился.
– Вот здесь яблоко красное, а здесь – розовое-розовое, и немножко голубое. – Стеша азартно тыкала пальцем. – А листья…
Антон Петрович вздохнул.
– Сами рисовали? А красок, конечно, нет? Ну, ладно…
Он побрёл по дороге, помахивая творогом.
Вечером пришли гости – Нюра с Володей. Подарки принесли: бутылку «Амаретто», два сникерса и банку растворимого кофе «Нескафе».
– Пей, Степанида, американское кофе и будешь ты крутая, – гудел Володя.
Он недавно выкупил у колхоза пилораму и строил планы.
– Ну, да, крутая, – возразила Нюра, – теперь Амаретто со сникерсом принимают ханыги вместо портвейна и барбариски.
– Чего ж принесла? – улыбнулась Стеша.
– Портвейна теперь с огнём не сыщешь.
Стеша поставила на стол бутылку спирта «Royal»
– Это – другое дело, – обрадовался Володя. – Ветер перемен надо ловить в полный рост.
– Радуется бизнесмен, – ворчала Нюра, – погорит он со своей пилорамой, и к бабке не ходи…
Стеша прикрыла глаза и затихла.
– Да нет, Вова, – очнулась она, – всё у тебя будет хорошо.
– Вот! Вот! Не мальчика, но мужа! Нюрка! Девяносто третий год на дворе. Ельцин что сказал – берите, сколько можете унести!
– Сказал! То он про демократию. Народам. Этим… удмуртам.
– Теперь все удмурты! А демократия – это и есть деньги!
Володя развеселился окончательно и запел:
Дайте в руки мне тальянку,
Про любовь играть хочу.
Полюблю я итальянку, —
Эх, визу в Пизу получу!
– Охальник, – рассмеялась Нюра.
Это было действительно смешно, но Стеша только улыбнулась – она вдруг поняла, что смеяться хочет только от счастья.
На следующий день дачник Антон Петрович прислал с мальчишкой пакет. Стеша тут же на крыльце вынула из него коробку с ученическим набором масляных красок, две плотные белые картонки с зернистой поверхностью, и три кисточки – широкую, среднюю и совсем тоненькую, рыжую с острым кончиком. Мальчишка с любопытством рассматривал Степаниду.
– Выдавливать умеете? – спросил он.
Ночью Стеша разговаривала с репродукцией иконы Владимирской Божьей матери.
– Матушка, извини, что я с тобой не разговаривала, я не знаю, как полагается. Руки у меня не болят, и ноги у меня не болят, и спина у меня не болит, и живот. И душа у меня не болит. Не болела. Что делать? Я увидела, чего нет, чего не было, а оказалось – есть, и душа теперь неспокойна. Сделай так, чтобы у меня не болели хотя бы руки и голова…
С непривычки подбирать слова было так же трудно, как рисовать, только чуда в этом не было, и Стеша заснула.
2
В галерее, куда Плющ заглянул справиться о своих делах, у стены стояли несколько работ, написанных на оргалите, крашеном половой краской. Настоящий деревенский примитив без понтов, с удивительным чувством цвета, с нежной отвагой в композиции, с беззащитностью, вызывающей тревогу.
– Как вам наша начинающая? – похвастала хозяйка. – Настоящая бабка, из деревни. Готовый брэнд. Будем раскручивать.
Плющ не знал, что такое «брэнд», но он знал хозяйку – эти комсомольские работники крутить умеют, и только в свою сторону. Константин Дмитриевич решил съездить, посмотреть на гения чистой красоты и предупредить, рассказать хотя бы, как нужно защищаться. Он подъехал к избе на такси, деловито вытащил из багажника рулон бортовки и пачку реек для подрамников, и, приподняв шляпу, представился выглянувшей Степаниде.
– Плющ.
– Что? – не поняла Степанида и огляделась.
– Константин Дмитриевич. Можно просто Костик. Вы же старше меня.
Степанида измерила маленького наглеца взглядом, улыбнулась и повела в дом.
Приезд Плюща был похож на возвращение после недолгой разлуки. Стеша рассказала, как набрели на неё охотники за иконами, как осторожно охали, как отобрали небольшую пачку картинок и заплатили – целых сто долларов. Как потом приезжала девка и взяла на комиссию пять картин.
– Как ты думаешь, вернёт?
– Скорее всего, деньгами, – ответил Плющ. – Всё ясно, пойдём спать.
Он остался так естественно, что в селе никто не удивился. Нормальный ход. Повезло Стешке на старости лет. Мужичок хоть маленький, но рукастый, решительный и даже, порой, сердитый. Стешку гоняет – только так, заставляет мазать свои картинки, а сам – и дрова колет, и неполадки разные в хозяйстве поправляет. А у Стешки, похоже, и правда талант какой открыли – что ни день, машины подъезжают, иномарки, а маленький Дмитрич – Кот Котофеич, ведёт переговоры.
За два года рейтинг художницы Стеши – она так подписывала свои картины – поднялся до заметного: её имя шелестело среди галеристов и коллекционеров.
Доллары Стеша небрежно сбрасывала в жестянку с иголками и напёрстками. Плющ сколачивал подрамники, натягивал холсты, грунтовал – фабричным холстам он не доверял.
В творчество Стеши Константин Дмитриевич не вмешивался, давал иногда профессиональные советы – и то, если попросит. Много писал сам. Он затеял цикл «Сто портретов одной женщины» и так увлёкся, что перестал гонять Степаниду.
Здесь и нашёл его понимающий немец, владелец силикатного кирпича, отобрал три картины в обмен на дом. А у Стеши не купил ничего. Стеша порадовалась за Костика, но слегка обиделась.
В том, что немец не обманет, Плющ не сомневался: что-что, а такого рода чудеса случались в то время, и очень даже часто. Что особенного – у немца дела с городским начальством, и стройматериалы, скорее всего, ворованные.
Плющу так необходима была своя крепость, что он верил в неё.
Осенью в галерее у комсомольцев открылась персональная выставка Стеши. Куратор, Константин Дмитриевич Плющ, отобрал тридцать три работы.
Степанида не была в Москве лет десять, озирала с переднего сиденья великолепие лужковской архитектуры и охала. На ней был плащ, купленный Костиком в фирменном магазине.
Перед выездом, по настоянию Плюща, она долго мыла за ушами – «чтоб была у меня не хуже Наташи Ростовой». Накануне, ночью, она вновь разговаривала с репродукцией иконы Божьей Матери.
Стеша:
– Матушка, что ж получается. Всю жизнь провела в слепоте, света Божьего не видела, одни только хари. И сама – жила, как коза прости Господи, жевала только, от козы и то больше пользы. А теперь – и радость-то какая, да только вот куда попёрла? Зачем выставка? Кому? Это как исподнее показывать…
Репродукция:
– Дура ты, Степанида. Отчего ж не показать исподнее, если оно красивое, да целое, да не вонючее. Ты зла никому не делала, вот и сейчас никому не сделаешь, кроме добра.
Стеша:
– Так они же деньгами меня меряют, что я за человек, сколько стою. Будто я шлюха какая, или блядь.
Репродукция:
– А это не тебе решать. Может, ты всегда такая была, только не показывала.
Стеша:
– Да что с деньгами-то делать, если получу? И так вон – валяются.
Репродукция:
– Не боись. Деньги сами найдут применение. И себе, и тебе. Иди-ка ты, Степанида, спать. Утро вечера мудренее.
Войдя в зал и увидев свои работы – в рамах, мягко освещённые, Степанида ужаснулась: картины, как брошенные дети в казённой одежде, кинулись к ней со слезами – «забери меня отсюда». Стеша не была матерью и растерялась. Затем, оглядывая каждую, она увидела в них части своего тела, обнажённые и немытые. Какое уж там исподнее…
Богатый важный народ стоял кучками, бесшумные официанты с подносами виляли, как летучие мыши. Сверкали вспышки фотоаппаратов, телекамеры норовили подставить ножку – комсомолка расстаралась.
Плющ отстёгивался от Стеши, подходил к знакомым, беседовал на посторонние темы, не упуская из виду именинницу.
Стеша стремительно напивалась. Хозяйка поглядывала на неё с удовольствием: лыко было в строку, всё работало на имидж. Константин Дмитриевич встревожился – не дошло бы до откровенной потехи, и решил держаться поближе.
Комсомолка время от времени отводила Стешу в уголок, отнимала бокал с вином и наливала ей текилы, заставляла, на заграничный манер, слизывать с кулачка кислую соль.
На середину зала вышел осанистый хмырь, попросил внимания и стал говорить, одобрительно похлопывая Стешу взглядом, видимо, что-то хорошее. Ему поаплодировали, хозяйка вывела Стешу в круг и ткнула в бок: говори.
Стеша увидела перед собой множество лиц, – они были прекрасны, глаза их сияли любовью и уважением. Стешу же любовь и уважение к ним просто захлестнули, как порыв ветра в грозу. Она перевела дыхание и начала:
Во ку, во кузнице,
Во ку, во кузнице,
Во кузнице молодые кузнецы
Во кузнице молодые кузнецы…
Полная тишина была в зале, только звякнул бокал, и матернулся шёпотом официант.
Пойдём Дуня, во лесок, во лесок,
Сорвём, Дуня, лопушок, лопушок…
Выставка длилась три недели, и комсомолка была счастлива – ушло больше половины картин. Степанида, не представляя, что делать со свалившимся на неё богатством, вложила крупную сумму в «МММ» – финансовую пирамиду. Она не собиралась разбогатеть таким образом, – куда уж больше, – её очаровала рекламная фраза: «Из тени в свет перелетая».
Стеше было невдомёк, что это строка из серьёзного стихотворения серьёзного поэта, ей казалось, что эти слова – для неё и о ней.
Плющ сразу распознал лохотрон, но Степаниду было не свернуть, и он пошёл на хитрость: вернувшись однажды вечером из Москвы, он долго ходил мрачный, из угла в угол, и, наконец, поддался уговорам Стеши, признался. Да, он попал на бабки, и крепко, люди серьёзные, дали две недели, а потом – счётчик и перо в бок.
Стеша заплакала, кинулась ни свет, ни заря в Москву и деньги из пирамиды вытащила.
Слава Степаниды наливалась, как калина в сентябре, она и сама светилась, как калиновый куст на фоне облетающего леса. У неё появились пышные знакомства, она сутками пропадала в Москве, вернувшись, выбиралась из машины французскими сапожками вперёд, каблучки её оставляли на свежем снегу нелепые дырочки.
Константин Дмитриевич помрачнел, забросил свой портретный цикл и писал ностальгические приморские картинки. Несколько раз пытался поговорить со Стешей по-хорошему, убеждал, что он не может быть женой художника, но Степанида в ответ улыбалась и вновь пропадала. Она стала заметно худеть, и Плющ испугался, но оказалось, что это дело фитнеса, и диеты, и ещё хрен знает чего.
Односельчане дивились: Стешка теперь живёт в телевизоре, то в одном ток-шоу, то в другом, сидит в шляпке, а то и с полотенцем на голове, как турка, и плетёт, что ни попадя. Срамота и Котофеича жалко.
Там же, в недрах телевидения, завела себе Стеша любовника – юного губошлёпа, парикмахера с Николиной горы.
Однажды в конце зимы Стеша явилась с отвратительно морковной помадой на губах. Плющ не выдержал:
– Что ты скурвилась, это ладно. Что ты нарисовала динозаврика на лужайке – хрен с тобой.
– А что! На динозавриков, знаешь, как американцы западают!
Плющ зарычал, и тряпкой, пропитанной разбавителем, стал тереть Стешины губы.
– Но то, что ты потеряла чувство цвета – этого я тебе не прощу!
Степанида вырвалась и надула размазанные губы:
– Константин, нам надо расстаться. У меня есть бойфренд – он такой креативный! И это… брутальный!
– Твой пидар из тебя бабки сосёт. Вот и вся креативность.
– Всё равно! Я больше не могу заниматься с тобой любовью.
Плющ почесал затылок:
– А я с тобой – верой и надеждой! Фуцерша. Торгашка.
– Соцреалист!
В тот же день Плющ, наскоро увязав холсты, уехал в Кимры, в новый, холодный дом, пропахший цементным раствором и олифой. Уже на пороге вспомнил:
– Да, Степанида. Бабки, что ты мне дала на спасение, там, за репродукцией. И купи себе нормальную икону.
Ночью Степанида водила пальцем по наледи на стекле, продышала во льду оконце, повернулась к репродукции, загородившей пачку денег.
Стеша:
– Вот, матушка, и всё. Мне скоро шестьдесят, а я – хвост пистолетом. И человека хорошего потеряла. И чувство цвета. И – что ни нарисую – кляуза получается. А на селе – даже дети надо мной смеются. Художница от слова… Прости, Господи. А была ведь радость. Помнишь – яблоко?
Репродукция:
– Я, конечно, не знаю. Жизнь ты, конечно, прожила. Так живи теперь вторую, считай – повезло. Оторвись по полной. И с этой дырой пора завязывать. Деньги есть, купи что-нибудь в Москве. И, как хочешь, а писать надо побольше. Художник должен не только пить и кривляться, но ещё и работать.
Стеша:
– А чувство цвета?
Репродукция:
– Найди себе другое чувство. Например, композиции.
Стеша:
– Легко сказать…
Репродукция:
– Я, конечно, ничего не решаю… Но не боись, что-нибудь придумаем…
Степанида купила на Масловке мастерскую известного художника ушедших времён – наследники, новые американцы, продали её, не торгуясь.
Были ночные гульбища с участием звёзд шоу-бизнеса, с плясками и мордобоями, были соседи-художники, отворачивающиеся при встрече, были приступы раскаяния и отчаяния. Однажды священник раздражённо заметил:
– Что ж ты, мать. Вроде и храм посещаешь аккуратно, и образов, я слышал, понакупала, а разговариваешь с репродукцией. Ты уж определись.
Рынок, между тем, насытился Степанидой, появились новые герои и другие деньги. Степанида потеряла почву под ногами и много плакала.
Однажды, проснувшись позже обычного, она вспомнила, что ей стукнуло шестьдесят пять. Ожидания десятилетней давности – чего-то нового и чудесного – подступили было, но тут же истаяли, не случились. Она закрыла глаза. Появился звук, низкий, баритональный, стал голосом, произнёс что-то неразборчивое. Следом из угла возник другой, ещё один, – и скоро весь полумрак мастерской наполнился голосами. Они кружили и жужжали, как мухи, касались цепкими лапками рук и лица.
Степанида встала и раздвинула шторы. Слякоть и смог стояли на улице, тяжело дышали и нервно дёргались автомобили.
Стеша долго стояла у окна, пока ей не показалось, что она знает нечто, чего не знает никто. Выправив диплом и лицензию, она стала госпожой Стелой, ясновидящей.