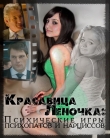Текст книги "Как мы росли"
Автор книги: Галина Карпенко
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Корь
Следом за Оленькой Орловой в изолятор попала Варя. Она уже несколько дней покашливала и чихала. Ночью в постели Варя мёрзла, и ей захотелось плакать.
– Ты чего? – спросила Клавка.
– Не знаю, – ответила Варя.
Тогда Клавка перебралась к ней в постель. Варя, всхлипывая, прижалась к Клавке, согрелась и уснула.
Утром Варю было не узнать: глаза у неё слиплись, лицо было покрыто красными пятнами.
– Ночью-то трясло её, – рассказывала Клавка.
– Вот теперь и ты заболеешь, – сказала Люба Сорокина.
– Это почему?
– Потому что заразилась, вот и заболеешь.
– Я не заражусь, – сказала Клавка.
Пришёл врач, осмотрел Варю.
– Ну что? – спросил его Чапурной.
– Опять корь, только в очень сильной форме, – ответил врач.
Варю закутали в одеяло, и Михаил Алексеевич сам понёс её в изолятор.
Оксана Григорьевна велела девочкам проветрить комнату.
– А Клавка сегодня спала с Варей, – сказала Сорокина.
– Она замёрзла, вот я и легла, чтобы согреть её. А тебе больше всех всегда надо!
Клавка так бы и стукнула эту Сорокину.
Оксана Григорьевна взяла Клавку за руку и догнала доктора:
– Доктор! Вот эта девочка, оказывается, спала с больной.
– Ты болела корью? – спросил доктор Клавку.
– Ничем я не болела! – Клавка правда не помнила, чтобы она чем-нибудь болела.
– Придётся последить за температурой. Больше сто же сейчас сделаешь? – сказал врач.
Клавка воспользовалась этим распоряжением: на другое утро отправилась в изолятор. Она долго сидела с градусником и, как только выходила сестра, заглядывала в стеклянные двери палат. Через стекло её увидели мальчишки и стали корчить страшные рожи. Мальчишки сидели в кроватях – они уже выздоравливали.
В крайней палате было полутемно, но рассмотреть, там ли Варя, Клавка не успела. Температура у неё оказалась нормальной, и её выпроводили. Клавка аккуратно мерила температуру в течение недели и только на седьмой день наконец увидела Варю. Варю остригли, и у неё были смешные круглые ушки.
– Теперь скоро вместе будем лежать, – сообщила ей Клавка.
– Почему? – удивилась Варя.
– Я скоро заболею. Я температуру меряю. Вот градусник – видишь, держу под мышкой.
Но Клавка не заболела. Заболела Люська. Клавка завидовала ей, что она будет вместе с Варей:
– Небось играют там, разговаривают…
А Клавку перестали пускать в изолятор и сказали, что температуру ей мерить больше не надо.
Кукла по ордеру
Гриша выздоравливал. Он ходил с палочкой и очень тревожился, что бабушке приходилось за ним ухаживать и кормить:
– Трудно это вам. На день бы я раньше приехал, и отправили бы меня в госпиталь. А тут вот дошёл до вас, тётя Феня, и свалился.
– «Было бы да было бы»! – сердилась бабушка. – Как есть, так и хорошо. Давай-ка лучше весну в дом пустим.
Гриша выставил зимнюю оконную раму. Бабушка поставила её за сундук и открыла окно. В окно хлынули нагретые солнцем запахи полураскрытых почек и первых листьев и ещё влажной, паркой земли.
– Воздух-то, воздух какой – благодать! Ты, Гриша, сядь к окошку, дыши! Тебе это очень хорошо, – сказала бабушка.
Было воскресенье, и к бабушке в этот день пришла Варя. Она тоже уже выздоровела, и у неё вырос на голове ёршик вместо прежних косичек. Варя разложила на подоконнике лоскутки и стала шить кукле платье, только не тряпочной «матрёшке», а настоящей кукле, которой у неё не было.
– Матрёшка безглазая! – горевала Варя.
– А ты пришей пуговки – будут глаза, – советовала бабушка.
– Что ты! Разве это глаза – пуговицы!
– Вот я буду ходить по городу, – сказал Гриша, – куплю тебе куклу.
Бабушка засмеялась:
– Теперь-то куклу? Где же это ты купишь? На Сухаревке не продают. В магазине только соль, спички, и то по карточкам. Какую там куклу…
– Мне хоть бы маленькую-маленькую! Ты, бабушка, не знаешь – может быть, где-нибудь и продают, – сказала Варя.
– Может, и продают, – сказала бабушка, – только мне что-то не попадались.
Через две недели, с трудом переставляя больные ноги, Гриша пришёл в военкомат. С ним беседовал командир. Гриша выхлопотал у него для Федосьи Аполлоновны карточку «Красной звезды», по которой давали паёк.
– Понимаете, она меня кормила, никого не беспокоила, – говорил Гриша. – Теперь получит – очень будет рада.
Командир выписал Грише направление в госпиталь – на поправку:
– Непременно на поправку, а потом поедете в часть.
Гриша сложил документы, поблагодарил, но не поднимался со стула.
– У меня к вам есть ещё одна просьба, – сказал он. – Может быть, она вам, товарищ командир, покажется странной. Понимаете, у Кирилиной есть внучка – дочь погибшего Кирилина. Она сейчас в детском доме, так что всё необходимое у девочки есть.
Командир по-прежнему внимательно слушал Гришу и недоумевал, почему разговор идёт о какой-то девочке. А Гриша, подбирая слова, объяснял ему свою просьбу:
– Понимаете, очень нужна кукла! Может быть, на базе найдётся? Я сам ей обещал, какая только найдётся.
– Я не знаю… может быть, и дадут, а может быть, руками разведут, – сказал командир, выписывая ордер. – Вы бы, товарищ, лучше себе сапоги попросили – ноги-то больные.
– Сапоги ещё вполне хорошие, и потом я сейчас не на фронте. А вам спасибо! – И обрадованный Гриша пошёл на базу получать по ордеру куклу…
– Меня, знаете, тётя Фенечка, наверно, за сумасшедшего приняли, – рассказывал он. – Когда ордер прочитали, глазам не поверили. Хорошо, одна девушка… славная девушка… побежала в подвал искать. «Где-то у нас, говорит, были игрушки, остались от Мюра и Мерилиза». Вот и нашла! – И Гриша подарил Варе куклу.
Красавица
Кукла была красавица. Когда Варя принесла её в детский дом, девочки целый день от неё не отходили.
– Мы все будем играть, все! – говорила Варя.
– Ты не давай её руками-то трогать, – наставляла Клавка, – пусть сидит.

Куклу посадили в подушки, и началась игра. Девочки шили для куклы платья, стегали матрасик, одеяло. Леночка Егорова была повариха. Она готовила обед для куклы, пекла пироги, украшенные камешками и толчёным кирпичом.
– Ой, подгорело! – кричала Леночка. И стряпуха шипела, представляя горячую плиту и раскалённые сковороды.
Словом, для куклы делалось всё, что только можно. Когда всё было сшито, сварено и испечено, решили для куклы показать спектакль.
– Я буду Оксана Григорьевна, – сказала Варя. – Сейчас мы устроим занавес и будем представлять.
И Варя, подражая Оксане Григорьевне, стала выпускать на сцену певцов, танцоров и рассказчиков.
Кукла не мигая глядела на артистов, которые, сменяя друг друга, старались ей угодить. Проявились таланты, каких никто и не знал. Когда очередь выступать дошла до Люськи, она не замотала, как всегда, головой и не стала говорить: «Ой, не буду, не буду!» – а тут же, всем на удивление, запела никому не знакомую песенку:
«Утя, утя, утушка,
Куда ведёшь детушек?» —
«Веду деток на лужок.
На песчаный бережок.
Будут в речке нырять.
Свою мать забавлять.
Поплывут рядком
Да за мной гуськом
По крутым волнам
Прямо в гости к вам!»
Пела она так хорошо – звонко и просто.
– Ещё, ещё спой! – стали её просить.
И она спела песенку ещё раз и ещё. Одна только Клавка сидела целый день сложа руки. Она не шила, не пекла для куклы пирогов, не пела ей песен. Но, если кто-нибудь хотел прикоснуться к кукле, Клавка набрасывалась, как коршун:
– Зачем цапаешь руками! Кто это тебе разрешил? Вот я тебе цапну!
Поздно вечером, когда все уже легли спать, Клавка спросила Варю:
– Как же её назвать?
– А я и забыла, – сказала Варя, – что мы её ещё никак не назвали. Завтра придумаем, дадим ей какое-нибудь имя.
– Зачем какое-нибудь! Её надо назвать так, как никого не зовут, – сказала Клавка.
Было ещё очень рано. Кукла лежала в корзиночке; она спала, закрыв глаза, и безмятежно улыбалась. Варя тоже спала. А Клавка давно проснулась и рассматривала куклу: кудрявая какая!
С опаской поглядывая на спящую Варю, Клавка потянула корзиночку к себе. Корзиночка накренилась, и кукла скользнула на пол. Клавка подняла её и… онемела. Вместо улыбающегося лица – фарфоровые черепки. Разбила!
Варя проснулась и глядела на Клавку:
– Что ты?
– Разбила! Буржуйская кукла, непрочная, – сказала Клавка.
Варя молчала. Плакать она не плакала. Но была у неё такая обида, которую и не выскажешь: кукла, о которой она столько мечтала, которую только во сне видела, – и вот одни черепочки!
– Голову-то ей можно новую приделать, – продолжала говорить Клавка.
И вдруг, чего Варя совсем не ожидала, Клавка заревела во весь голос. Эта разбитая кукла была перовой в жизни Клавки куклой, которую она держала в руках.
Варя убрала куклу под подушку, а потом унесла к бабушке и спрятала в нижний ящик шкафа, который бабушка почти никогда не открывала: там лежали папины книги.
Про Клавкину жизнь
Про Клавкину жизнь рассказывать грустно. Жила она прежде с матерью в фабричных казармах, в семейной спальне. У них была кровать, на которой они спали, и сундук, на котором они ели. Почти у всех жильцов были углы, загороженные занавесками; у них с матерью и такого угла не было.
Клавкина мать работала в красильном цехе. От неё всегда пахло щёлочью и чем-то кислым. Она была слаба здоровьем и всё жаловалась, что угорала на работе. Соседка по койке советовала ей:
«А ты стопочку выпей – захочешь поесть. Поешь и покрепчаешь».
Появилась стопочка, но мать здоровей не стала. После стопочки она лежала совсем пластом и с трудом поднималась, когда гудел гудок на смену.
Варить они не варили, всё всухомятку – хлеб, селёдка. Когда мать спала, Клавка надевала её башмаки и выходила во двор. Дальше двора Клавка не ходила.
Однажды утром мать не поднялась ни с первым, ни со вторым гудком. Приехала санитарная карета, и мать увезли в больницу. Кровать и сундук облили чем-то пахучим. В сундуке, когда его открыли, ничего не было.
У Клавки началась тяжёлая жизнь. Ела то, что дадут, сама не просила. Если мальчишки во дворе били, – давала сдачи: жаловаться ей было некому.
Что стало бы с Клавкой, – неизвестно, если бы с осени жизнь не переменилась. В октябре забрали фабрику рабочие, и хозяйский дом перешёл в их руки. В барский дом перевели из казармы семейных. В казармах остались только бездетные.
Взяла бы и Клавку какая-нибудь семья, да голод связал всех по рукам и ногам. Как взять ребёнка, когда нечем его кормить? И стали работницы хлопотать, чтобы Клавку устроить в детский дом.
Нехозяйственная была Клавкина мать. Собрали девчонку всей казармой: кто дал платьишко, кто чулки, кто рубашку – и отправили.
И всё-таки осталась у Клавки от матери память – ложка деревянная, на рыбу похожая, с ручкой, как рыбий хвост. Она с этой ложкой ходила чужие щи есть. Так и кричали:
«Клавка, иди со своей ложкой щи хлебать!»
Эту ложку она взяла с собой в детский дом: «Ну как дадут есть, а есть нечем!»
Лежала ложка у Клавки в тумбочке. Она иногда глядела на неё и опять прятала, но показывать – никому не показывала…
– Варя, – сказала однажды Клавка, – я тебе хочу что сказать. У меня вот есть одна вещь, возьми её себе.
– Зачем мне ложка… какая-то облезлая? – удивилась Варя.
– Это краска на ней была, – сказала Клавка.
– Да на что она мне? Что я с ней буду делать? Ты её зачем бережёшь? Откуда ты её взяла?
Клавка посмотрела на ложку и вспомнила, как одна, без матери, этой ложкой ела и как её завёртывала в платок и играла, будто куклой.
– Возьми, – сказала Клавка, – а то я обижусь.
И она спокойно, как будто бы не о себе, рассказала Варе про свою жизнь.
– А я и не рассмотрела, – сказала Варя, – что ложка на рыбку похожа. Видишь, плавничок… ещё жёлтенький. Совсем золотая рыбка. Пусть, если хочешь, она у меня поживёт.
– Нет уж, бери насовсем, – сказала Клавка. – Только не думай, что я тебе её за куклу даю. А знаешь зачем? Чтобы дружить на вечную жизнь.
Персик – акробат
Черноглазый Персик давал представление. На полу были положены матрацы, а зрители сидели вокруг, как в цирке.
Персик не помнил ни отца, ни матери. Все его прошлое сливается только с воспоминаниями о шарманке и хозяине. Встают ли в памяти далёкие дни жаркого, пыльного лета или зябкой осени, они непременно вспоминаются вместе с хриплыми песнями шарманки. И где-то в вышине – далёкое небо, а до неба, как горы, стены домов и окна, много окон.
Окна раскрыты, пока поёт шарманка, пока Персик кувыркается на маленьком грязном коврике. Но, как только он берёт в руки войлочную шляпу хозяина и протягивает её к зрителям, окна захлопываются. И редко из какого-нибудь окна упадёт завёрнутый в бумажку медяк.
Персик не только акробатничал – он умел корчить уморительные гримасы и пел песни с непонятными словами. Персик был артист.
За свою маленькую жизнь он успел вкусить достаточно горечи, которая, как ржавчина, покрыла его нерадостное детство. Он лгал и воровал так же легко, как и кувыркался. Чапурной краснел, когда уличал Персика во лжи.
«Я же велел тебе пройти рубанком три раза, а ты что?»
«Пять раз прошёл, честное слово! – отвечал Персик. – Даже мозоль, наверно, вскочит – очень жёсткое дерево».
«Возьми рубанок!» – говорит Чапурной.
Персик брал рубанок, и мягкие стружки падали на пол.
«Жёсткое дерево»! Всю жизнь, брат, не прокувыркаешься!»
Персик строгал, поглядывая на Чапурного, и, если попадался в доске сучок, старался сменить доску на другую, только так, чтобы никто не заметил. Строгать без сучка легче.
Чапурной поглаживал рукой обструганные доски и говорил с досадой:
«Вот чёрт! Не могу я сам рубанком работать одной рукой. Вы равняйтесь по Колиной доске. Смотрите – гладкая, как шёлк. А почему? Потому что он ровно берёт, у него нажим ровный, он легко работает».
«Молодец! – хвалил Колю Ведерникова Чапурной. – Мастеровой человек – золото. Вырастешь – будешь красным директором. Знаешь, что такое директор?»
«Нет. Я, дядя Миша, буду столяром, как папанька. Я, когда вырасту, построю карусель с музыкой, чтобы всех ребят катали, и не за пятак, а сколько кому хочется – вволю!» – говорил Коля Ведерников.
«Можно и карусель, – соглашался Чапурной. – Когда ты вырастешь, прекрасная будет жизнь, скажу я тебе!»
Персик кувыркался ловко. Тело у него маленькое, гибкое. Перевернувшись в воздухе. Персик вставал на ноги и прищёлкивал языком и пальцами.
– Ну-ка, ещё, ещё! – кричали в восторге мальчишки.
А Персик, ободрённый успехом, показывал всё новые и новые штуки. Вот он обошёл круг на руках, а потом вдруг, будто его сложили пополам, завертелся на месте. Не поймёшь, где у него голова, где ноги.

– У тебя кости все поломанные. И как ты живой? – удивлялся Наливайко.
– Почему поломанные? Все целые – щупайте! – Персик протянул Наливайко свою тонкую руку.
Наливайко щупал у Персика руку: мальчишки следили молча.
– Хрящики, – сказал Наливайко. – Мне дед говорил – акробатам в цирке непременно кости ломают: хрясь, хрясь! – и готово. Я вот ни за что не согнусь, потому что кости у меня все целые.
Наливайко стал на четвереньки и, пытаясь согнуться, как Персик, тяжело плюхнулся на живот. При этом действительно что-то хряснуло.
– Ни за что не согнусь! – сказал он.
И, считая, что доказательств достаточно, Наливайко поднялся с пола вспотевший, красный. А Персик разбежался, подпрыгнул и сделал такое сальто-мортале, что ребята только ахнули.
Они так увлеклись, что не заметили Чапурного, который всё время стоял в дверях и тоже любовался Персиком.
«Надо бы им гимнастикой заниматься, – рассуждал Чапурной. – Разве это дело? Наливайко такой рослый парень, а еле шевелится. Персик – ничего не скажешь – ловок!»
Михаил Алексеевич старался подмечать, кому из ребят что по душе. Он помогал Коле Ведерникову мастерить всё, что тот задумывал: и мельничку и пароход. Федю Перова он сам отвёз к профессору, чтобы тот определил, учить мальчика музыке или нет.
«Разумеется, учить», – сказал профессор и взял Федю в школу при консерватории.
Вот и этот – ну до чего ловок парень!
– «Ай бал-хара-бал рамина»! – пел Персик, мягко ступая по кругу и взмахивая руками, как птица, которая собирается взлететь. Но вот он остановился и, выждав мгновение, закружился, выбивая ногами чечётку и ударяя в такт ладошами.
– Бал-ра мина! Бал-ра мина! – Ребята, которые, видели этот номер не раз, подпевали ему и хлопали.
Чапурной тихо отступил от двери, он не хотел мешать Персику: кто его знает – может, не захочет мальчишка при нём показывать своё искусство. Отступив назад, Чапурной вдруг встретился с Персиком взглядом. Но Персик, как истый артист, не нарушая ритма танца, улыбнулся, откинул назад голову, снова распластал руки и полетел опять по кругу, едва касаясь носками пола.
– Бал-ра мина! – пели ребята. – Бал-ра мина!
Чапурной, никем больше не замеченный, прикрыл за собой дверь, а представление продолжалось.
Васька учится ходить
В большое окно светило яркое солнце. Под окном стояло корявое дерево, и на его ветвях из коричневых почек выглядывали молоденькие зелёные листочки.
Васька ел манную кашу. Он был очень слаб и сидел в подушках. Кормила его сестра, Агриппина Петровна.
– Доедай, не оставляй свою силу. С завтрашнего дня будем учиться ходить.
– Я умею ходить! – обиделся Васька. – Ног у меня, что ли, нет!
– Умеешь, умеешь! Вот погляжу, как пойдёшь. – Агриппина Петровна собрала тарелки и вышла из палаты.
Сколько Васька лежал в госпитале, толком он не знал. Рядом с ним лежал на койке красноармеец Бочаров, раненный в руку. Он тоже лежал давно, и всё же, когда он прибыл, Васька был уже в госпитале – так говорили няни и сёстры.
Рука у Бочарова не заживала, рана гноилась, и палатный доктор, перевязывая его, каждый раз говорил:
«Нам бы к питанию кое-чего, и рана бы затянулась. А резать тебя бесполезно. Держи свою руку на солнышке».
И Бочаров теперь с утра выходил в сад.
Васька смотрел в окно, щурился на солнце, завидовал Бочарову и думал: «Хорошо бы сейчас сыграть в чижика!» Он с ребятами всегда весной на фабричном дворе играл в чижика. Васька размечтался: «Вот выздоровлю, настрогаю чижиков…»
Когда в палату вошёл для обхода доктор, Васька спал, сидя в подушках. Будить его не стали. Доктор посмотрел на него и велел открыть форточку, а Ваське полотенцем прикрыть голову, потому что он влажный, – как бы не продуло.
Через несколько дней Васька стал подниматься.
– Ну, есть у тебя ноги? – спрашивала его Агриппина Петровна.
Васька стоял и держался за кровать – шагнуть боялся.
– Ну, говорила я тебе – кашу надо есть!
Агриппина Петровна сначала его водила. Через день Васька бродил, держась за стены. А уже потом сам ходил по палате, по коридору и даже по лестнице.
– Скоро будешь играть в чижика, – говорил, глядя на него, доктор.
Он знал Васькины заветные мысли, знал даже и то, о чём Васька ему не рассказывал. Знал доктор и про то, как в метель спешил красноармейский отряд в село, где творили расправу белобандиты над бедняками и коммунистами. Из этого села и бежал Васька куда глаза глядят. Упал тогда Васька, и замело его снегом. Только, видно, его счастье – не проскакали мимо красные конники: заметили, подобрали.
«А парень-то знакомый», – сказал Чебышкин, к которому Ваську положили на повозку.
Когда Ваську оттёрли и внесли в дедову избу, комиссар Степан Михайлович спросил:
«Ну, бабкин внук! Что же ты в снег зарылся?»
«А я за вами бёг, – ответил Васька. – Они деда-то…»
А дед, кряхтя на печи, заступился за Ваську:
«Тут не только в снег зароешься – в землю живьём ляжешь, если их власть будет. Хорошо, вы поспели: спалили бы они нас».
«Почему же ты за нами бежал? Может быть, мы за сто вёрст были?» – не унимался Степан Михайлович.
Васька не знал, что отвечать. Он был счастлив!
«Глядите, – говорил Васька, – варежка-то только одна. Другую я потерял, когда бежал, что ли?»
«Эх ты, варежка! Поскачем обратно – десять найдём вместо одной. Десять вырастут», – шутил Степан Михайлович.
С тех пор Васька не отставал от комиссара ни на шаг. Только в бою расставались, а пока шёл бой – Васькино сердце, того и гляди, выпрыгнет, разорвётся! Страшно ему за Степана Михайловича. Он впереди всех, каждая пуля в него угодить может. Но на войне часто расстаются люди. Чуть было не расстался и Васька с комиссаром, а случилось это так.
Комиссаров приёмыш
Далеко, среди тамбовских лесов, на берегу реки, заночевал тогда отряд Красной Армии. Крепко спали красноармейцы на мякине в большой риге. Мякина – как перина. Морозы мартовские, последние, а прихватывает здорово. Сколько ночей на ветру, а тут такое прикрытие!
И Васька на мякине под чужой шинелью спал крепко, спокойно и видел сон, хороший сон.
Синело небо, уходила ночь.
Часовые ждали, когда придёт смена: прозябли, и клонило ко сну.
Вдруг загудел за рекой набат. Часовые за винтовки – тревога!
Набат гудит. Далеко село, на том берегу, а видно, как закраснелось сначала в одном конце, потом в другом и вспыхнуло на рассвете зарево пожара.


За рекой стрельба, пламя всё ярче. Жутко Ваське – зарылся в солому. Колючая солома, холодная… Хоть бы кто остался! Никого.
«Не пропаду, – думал Васька. – Кончится стрельба – побегу догонять. Только… кто там за рекой останется? Неизвестно, свои или чужие? Кто победит в бою? На войне по-всякому бывает».
Только к вечеру спустился Васька к реке. За рекой было тихо, выстрелов не слышно, и пожар погас – темно…
Васька пробежал по льду и узенькой тропочкой от проруби поднялся на крутой берег. От речки шли огороды, погреба, риги, а уже за ними дома.
Вот крайний дом – большой, крыша железная, сад кругом. Забор высокий, тропка от реки идёт к саду. Пошёл по ней и Васька. Притаился. Слышит – за забором голоса. Мальчишки спорят. Мальчишки – это не страшно, у них и спросить можно, кто в селе. Смотрит Васька в щель: правда, мальчишки. Сидят на корточках, шепчутся. Встал Васька во весь рост и тихонько свистнул. Мальчишки – врассыпную, а на снегу остался убитый человек.
– Чей ты? – Это мальчишки перемахнули обратно через забор и насели на Ваську. Они держали его кто за ноги, кто за руки. – Говори, чей?
– Дальний.
– Чей дальний?
– Пустите, один я… Ну!
– Драться будешь?
– Нет.
– А орать?
– Нет.
Мальчишки отпустили Ваську, только один продолжал держать его за руки и шёпотом продолжал допрос:
– Ну, говори!
– Московский я. Отстал от своих, – отвечал Васька.
– А не врёшь?
– Зачем мне врать!
– Докажи, что московский.
– А ты пусти руки!
– Зачем?
– Увидишь!
Мальчишка отпустил Ваське руки, а остальные придвинулись теснее, чтобы, если побежит, тут его и схватить. Но Васька не побежал: он шарил у себя за пазухой и не находил, что искал.
– Ну!
Васька чуть не заплакал от досады: растяпа, потерял!
– Звёздочку потерял – комиссар дал. Я её завернул и потерял.
Мальчишки смотрели на Ваську с недоверием. Какой комиссар, какая звёздочка?
– Проваливай-ка лучше, откуда пришёл!
– Мне отряд нужен. Комиссар Степан Михайлович. Некуда мне проваливать! – крикнул Васька.
– Тихо, ты! – сказал мальчишка, который допрашивал. – Давай пособи нам, а потом разберёмся, знает ли тебя Степан Михайлов-то.
И мальчишки, а с ними Васька подошли к убитому.
– Учитель наш… не поспел твой комиссар. Нам его хоронить надо – ну-ка опять бандюги вернутся, – а ты, чёрт, помешал!
– А где же захоронить, как?
– «Как, как»! Подсобляй!
Ребята вместе с Васькой подняли тяжёлое тело.
Молча несли мальчишки своего учителя. Ни разу не опустили его на землю, донесли до места.
– Ну вот, – сказал паренёк, который шёл впереди. – Теперь я слезу вниз, а вы спускайте, только разом.
Он спрыгнул в ямину и крикнул оттуда:
– Подавайте!
– Держишь, Серёжка?
– Держу.
И маленькие руки бережно опустили в могилу дорогого им человека.
– Большая ямина-то! Ничего, закидаем, не найдут!
…Сняли мальчишки шапки, постояли и пошли обратно.
Серёжка повёл Ваську в свою избу.
– Зачем привёл? – ворчала Серёжкина мать. – Нешто теперь в избу чужих водят?
– Не гуди! Ты бы лучше щей дала, чем гудеть-то, – сказал Серёжка.
Когда похлебали щей. Серёжка велел Ваське лезть на полати.
Утром Серёжкина мать стала расспрашивать Ваську:
– Чей, откуда? Как-то тебя мать отпустила!
Васька молчал.
– Вот растишь вас, растишь, а сынок о матери и думать позабыл! – причитала баба.
– Я не позабыл, – сказал Васька, – а матери у меня нету.
– Тогда поживи, не обидишь! Может, и у Серёжки отца не будет.
– Почему это не будет? – Серёжка хмуро посмотрел на мать. – Чего ты всё каркаешь?
– А ну как убьют? Война…
– Всех не убьют. Если таких, как отец, поубивают, кому тогда жить оставаться? – Серёжка покачал головой и сказал: – «Убьют, убьют»! Эх, бабы!
Он был постарше Васьки года на два, и мать относилась к нему уже как к взрослому.
– Затопляй, – сказал он матери, – я дров наколю.
Серёжка взял топор, и они пошли с Васькой во двор.
Серёжка рассказал Ваське, что отец его в Красной Армии, а в революцию был в Питере, откуда и прислал им с матерью письмо, что уходит на фронт защищать революцию. А в какую сторону ушёл воевать, не написал.
– Теперь вот жди его, когда объявится: А в деревне совсем мужиков нет. – Серёжка взмахивал топором и ловко колол полено за поленом.
Васька подбирал наколотое и складывал рядком, как указал Серёжка.
Уже давно топилась в избе печь и Серёжкина мать проходила не раз по двору то с ведром, то с плетушкой, а Серёжка с Васькой продолжали работать и разговаривать.
Но вот хозяйка вышла на крыльцо и крикнула:
– Идите в избу!
И ребята пошли обедать.