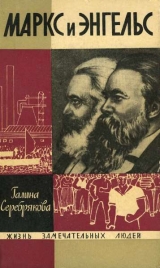
Текст книги "Маркс и Энгельс"
Автор книги: Галина Серебрякова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 53 страниц)

Макет памятника Карлу Марксу (работа скульптора С. Алешина)
Угроза отступничества, возникшая в немецкой партии в канун принятия ее новой программы, заставила Энгельса выступить резко против оппортунистов и отчитать их. Энгельс предложил опубликовать бессмертный труд Маркса «Критика Готской программы» в теоретическом журнале германской социал-демократии «Новое время». Но такой силы взрывной заряд таился в гневном и пророческом документе умершего вожди, что это предложение вызвало сопротивление у части колеблющихся и трусливых руководителей партии.
Каутский, бывший враг учения Маркса, принявший, однако, позже марксизм, на деле оказался двоедушным.
Маркс в «Критике Готской программы» вконец уничтожал иллюзии последователей давно умершего Лассаля, сблизившегося некогда с Бисмарком, к объяснил, что такое диктатура пролетариата и переход общества к коммунизму.
Только угроза Энгельса напечатать гениальный провидческий труд Маркса в Вене принудила взбешенного Каутского опубликовать его в редактируемом им журнале.
«В № 17 «Neue Zeit» появится нечто вроде бомбы, – писал Энгельс за океан другу Зорге, – критика Марксом проекта программы 1875 года. Ты будешь обрадован, но кое у кого в Германии это вызовет гнев и возмущение».
Так оно и случилось. Неумирающие слова Маркса вызвали панику и растерянность у одних, негодование у других.
На закате своих дней Энгельс стал всемирно знаменит. Даже самые лютые враги его идей отдавали должное его уму и таланту.
Во всех передовых партиях мира он был признанным вождем, не менее дорогим и влиятельным, чем его покойный друг. И все же именно в родной Энгельсу немецкой социал-демократии попытались пересмотреть Марксово учение и восстановить культ Лассаля. Более того, Каутский в своем журнале напечатал статью, очевидно принадлежащую перу Либкнехта, который, как это было уже не раз, подпав под влияние отступников, невразумительно оповестил мир, что германские социалисты вовсе не марксисты и не лассальянцы, а просто социал-демократы. Защищая основы принятой в Готе программы, ошибки которой яростно обличал в своей «Критике» Маркс, Либкнехт отстаивал воззрения, чуждые науке о революции, созданной двумя гениями.
В эти же дни один депутат от социал-демократии заявил с трибуны рейхстага, что его партии не разделяет взглядов Маркса на диктатуру пролетариата.
Великий сердцевед, Энгельс не удивлялся, когда обнаруживал приспособленчество, трусость, расчетливость в людях. Не всякому дано пронести по жизни чистый свет души. Быть верным идее трудно, когда; она обрекает на опасности, унижения, безвестность, а то и гибель. Подобно Марксу, Энгельс любил трудности и препятствия. Встречая рискованный барьер на конном пути, оказавшись в неравной схватке на поле боя, как это часто бывало в пору революции 1848 года, столкнувшись с головоломной стратегической задачей, в пылу спора он ощущал прилив живительных сил и рвался вперед, чтобы, все преодолев, победить.
Научный социализм, которому вместе с Марксом он положил начало, нашел в Энгельсе не только творца, но и бдительного воина. Видя, что одной бомбы, столь мощной, как «Критика Готской программы», оказалось недостаточно и сторонники предательства и сговора с врагами продолжают настаивать на своем, Энгельс послал новый снаряд, свое «Введение к брошюре «Гражданская война во Франции». В этой статье он разбивал сторонников суеверного почтения к государству и власть предержащим, которое оказалось присущим не только буржуазии, но и отдельным рабочим. Энгельс подчеркнул, что государство – эта машина для подавления одного класса другим и для демократической республики служит, по сути, тем же, чем и для монархии. Соединенные Штаты стали тому ярким примером. Там, по мнению Энгельса, банды политических спекулянтов, попеременно забирая государственную власть, эксплуатируют ее ради грязных целей самым бессовестным образом. Из слуг общества представители государственной власти превратились в повелителей народа.
Отступникам, надеявшимся на то, что буржуазное государство постепенно врастет в социализм, Энгельс противопоставил деятелей Парижской коммуны и созданное ими пролетарское государство.
«…рабочий класс… – писал он, – дабы не потерять снова своего только что завоеванного господства, должен, с одной стороны, устранить всю старую, доселе употреблявшуюся против него, машину угнетения, а с другой стороны, должен обеспечить себя против своих собственных депутатов и чиновников, объявляя их всех, без всякого исключения, сменяемыми в любое время».
Многочисленные товарищи по партии восторженно приветствовали выступления Энгельса, в то время как другие не скрывали своего раздражения. Это мало беспокоило Энгельса Он шутил, что подобные булавочные уколы не способны пронзить его хорошо дубленую выносливую кожу.
Под воздействием Энгельса на германском партийном съезде в Эрфурте Бебель отважно сразился с недругами и отразил их наскоки. Новая программа партии благодаря Энгельсу выгодно отличалась от прежней, но все же была не без изъяна, так как умалчивала о диктатуре пролетариата.
Рабочие Соединенных Штатов Америки прислали несколько тысяч долларов бастовавшим печатникам Германии. Интернациональный сбор помог французским пролетариям города Кармо добиться уступок от хозяев. Одиночество и обособленность рабочих навсегда кончились. Деяния I Интернационала, семена, брошенные им, густо взошли. Хотя французские поссибилисты, английские и бельгийские реформисты всячески пытались расколоть и повести за собой рабочее движение, им не удалось противостоять созыву II Международного социалистического конгресса.
Энгельс, зная, что политическая борьба, как бое сражение, может внезапно обернуться разрушительным бедствием, старался сберечь силу своего воинства и добыть ему победу.
Видя, как ловко оппортунисты срывают невыгодную для них международную встречу рабочих и стремятся, как это было в 1890 году, созвать свой особый съезд, Энгельс предложил слияние двух конгрессов на строго определенных условиях. Он был убежден, что колебания многих делегатов на таком форуме будут развеяны его единомышленниками. Энгельс отмечал, что если удастся объединиться, то на турнире идей и французские марксисты легко докажут ошибочность взглядов поссибилистов.
Когда слияние произошло, Энгельс решил собрать на предстоящем конгрессе как можно больше сторонников учения Маркса.
В марте 1891 года появилось первое воззвание о созыве конгресса в Брюсселе, на который приглашались все без исключения рабочие и социалистические партии, объединения и группы.
Второе вече нового Интернационала открылось в тихом, благонравном Брюсселе светлым августовским утром. Представители 15 стран, гости, журналисты не уместились в зале Народного дома. Пришлось перенести заседание в другое помещение. Руководитель французских поссибилистов Брусс не приехал, так как понял, что проиграл политическую игру, не явился из Англии и пронырливый Гайндман. Самой большой была делегация Бельгии, но ее руководители, желавшие правительственных реформ, а не революционной борьбы, так и не осмелились выступить.
Вместе с депутатами немецкой социал-демократии прибыл в Брюссель Фридрих Лесснер. От России не было ни марксистов, ни народовольцев. В докладе, присланном заболевшим и оставшимся поэтому в Женеве Плехановым, говорилось:
«Мы расчистили почву для научного социализма… Мы поставили себе в обязанность покрыть всю Россию сетью рабочих обществ… До того момента всякое представительство русской социал-демократии было бы фиктивно».
На следующий конгресс русские товарищи обязались прислать представителей пролетарских организаций своей родины.
Цель, поставленная Энгельсом перед единомышленниками, была четкой и ясной: конгресс, объединивший представителей различных рабочих организаций, должен дать отпор анархизму, остановить соглашательство, помочь профсоюзам и другим пролетарским обществам стать в ряды марксистов.
Жестокий спор возник из-за того, как следует относиться к милитаризму. Настаивая на тесном международном общении рабочих, Либкнехт пылко возгласил:
– Врагом немецких рабочих являются не французские рабочие, а немецкая буржуазия, врагом французских рабочих являются не немецкие и английские рабочие, а буржуазия их собственной страны.
Либкнехт предрек, что грядущая война будет губительна для всего мира и принесет неисчислимые бедствия.
– Пролетариат, который несет знамя культуры, должен позаботиться, чтобы помешать этому, – закончил он и тут же предложил заявить совместно, что только социалистический строй, уничтожив подавление человека человеком, сможет положить конец милитаризму и обеспечить мир.
Брюссельский конгресс, несмотря на некоторые теоретические и практические просчеты, порадовал Энгельса.
– И принципиально и тактически мы одержали победу, – сказал он друзьям.
Еще раз на деле сказалась могучая сила атакующего марксистского слова.
Следующий конгресс II Интернационала намечено было созвать в 1893 году Энгельс намеревался сам побывать на нем. Он рассчитывал к этому времени закончить в основном то, чему подчинял вот уже восемь лет распорядок всей своей жизни, – редактирование и подготовку к печати значительной части литературного наследства Маркса
В эту же пору Энгельса постигло еще одно большое горе – в Манчестере скончался от рака Карл Шорлеммер.
Шорлеммер принадлежал к поколению первых коммунистов, хотя был моложе Маркса и Энгельса. Если бы оптимизм, трудолюбие, глубокий ум и талант могли продлить человеческую жизнь, Шорлеммер жил бы более столетия. Только мучительный недуг смог изгнать его из научной лаборатории
Узнав о смерти друга, Энгельс тотчас же отправился в Манчестер От имени правления Германской социал-демократической партии он возложил на его могилу венок с красными лентами.
Вернувшись домой, Энгельс написал некролог, посвященный памяти выдающегося химика и верного партийного товарища, и поместил его в газете «Вперед» на их общей родине.
Жизнь не давала вождю рабочих погружаться в скорбь Она звала его к действию.
На Международный конгресс горнорабочих в Лондон прибыла делегация немецких горняков и явилась на Риджентс-парк-род, чтобы повидаться с Энгельсом. Беседа была значительна, она касалась положения немецких шахтеров, борьбы за их экономические и политические права.
Лето – бурное время в Англии. Пока королевская семья тешится балами и раутами и высший свет подражает в этом двору, парламент до роспуска обсуждает предложения правительства и в стране начинается горячка избирательной кампании Энгельс, внимательно наблюдая за ходом выборов в английскую палату общин, отмечал растущее влияние независимых рабочих депутатов. Их успех казался ему предвестником создания самостоятельной политической рабочей партии.
Как всегда, борющийся мир был постоянно в поле зрения Энгельса. Датский социал-демократ сообщал ему о состоянии рабочего движения на его родине. Итальянский революционер Лабриола подробно описывал все, что относилось к подготовке Генуэзского учредительного съезда партии итальянских трудящихся. Энгельс сурово раскритиковал Каутского, который в угоду примиренцам с буржуазным общественным строем выбросил из статьи Эвелингов, опубликованной в журнале «Новое время», разделы, обнажавшие политические пороки фабианского общества.
Супругов Вебб и их приверженцев, по мнению Энгельса, объял жестокий страх перед грядущей пролетарской революцией, и они стремились предотвратить создание рабочей партии в Англии. По просьбе Лафарга Энгельс подсказал ему многое для выступления в палате депутатов. Как требовательный учитель, оценивал он выступления Бебеля, Либкнехта и супругов Эвелингов.
Приходил Степняк-Кравчинский, интересный собеседник и добрый спорщик. Его симпатии к народовольцам, обанкротившимся в России, вызывали не раз упреки Генерала, которому, однако, нравилось, что русский писатель, возражая, давал ему повод к резким отповедям и размышлениям вслух.
После долгого перерыва к Энгельсу снова наведался Максим Максимович Ковалевский. Энгельс обрадовался возможности отдаться священным воспоминаниям о тех, кого давно уже не было в живых, основательно выспросить приезжего из России.
Ковалевский еще больше располнел, стал весьма громоздок и казался былинным великаном Его низкий и звучный голос, даже когда он говорил шепотом, разносился по всем трем этажам дома
– Сущая иерихонская труба, никак не гожусь я для конспирации; не вышел для этого ни комплекцией, ни речевым аппаратом, – шутил он сам над собой. Его большое, как бы высеченное из дерева, по-своему красивое лицо впечатляло умным и добродушно-насмешливым выражением. Разносторонне образованный и на ходу подхватывающий высказанную кем-либо мысль, он, однако, был несколько легковесен в философских суждениях, но сохранял редкое свойство: никогда не подавляя собеседника, он умел вдохновить его и подтолкнуть на глубинные обобщения. Сам Ковалевский тогда превращался в жадно внимающего слушателя.
Нельзя было в эту пору говорить о великой северной державе без того, чтобы не вспомнить о голоде, который обрушился на нее. Как средневековая чума, опустошал недород Россию. Гибли люди, разрушалось земледелие, падал скот, тощала земля без удобрения. И не было конца горю и бедствию народному. Начинался неизменный спутник неурожая – тиф. Помещики наживались, продавая по мародерским ценам голодающим крестьянам сухую ботву от картофеля.
На мрачном темном фоне страдающей от голода России ярче светилось протестующее слово смельчаков революционеров. Все духовно живое, лучшее сплачивалось в борьбе за низвержение царской тирании Народники и марксисты решали вопрос о временном союзе и совместных действиях. Вожаки рабочего движения в других странах внимательно наблюдали за всем происходящим в России и пытались способствовать такому сближению передовых революционных отрядов. Одним из сторонников объединения был народоволец публицист Русанов, коротко знавший Лафаргов, Бебеля и Либкнехта. Его статьи под псевдонимом Сергеевский печатались в газете немецких социал-демократов «Вперед».
Весной 1892 года Русанов прибыл в Лондон и тотчас же отправился к Энгельсу. Его встретила Каутская и ввела в кабинет, где за столом, попивая из больших глиняных кружек эль, сидело несколько мужчин, разговаривающих вперемежку по-немецки и по-английски. Луиза Каутская села у окна, за круглым столом и принялась разбирать бумаги и письма.
Один из присутствующих, с энергичным лицом, обрамленным седой большой бородой, поднялся с места, подошел к Русанову и, крепко встряхнув, пожал его руку.
– Я Энгельс… – сказал он по-английски и спросил, на каком языке предпочитает говорить посетитель.
Неожиданно для самого себя Русанов, который не только не был марксистом, но скорее враждовал с учением о пролетарской революции, почувствовал неодолимое желание высказать свое огромное почтение Энгельсу. Перед Русановым стоял человек, принадлежавший истории на вечные времена. Это освещало его особым внутренним светом. Простой, как все, Энгельс был, однако, в чем-то главном другим.
– Гражданин Энгельс, – сказал Русанов по-французски, – позвольте русскому социалисту выразить чувство искреннего восхищения человеком, который был достойным другом великого Маркса и который до сих пор является духовным главой социалистического Интернационала… В вас я вижу живое продолжение, вижу воплощение Маркса…
Энгельс засмеялся и остановил Русанова резким жестом.
– Та-та-та, молодой товарищ! Полноте, к чему этот обмен любезностями между нами, социалистами? Нельзя ли проще? У вас горло должно было пересохнуть от этого ораторского упражнения… присаживайтесь-ка к столу и промочите его вот этой кружкой эля.
Растерявшемуся Русанову пришлось подчиниться. Энгельс настойчиво допытывался у него обо всем, что было известно русским о голодающей России. Он хвалил в пику «политическим романтикам», как он назвал группу Лаврова, к которой примыкал и Русанов, подлинно социалистическую полезную деятельность Плеханова и его друзей.
– Для вас, русских, – заметил между прочим Энгельс, – политическая экономия все еще абстрактная вещь, потому что до сих пор вы не были достаточно втянуты в водоворот промышленного развития, которое выбьет из вашей головы всякий отвлеченный взгляд на ход экономической жизни… Теперь это положение вещей меняется… Шестерня капитализма уже крепко врезалась местами в русскую экономику… Но вы в большинстве случаев не отказались еще от архаических понятий… Впрочем, повторяю, это не ваша вина, сознание отстает от бытия…
Энгельс интересовался распространением идей Маркса в России. Русанов рассказал ему о своем пути революционера.
– И однако, вы не с Плехановым, – с легким раздражением вставил Энгельс.
Энгельс с шутливой серьезностью заговорил о том, что Русанов так и не постиг марксизма.
– Право, не поймешь вас, русских: у вас, должно быть, в мозгу перегородки. Тот же самый человек умен в одних вещах и… – Энгельс примолк.
– Не стесняйтесь, гражданин, – совсем глуп в других. Не так ли? – закончил за него Русанов.
– И ровно ничего не соображает в других вещах, казалось бы, относящихся, однако, к одной и той же области, – пояснил Энгельс.
Энгельс читал множество русских книг. Отчет ученого-этнографа Штернберга об исследовании им общественного строя и семейных обычаев сахалинских гиляков настолько увлек его новизной, что он написал статью о существовании группового брака.
Наступил 1893 год. Всю зиму и весну Энгельс работал над рукописью третьего тома «Капитала».
«Есть ли область, куда бы не проникла его мысль, – думал Энгельс об усопшем друге. – Он видел дно житейского океана и лучи, когда они только еще отделяются от солнца. Он основоположил самое главное в экономике, политике, истории. Математика и литература, физика и статистика – все влекло к себе Маркса, и ни к одному предмету науки и искусства нельзя отныне приблизиться, не вооружившись его методом. Он также первый создал в своих произведениях теорию систем, ставшую магистралью для движения современного миропознания».
О себе и своей огромной значимости для человечества Энгельс не думал. Его стесняло всесветное признание. Почести и благодарность товарищей он котел бы отдать тому, кого уже не было. Маркс, однако, жил не только в своих книгах, но и в огромной любви к нему, не гаснущей, как вечный огонь, в душе Энгельса.
Люди знали об этом. В десятую годовщину смерти Маркса они направляли телеграммы и послания с траурных собраний на Риджентс-парк-род, 122.
В марте 1893 года, чтобы посетить могилу Маркса и повидать Энгельса, приехали Лафарги и Бебель. В доме на Риджентс-парк-род они встретились с английским рабочим Джоном Бёрнсом, одним из быстро приобретающих политический вес деятелей рабочего движения. Вместе с Тусси Бёрнс руководил стачкой лондонских докеров и выдвинулся в лидеры тред-юнионов. Юноша с виду, несмотря на 35 лет, он обладал изрядным опытом борьбы, деловитостью и напористостью. Тусси надеялась, что пролетарская косточка спасет Бёрнса от скольжения и отступничества ради выгоды и карьеры. В это время он только начал сближаться с влиятельными либералами.
Лафарг, Бебель и Бёрнс были парламентариями, и Энгельс, присутствовавший на их встрече, сказал Лауре с удовлетворением:
– Не правда ли, Лер, в обмене мнениями этих видных деятелей не только рабочих партий, но одновременно и депутатов трех высших органов своих стран есть символическое начало. Вот оно, наглядное, живое доказательство наших больших завоеваний. Могли ли мы мечтать об этом лет сорок назад? Недавно старина Гарни, этот неистовый чартист и старомодный путаник, но честнейшей души парень, напомнил мне, что с февральской революции 1848 года прошло уже черт знает сколько времени. Подумать только, целых сорок пять лет. Кажется, мы вчера только кричали «Да здравствует Республика!» И однако, с тех пор мы отметили столько разных годовщин, что начинаешь забывать эти полубуржуазные даты. Через пять лет будет уже полвека со времени нашего обстрела всех деспотов мира с вышки «Новой Рейнской газеты». Мы тогда восторгались республикой с маленькой буквы. Теперь она пишется во Франции с большой, а как оказалось, ничего ровно не стоит. Буржуазная республика всего лишь исторический этап, к тому же почти отживший. Так-то! Нам нужна рабочая пролетарская республика!
Лаура посетовала на то, что речи Лафарга в палате в последнее время не вызывают прежнего интереса.
– Мне кажется, Поля это обескураживает. Тем более что его выступления, по-моему, становятся все убедительнее. Мне кажется, что он способен словом зажечь даже ледники на Монблане, а господа депутаты демонстративно зевают и перешептываются.
– Ерунда. Этим они демонстрируют свое мнимое могущество. Пигмеи и слепцы. Жизнь их опровергнет. Помнишь, как в Германии освистывали и гнали наших соратников, а теперь их в рейхстаге более тридцати и они господа положения. Спроси Бебеля. Он заявляет, что если бы социал-демократов было там сто – то есть четвертая часть всего состава, то рейхстаг перестал бы существовать. Главное – нам надо доказать единожды и навсегда, что наша партия – это и есть представитель подлинного социализма. Все остальные группы и группочки – порождение отошедшей в прошлое детской стадии пролетарского движения.
– Ты писал Полю, что французский пролетариат должен осознать свою историческую роль.
– Это аксиома. Кстати, Лер, обещай мне быть более аккуратным корреспондентом.
– Дорогой Генерал, если б ты только знал, как проходят мои дни. Поль появляется домой урывками, он стал Летучим голландцем. Я только и делаю, что упаковываю и распаковываю его котомку, как он мило называет свой дорожный баул. Приближается наша серебряная свадьба, и что же, вероятнее всего, эта небезразличная для нас дата застанет его в пути.
– Ваша серебряная свадьба? Уже? Давно ли я с Ленхен купали тебя в ванночке, ты тогда еще не умела ходить.
– Увы, Генерал, мне без двух лет пятьдесят.
– Этого не может, не должно быть. Не будем считать времени. Все это условно. Если я чувствую себя еще молодым, то ты тем более та же маленькая девчурка, которая, встречая меня, смотрела укоризненно на мои руки, ожидая леденцов. Жаль, что мы видимся теперь так редко.
– Ты прав. Поль часто говорит мне: «Черт возьми, как мне не терпится скорее увидеть Генерала». Я тоже испытываю это чувство.
Энгельс, всегда отдававший должное проницательному уму Лауры, спросил ее о модном радикале Жоресе, чья популярность заметно возрастала в последнее время во Франции.
– Что тебе сказать, – ответила дочь Маркса, – это несомненно талантливый человек, острый полемист и блистательный оратор. Он стремится говорить, как пишет, и писать, как говорит. У него репутация крупного философа, он ведь учился в Высшей нормальной школе, а затем преподавал философию в Тулузе. Недавно Жорес представил в Сорбонну диссертацию на латинском языке «О первых чертах немецкого социализма», которую очень расхвалили те, кто ничего в ней не понял. Я терпеливо прочла этот опус, так как тема нам не безразлична.
– И что же ты обнаружила?
– Вряд ли можно встретить более путаный образец псевдофилософии где-либо еще на свете. Это явно не его сфера. Он не теоретик, а трибун и, вероятно, на этом поприще многого добьется.
Лафарги и Бебель недолго гостили в Лондоне. Едва они уехали, к Энгельсу с рекомендацией от Плеханова зашел русский литератор и переводчик Воден.
В Лозанне Алексей Михайлович Воден давал уроки математики и, живя более чем скудно, отложил немного денег, чтобы отправиться в Англию. Там, в Британском музее, он надеялся осуществить свою мечту – изучить историю английской философии. Получив от Плеханова письмо к Энгельсу, скромный русский учитель внезапно оробел Как ему следует вести себя, о чем говорить с всемирно известным человеком, чтобы не опозорить себя невежеством? Плеханов сурово проэкзаменовал Водена по истории философии Маркса и Гегеля и по другим предметам, которых мог коснуться в беседе начинатель научного социализма.
Водену в Лондоне поначалу не повезло В Гайд-парке, куда он пошел с вокзала, у него выкрали кошелек. Безденежье вынудило его отправиться в журнал «Свободная Россия», издаваемый на английском языке Степняком-Кравчинским. Там ему дали в кредит деньги и помогли снять дешевую комнату. Отправив письмо Плеханова Энгельсу по почте, Воден принялся ждать ответа, который не замедлил прийти Менее всего ожидал русский социалист, что будет чувствовать себя просто и естественно перед великим Энгельсом. Подходя к его дому, он репетировал то, что скажет. Но как только Воден увидел серые, светящиеся, приветливые глаза Энгельса, услышал его чуть глуховатый голос и ощутил пожатие большой теплой ладони, так все в нем переменилось – заготовленные было слова выветрились из памяти, и человек стал самим собой.
В первую же встречу Энгельс познакомил Водена со своим огромным котом и накормил за обедом досыта. Беседуя, он подробно расспросил гостя о Плеханове, Засулич и народнике Лаврове, о котором отозвался с добродушной иронией Плеханова Энгельс считал выдающимся человеком и, говоря о нем, лестно сравнил его с Лафаргом.
Затем разговор перешел к России. Энгельс был убежден, что русским социал-демократам необходимо серьезно заниматься аграрным вопросом. Чем дольше длился разговор, тем яснее становилось Водену, что, хотя и в очень тонкой форме, но он был все-таки подвергнут своеобразному экзамену и сдал его, очевидно, хорошо. Энгельс допустил молодого человека, вооружив его большой лупой, к рукописям Маркса и пригласил вскоре снова. В следующую встречу Воден рассказал Энгельсу о том, что Плеханов часто вынужден защищать марксизм от извращений и нападок народников. Прищуря глаза и улыбаясь, Энгелье ответил на отличном русском языке:
– Кто Плеханова обидит? Не обидит ли всякого сам Плеханов? – и добавил по-латыни поговорку древних: – «Кто стал бы слушать, как Гракхи жалуются на мятеж?»
Энгельс и Воден много говорили о Марксе.
– Я желал бы – заметил Энгельс живо, – чтобы русские, да и не только русские, не подбирали цитат из Маркса и моих сочинений, а мыслили бы так, как мыслил бы Маркс на их месте. Только тогда, в. этом именно смысле, слово «марксист» имеет право на существование.
Знакомство с Энгельсом неизмеримо обогатило Ведена. Он никогда не встречал человека, столь заинтересованного в том, чтобы одарить других своими знаниями, открытиями и главное – методом мышления. Величие и благородство духа заставляло era заботиться о единомышленниках в трудные для них времена. Он, делая это подчас тайно, много лет подряд деньгами помогал Беккеру, обеспечив его старость; поддерживал великодушного коммунара – поляка Врублевского и многих других, едва узнавал, что они терпят бедствие.
Каждый, кто хоть раз встречался с Энгельсом, уносил с собой частицу его сокровищницы духа.
Философию Энгельс называл учением о мышлении, логике и диалектике, утверждая, что остальное в ней представляет лишь исторический интерес.
Воден был приглашен на Риджентс-парк-род на первомайский вечер. В петлице пиджака хозяина дома алела большая гвоздика. Ароматный узорчатый цветок красовался в смоляных волосах Тусси и на груди у всех прибывших на торжество социалистов.
Тост следовал за тостом, и всем казалось, что небо над миром затянуто багровыми революционными стягами.
К концу ужина спели хором «Марсельезу» на французском языке, ту, которую пела восставшая Франция, родина Коммуны.
Спустя два месяца Воден уехал из Лондона и навсегда расстался с Генералом.
В 1893 году мир был захвачен сенсационными разоблачениями, названными в прессе панамской аферой. Еще раз французы убедились в том, что продажность, взяточничество, мошенничество присущи буржуазной республике так же, как и монархии.
Французский инженер Лессепс в начале 80-х годов основал компанию по прорытию канала в Америке па Панамском перешейке. Однако деньги, поступившие от среднего достатка акционеров и продажи лотерейных билетов, оказались разворованными, строительство прекратилось, правительство начало следствие, и вскрылись подлоги и жульничество.
Буржуазная республика ничем не отличалась от монархии, где моты короли, фавориты и фаворитки грабили казну и народ.
Об этом еще раз напомнило панамское дело. Энгельс призывал соратников широко оповещать трудящихся о явлениях распада буржуазного строя, так отчетливо выявившихся в панамском деле.
Несколько позже Франция, а затем и все лучшие люди других стран узнали о деле офицера генерального штаба, еврея Дрейфуса, ложно обвиненного в шпионаже в пользу Германии. Он был безвинно осужден и заключен на острове близ Новой Каледонии. Несправедливость, дикость, варварство военного суда взметнули волну протеста.
Энгельс, как и Маркс, никогда не судил о людях по их национальной принадлежности. Великие вожди рабочего класса легко сходились с единомышленниками и соратниками независимо от цвета их кожи и происхождения, и всегда их врагами были гонители и эксплуататоры рабочего класса любой страны. В небольшом письме своему австрийскому корреспонденту Энгельс за несколько лет до процесса Дрейфуса, в апреле 1890 года, просто и ясно раскрыл реакционную сущность оценки человека по национальному признаку и, в частности, показал, что антисемитизм – это пережиток средневековья и отсталой культуры.

Владимир Ильич Ленин произносит речь на открытии временного памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. Москва. 7 ноября 1918 года.

Памятник Карлу Марксу в Москве (работа скульптора Л Кербеля)
«…Но не наделаете ли вы с антисемитизмом больше вреда, чем добра, – вот о чем прошу я вас поразмыслить. Антисемитизм – это признак отсталой культуры, и поэтому имеет место только в Пруссии и Австрии, да еще в России…
…Антисемитизм, таким образом, – это не что иное, как реакция средневековых, гибнущих общественных слоев против современного общества, которое состоит в основном из капиталистов и наемных рабочих; он служит, поэтому, лишь реакционным целям, прикрываясь мнимосоциалистической маской…»
Дни для Энгельса пролетали с быстротой падающих звезд. Июль был на исходе. Энгельс собирался в долгий путь по разным европейским странам. Готовясь к отъезду, он приводил в порядок дела и писал завещание. 73 года заставляли его думать о неизбежном для всего сущего конце.
Трудно бывает жить, еще труднее умереть. Любя жизнь, следует учиться достойно встретить смерть.
Энгельс не опускал глаз ни перед какой опасностью, встречал ее с улыбкой, грустью. Он не желал, чтобы переход в небытие застал его врасплох. Любовь к порядку никогда его не покидала. Часть своего имущества и библиотеку Энгельс передавал после своей кончины Социал-демократической партии Германии, а основную сумму денег делил между дочерьми и внуками Маркса. Они были ему ближе родни, и судьба их всегда беспокоила Энгельса, стремившегося облегчить ее им, чем мог. Любовь к Марксу коснулась всех, кто был дорог и близок покойному. Энгельс всегда оставался одним из самых верных, скромных, самоотверженных людей, которых знала история.








