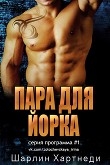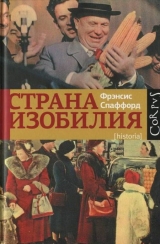
Текст книги "Страна Изобилия"
Автор книги: Фрэнсис Спаффорд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
3. Бурные аплодисменты. 1961 год
Везет Саше Галичу. Везет Саше: скуластый, с курчавыми волосами, с платком, повязанным вокруг шеи, словно флаг – символ передышки. Везет Саше: делает вид, будто все просто, бренчит на пианино в своей полной древностей квартире возле метро “Аэропорт”, сочиняет очередной шедевр; а нет, так отстукивает новые остроумные реплики на своей аккуратной пишущей машинке. Немного поседел – ему уже за сорок, – но не потерял очарования. Везет Саше, ему доверяют, его балуют: жена, которая все ему позволяет, подруги-актрисы, поездки в Париж. Иностранцам он нравился, но при этом долг свой знал. Никогда не переходил черту. Никогда не вызывал неприятностей. И вот на него так и сыплются награды – еще бы, талант. Везет же Саше Галичу.
Он пришел на обед раньше назначенного часа. Думал, что придется ждать, а поскольку встал поздно – немного сказывалась прошлая ночь, – то был не против немного посидеть внутри, в тени тихого коридора. Но вместо того секретарша Морина провела его прямо по главному этажу газетной редакции в комнатку со стеклянными стенами в углу башни. Вид вниз, на бульвар, тянулся до самой Москвы-реки; облака, которые час назад, казалось, обещали первый осенний снег, рассеялись. Над городом внезапно выросла крыша ясного воздуха. Если смотреть через толстое стекло окон, создавалось ощущение, будто он заключен в линзу синевы.
У Морина шло совещание. На длинном столе были рядком разложены гранки, он крупными пальцами придерживал одну полосу пониже середины, а жилистая женщина под сорок склонилась над ней с синим карандашом в руке. Пока она говорила, молодой человек сбоку от Морина быстро записывал что-то в блокнот. В комнате был еще один человек, гораздо старше; он сидел, опустив голову на грудь, и хотя не спал, но всей своей манерой выражал безразличие. Это, решил Галич, должно быть, символический главред газеты, формальный начальник Морина – ископаемое, как осторожно намекал Морин за покером, – по-прежнему мрачно цепляющийся за должность, однако полагающийся на Морина во всем, что касалось нынешних перепадов, кого угодно способных ввести в замешательство. А женщина, наверное, штатный представитель Главлита. Галич узнал эту картину по тысячам заседаний, где литовали тексты: “Натюрморт с цензором”.
– Саша! – приветствовал его Морин. – Мы уже заканчиваем. Присядь на минутку. Никто ведь не будет возражать? Товарищи, Марфа Тимофеевна, позвольте представить Александра Галича – автора множества известных вам пьес и множества песен, которые вы наверняка знаете на память.
Господи, подумал Саша. Парень с блокнотом коротко улыбнулся ему; лицо его вблизи выглядело заострившимся, голодным – такие бывают у бывших детдомовцев. Главред в углу хрюкнул, до того невыразительно, что можно было подумать, будто это вышел воздух откуда-то из-под земли. Однако Марфа Тимофеевна смущенно улыбнулась, переложила синий карандаш в другую руку и протянула правую для пожатия, совсем как школьница.
– Тот самый Александр Галич? – спросила она.
– Ну, во всяком случае, других я таких не знаю, – ответил Саша.
– Мне так понравилась “Москва слезам не верит”, – сказала она. – Я еще думала, как это… правдиво. Какое понимание. И сама пьеса такая замечательная.
Прекрасно, подумал Саша, цензору нравится моя работа, цензор считает, что я пишу правдиво. Однако он тут же поймал себя на том, что придумывает биографию этой женщине в тщательно подобранном жакете и – вот не повезло – с крупным носом. “Живет с матерью, ходит на выставки, на концерты с партитурой в папочке. Замужем не была. Нет – была однажды, но всего год, за меланхоликом”. И он автоматически окинул ее теплым взглядом, задержал ее руку в своей на мгновение дольше, чем она ожидала.
– Спасибо, тронут, – сказал он. – Сам я, конечно, замечаю в своей работе главным образом недостатки. Мои знакомые женщины не дают мне сбиться с пути; как выясняется, просто слушать их – огромное подспорье для писателя, который хочет, чтобы женские голоса у него звучали правдоподобно.
“Тощие ноги, а бедра, наверное, как выцветшие кости верблюда, которого бросили помирать в пустыне”.
– Впрочем, – продолжал он, – не буду отрывать вас от работы.
Он видел, глядя поверх их плеч, что гранки содержат текст речи, очень длинной речи, колонка за колонкой печатного текста, а значит, это, вероятно, обращение, с которым Хрущев должен был выступить сегодня перед съездом. Разматывающиеся абзацы тут и там прерывали выражения восторга, набранные курсивом. Обычные (Аплодисменты) снова и снова; время от времени раздается (Смех) – Хрущев есть Хрущев; по мере того как речь набирает обороты, (Продолжительные аплодисменты), а в моменты настоящих приступов возбуждения – отклики, от которых советской аудитории, как известно, никогда не удается удержаться: (Бурные аплодисменты). Возможно, речь была напечатана еще до того, как Никита Сергеич ее произнес, но Галич был уверен, что оркестровке, указанной в гранках, можно доверять. Это наверняка были именно те моменты, когда две тысячи делегатов под огромными кремлевскими сводами должны были одобрительно загреметь. Вот бы с театральной публикой все получалось так легко.
– Прошу вас, – повторил он, – не обращайте на меня внимания.
– Правильно, – легко согласился Морин. – Давайте позволим Марфе Тимофеевне не дать нам сбиться с пути.
Он произнес эти слова таким тоном, что каким-то образом ухитрился одновременно передать: цензура – это глупо, но глупо и возражать против нее. Галич не отказал Морину в коротком всплеске внутренних (Аплодисментов); в висках у него что-то шептала головная боль. Он и сам был мастер находить приятные, цивилизованные описания вещей, с которыми ничего не поделать, однако Морин к тому же умел отыскать точные нотки, соответствующие моменту: либеральнонастроенные, но без вызова, ироничные, но необидные.
Троица вернулась к делу. За работой Морин весело и мелодично причмокивал губами. Такие же он издавал позавчерашним вечером, рассматривая свою карту, на удивление хорошо скрывая, какая она сильная. Галич бросил сумку на длинный, глубокий редакторский диван и сел, готовый, если потребуется, вести беседу с заброшенной седой глыбой в углу. Однако главред, лишь занимавший свою должность, продолжал кисло пялиться в пространство. По возрасту он как раз попадал в поколение тех, кто унаследовал газету в 30-е, в свое время, возможно, играл роль Морина, прекрасно владел жестоким языком того момента и, когда всех этих интеллектуалов со странными фамилиями вытряхнули из советских газет, оказался готов подняться на их место. Галичу было тогда – сколько? – лет двадцать, он ежедневно ездил на метро на занятия в студии Станиславского. Играл на гитаре в парке.
Влюблялся. Спал с девушками. Ликовал. Сам впервые испытывал это ощущение успеха: как легко, оказывается, говорить на жаргоне времени – так, чтобы подвести дело к счастливому смеху.
Старые номера газеты были разложены по полочкам стеллажа. Он вытащил один наугад, встряхнул, раскрыл, словно ширму перед лицом.
Письма – письма читателей по всему развороту на две страницы. Номер, как он заметил, вышел несколько недель назад, во время знаменитого обсуждения с народом проекта новой партийной программы. Газета Морина, подобно всем остальным, была забита: ряд за рядом, столбец за столбцом, граждане писали – им не терпелось вставить свои две копейки. Газета Морина была изданием столичным, просвещенным, с образованной аудиторией, большое количество корреспондентов одобрительно задерживались на внесенных в проекте предложениях разрешить выдвигать нескольких кандидатов на местных партийных выборах и наложить ограничения на сроки официальных должностей. Один член-корреспондент Академии наук, никак не меньше, предлагал, чтобы партия неуклонно стремилась “защищать права советских граждан во всех отношениях”. Впрочем, предложения поступали по темам самым разнообразным. В изобильном будущем необходимо больше посадок гороха; больше атеизма; больше чайных; больше красных уголков с телевизором в общежитиях для одиноких; больше приборов, позволяющих сэкономить затраты труда; больше поддержки изобретателям; больше адвокатов-защитников; больше депутатов Верховного совета; больше такси. И все эти предложения, на любую тему, были полны энтузиазма. Галич понятия не имел, насколько спонтанны эти письма. Некоторые явно были составлены на местных партсобраниях – послушные отклики по избранным вопросам текущего момента. Однако эффект они производили не совсем тот, что обычно возникал при виде граждан Советского Союза, заявляющих, что их счастливая жизнь уже воплощена в том или ином решении правительства. Тут люди, кажется, пытались добавить собственные пожелания к гигантской башне пожеланий, воздвигнутой этим проектом программы. Они приклеивали свои пожелания к стенам, запихивали их в уголки рядом с обещаниями Никиты Сергеича сделать их самым богатым народом в мире. Люди мечтали с ним вместе; они переживали – переживали, содействуя – за подробности. Взять человека, которому нужно больше такси. Он отмечал, что проект гарантирует каждой семье по автомобилю, причем такому, который, подобно всем материальным благам наступившего коммунизма, будет “значительно более высокого качества, чем лучшая капиталистическая продукция”. Прекрасно; однако где найти для них стоянки, для “жигулей”, своей спокойной мощью способных посрамить “порше”, “лады”, что мурлычут тише “роллс-ройсов”, “волги”, дверцы которых захлопываются с тяжелой завершенностью, вызывающей у “мерседес-бенца” бессильную зависть? Обдумала ли партия, сколько понадобится гаражей? А их “пагубное воздействие на гигиенические условия жизни в городе”? А дополнительные дорожные работы? А… Галич закрыл глаза, прикрываясь газетой, и дождался, пока проблемы дорожного движения в светлом будущем растворятся в поле оранжевого и багряного, перечеркнутом тенями.
– Готово, – весело сказал Морин. – Так куда пойдем, маэстро?
Галич поднялся, обновленный, с приведенным в порядок лицом, из моря советских газет.
– Может, в Союз писателей? От тебя недалеко, а мне после обеда надо за город.
– Отлично, отлично, – сказал Морин, потирая руки с наигранной жадностью. – Я там в прошлом месяце обедал – превосходно. Бе-зу-преч-но. На славу угощают.
Морин натянул плащ и повел его обратно через отдел последних известий, здороваясь, флиртуя, показывая пальцем на ходу; походка у него была на удивление легкая для такого крупного человека. На улице день прояснился еще на одно деление; снежное облако отступило в северо-восточный угол небес и там и осталось – белый узел, удерживаемый некой невидимой контратакой высокого давления. Остальная часть неба своей ясной густотой напоминала разгар лета, не хватало лишь жары и слепящего света. Наступил один из тех дней, когда все приобретает наилучший вид. Москву припорошил свет. Новый бетон, кирпич и гипс, старая штукатурка со съедобным, как у мороженого, оттенком, мозаика на купеческих особняках, цветущие статуи богов и богинь советского изобилия – все это внезапно засияло.
– Ты, кажется, с этой вашей Марфой в хороших отношениях, – сказал Галич в такси.
– Куда мне до тебя, друг мой. Я с ней два года работаю, а вы полминуты, как познакомились, и сразу – ух! – пар пошел…
Они засмеялись.
– Не моего романа, – сказал Галич.
– Нет, серьезно, – продолжал Морин, – я правда считаю, взаимное, э-э, уважение тут не помешает. Все мы знаем, как это порой раздражает. Но ты же сам знаешь, как оно обычно бывает: человек из Главлита, посторонний, вечно он здесь, вечно на него обижаются, вечно посматривают на него, вечно записывают в плохие герои, мол, не дает писателям делать, что хотят, – и ему об этом всегда известно. По моему опыту, если к человеку так относиться, он так себя и будет вести – вернее, других подводить. Специально, назло будет говорить “нет”. А так, стоит проявить немного уважения, немного доверия заслужить, и – дело в шляпе. В Главлите тоже не лишены здравомыслия – надо только найти правильный подход– Конечно, у них свои обязанности, но у кого их нет; зато, если докажешь, что тебе можно доверять, всегда остается определенная свобода для маневра. А Марфа Тимофеевна – женщина довольно чувствительная, ты же сам видел. Не знаю, видел ты, нет: нам в том месяце удалось стихи Евтушенко напечатать. Очень хорошие – сильные такие.
– Нет, я, видимо, пропустил.
– Ну ладно, но дело в том, что, когда доходит до важного, когда мне действительно надо что-то протащить, то я могу. Могу о своих сотрудниках позаботиться – для меня это очень важно.
Галич с мудрым видом кивнул. Ага, вот, значит, что за обед. Но что, если (он не произнес этого вслух) неприязнь цензора не просто личная? Что, если неприязнь общая, непреклонная, не оставляет никакого простора для маневра, ни на какое очарование не поддается? Пару лет назад, рассудив, что всплеск ненависти, вызванный Сталиным, улегся и все вернулось в нормальное русло, он вытащил из ящика свою старую пьесу о типичной советской семье, между прочим, еврейской, об их злоключениях во время войны. В партере, во время репетиции, устроенной специально для нее, цензорша повернулась к нему со словами: “Значит, это евреи за нас войну выиграли, да?” Кивай и улыбайся, кивай и улыбайся; оступился – исправься, не жди, пока зараза распространится, давай, Саша Гинзбург, пишущий под именем Галича. На миг, всего минуту назад, ему показалось, что Морин хочет подчеркнуть, как это удобно – всегда и во всем обвинять цензора; это было бы интересно, из этого могло бы произрасти нечто большее, нежели дружеские отношения по работе; однако неприятные мысли, похоже, были не в духе Морина.
– У тебя самого как дела, хорошо? – спросил он с улыбкой.
– Да как всегда: то одно, то другое. Жена тут пытается дачный обмен устроить, до того сложный, ты себе представить не можешь, так что постоянно приходится приглашать на ужин этих вздорных стариков, эту сволочь из профкома; а тут еще сын в следующем году МГУ заканчивает, хочет в аспирантуру, а там места на вес золота. В общем, дел по горло – сам понимаешь. Хотя нет, – продолжал Морин, ухмыляясь, – ты-то, наверное, не понимаешь. Ты же у нас закоренелый холостяк, у тебя во всем полная свобода.
– Я женат! – возразил Галич.
– Ну, формально говоря, да. Только я слышал, тебе это, э-э, ни в каком смысле не мешает. Ты, наверное, даже и не представляешь себе, что это такое, эти… семейные цепи с кандалами.
– Ну как же, представить-то я пытаюсь. Иначе куда же мне без материала. Сочувствовать я мастер.
– Хм-м, хм-м. Вообще-то, если о делах, скажу сразу: мне довольно скоро надо будет обратно в редакцию. Сегодня с новостями аврал.
– Съезд, конечно?
– Съезд, конечно. И все, что в придачу. Не то чтобы я каких-то сюрпризов ожидал, – снова тонко рассчитанный огонек в глазах, – но работы сегодня много. Ты только посмотри на это все.
Галич посмотрел. Они неслись по Садовому кольцу, пересекая улицу Горького, Герцена, Арбат, все радиальные магистрали, ведущие к центру, к Кремлю. Каждая из них представляла собой коридор флагов. Но если в прошлом атмосфера, сопутствующая периоду съезда, выражала спартанскую решительность, то теперь все выглядело менее сурово. В городском убранстве читалось: счастье, а вдобавок: надежда, а еще: молодость. И в кои-то веки настоящие москвичи как будто гармонировали с этими лозунгами – их частные физиономии своей бесформенностью не выбивались из общего настроя. В этом году съезд КПСС обещал будущее, в котором вместо жертв людей ожидают мириады удовольствий, каждодневных, скатанных в один мячик желаний, которые можно удовлетворить; и народ, наверняка мечтающий о квартирах и машинах, телевизорах и свежих фруктах, тек по тротуарам, шагая легкой поступью, выплескивался на поверхность у вывесок метро из подземного царства гранита и хрома, горного хрусталя и позолоты. Девушки, одевшиеся не по погоде тепло, несли пальто в руках, поглядывали на свои отражения в витринах магазинов. Неспешно прогуливались стиляги, все с коками и узкими лацканами, слишком модные, чтобы флиртовать. Такси прохлаждались у светофоров, остановившись на красный, одновременно летели вперед на зеленый. А перед гостиницами женщины средних лет с кипами бумаг выстраивали оравы африканцев в рубашках-дашики, сутулящихся кубинцев, индонезийцев в круглых красных шапочках, египтян в парадной форме, угловатых индийцев, таких элегантных в своих сари и ачканах, как у Неру, иранцев, арабов, монголов, корейцев и японцев. Москва – столица половины мира, Москва в своем лучшем убранстве. На фоне неба вырисовывались шпили и монолиты, зиккураты в стиле ар-деко и полосатые трубы, изрыгающие дым; все они мерцали, сверкали, сияли на солнце. По идее, от этого у него должно было подняться настроение. Что и говорить, такой вариант нравится ему больше, чем тот запущенный город, в котором ему поначалу везло. Он выглядит почти как гостеприимный дом для миллионов разных историй, какие есть в любом огромном городе. Он выглядит почти как Париж. Впрочем, Париж он видел. Более того, он работает в кино – глядя на этот город, он не может не заметить, как поверхности его зданий привычно поворачиваются лицом наружу, чтобы их увидели, а не внутрь, как удобнее обитателям. Он-то знает, какой тонкий тут задник, как принято срезать углы там, где внимание зрителя отвлечено на что-то другое, где ему достаточно отметить общую размытую картину великолепия. Эти двери все равно в фокус не попадут – кому какое дело, подогнаны они под косяки или нет? Высотки загораживают широкие пространства, стены города – срезанные плоскости, уводящие глаз обратно к небу, нарисованному на стекле. Москва – съемочная площадка, и, как всякая съемочная площадка, она выглядит более убедительно на расстоянии, чем вблизи. Недавно он начал размышлять о том, что таится за всем этим, о том, что обнаружится, если оттянуть уголок разрисованного картона.
На тротуаре перед рестораном Союза писателей разразился международный конфликт. Швейцар Григорий загораживал дорогу двум людям, явно иностранцам. “Нет… нет… закрыто”, – просто повторял он, громко и отчаянно, однако они сердито показывали в сторону зала, хорошо видного через окна первого этажа, где сновали официанты с дымящимися подносами.
– Товарищ Галич, – с облегчением обратился к нему Григорий, – может, хоть вы с ними поговорите? А то я говорю, а они ни слова не понимают.
– Ш-ш-ш. Все нормально, все в порядке. Давайте-ка все успокоимся. Э-э… Deutsch? Italiano? Franзais? Ah, Franзais. Messieurs, je vous prie de nous excuser, mais ici, c’est pas un restaurant, c’est le club privй des йcrivains soviйtiques 1*
[Закрыть]. Я им говорю, это не ресторан.
– Ah merde 2*
[Закрыть], – сказал француз покороче, у которого была черная щетина вместо волос и челюсти разочарованного пса. – Est-ce que cette ville ne contient pas vraiment un seul cafй ouvert, un seul petit bistro? В этом городе что, на самом деле нет ни единого кафе, где открыто, хоть одного маленького бистро?
Как объяснить – как объяснить, что двери заведений московского общепита действительно открываются только перед теми, кому разрешено в них проходить, и что мест, где можно надеяться, что тебя накормят, просто придя туда с деньгами в кармане, поразительно мало? Эти двое должны обедать с делегацией, в составе которой приехали. Наверное, предприимчиво оторвались от своих, решили, что сами о себе позаботятся. А где-то там женщина с бумагами рвет на себе волосы. Ах…
– Par hasard, vous кtes peut-etre des journalistes? 3*
[Закрыть]
– Oui, – опасливо сказал француз. – Agence France– Presse. 4*
[Закрыть]
– Они журналисты. Григорий, я их проведу. Под мою ответственность – наверху я договорюсь. En ce cas, – произнес он, улыбаясь, – vous vous trouvez chez vous. Une maison des йcrivains, c’est aussi naturellement une maison des journalistes. Nous vous souhaitons la bienvenue, comme nos invitйs.
И, сообщив им, что дом писателей – это и дом журналистов, пригласив их в качестве гостей, он повел их вверх по лестнице; следом шел Морин, развеселившись, однако незаметно держась позади.
– Правда ничего страшного, товарищ Галич? – спросил Григорий.
– Да-да, не волнуйся.
На самом деле в секретариате наверху ушло двадцать минут на то, чтобы завизировать его действия и договориться с “Интуристом”, чтобы после обеда прислали машину, забрать заблудших овечек. Когда он вернулся в обеденный зал – по дороге его перехватили, чтобы заставить подписать протест против какой-то очередной клеветы, переданной по Радио Свобода, – французы, устроившись за столиком в глубине, разглядывали скатерти, серебро и расписные панели. Он решил, что в конце концов их все-таки обслужат. Морин ждал за столиком куда лучше, успев раздобыть бокал вина. Он рассматривал выставку знаменитостей – Оренбург в окружении поклонников, Шолохов, приехавший в город на съезд, уже порозовевший физиономией и шумноватый, – но при этом украдкой поглядывал на часы.
– Извини, – сказал Саша, проскальзывая на свое место. – Да, и мне тоже вот этого налейте. Телятина у вас еще имеется? Хорошо. Телятины нам обоим.
– Да ничего, все нормально, – ответил Морин. – Ты же у нас человек импульсивный.
– Не знаю, – сказал Галич. – Просто показалось, что два обеда – не такая уж высокая цена за то, чтобы Советский Союз расписали во всей его красе.
– Ну вот, видишь, – Морин указал на него пальцем, здоро. вым, с волосатой костяшкой. – Вот такое бесстрашное воль, нодумство нам сегодня как раз и нужно. Ответственное, искреннее… Последовали новые лозунги оттепели.
– Да хватит тебе.
– Ладно, ладно. Но я серьезно. Слушай, времени мало; на самом деле, у меня к тебе деловое предложение.
– Так я и думал. Ну, выкладывай.
– Значит, так. Мы печатаем подборку материалов. “Жизнь в 1980 году”. Идея в том, чтобы, так сказать, представить себе будущее во плоти, показать его читателям выпукло, как живое, с разных точек зрения. Ну, знаешь, с политической, экономической, культурной и так далее.
Принесли телятину: эскалопы в белом соусе с перцем горошком и рис в качестве гарнира. Морин разрезал свою порцию на кусочки, насадил один на вилку и стал блаженно жевать.
– Что я говорил? И-зу-ми-тель-но. – Галич ждал. – Проблема в том, – сказал Морин, помахав вилкой, – что все как– то суховато получается. Вот, посмотри – между нами, разумеется, – и он потянулся под стол за своим портфелем и вытащил, покопавшись, несколько отпечатанных на машинке листков.
“Повсеместное изобилие товаров”, – прочел Галич. Он вынул очки для чтения, которые не любил надевать прилюдно, и пролистал текст. “Пища, – прочел он, – должна быть вкусной, разнообразной и здоровой, она не имеет никакого отношения к примитивному обжорству бескультурных людей или извращенному гурманству плутократов… Каждый член общества, – читал он дальше, – получит достаточное количество удобной, практичной и красивой одежды, белья, обуви и т. д., но это вовсе не значит, что надо бросаться в крайности или излишества”. Он начал тихонько смеяться и продолжал, читая про то, как в 1980 году будут полностью удовлетворены потребности каждого в “культтоварах”, однако достаточно будет просто возможности взять музыкальный инструмент напрокат “с общественного склада”.
– И это все? – сказал он. – И это – все? Мечта, вынашиваемая веками, сводится к картофельному пюре, шерстяным носкам и тромбону, которым можно пользоваться по очереди?
Морин натянуто улыбнулся.
– Я же говорю, суховато – не особенно вдохновляет. Вот тут-то тебе бы и подключиться. Мы думали напечатать статью о мире будущего с точки зрения человеческого сердца. Как мы от этого изменимся, как будем по-иному жить и любить, попав во времена, где нет дефицита. Что-то в этом роде. “Личная жизнь будущего” – неплохой, кстати, заголовок.
– Да ладно тебе, я-то вам зачем. Вам нужен какой-нибудь писатель-фантаст.
– Нет-нет, нам нужен именно ты. Мы решили, зачем нам кто-то другой, какой-то там специалист по будущему; что нам нужно, так это специалист по чувствам. Это все хорошо, – он похлопал по рукописи, – но надо это как-то оживить. Нужны небольшие штрихи, такие, чтобы было ясно: вот она, настоящая жизнь. У тебя это получится. Ты сможешь заставить людей в это поверить.
Ой, Морин, да ну тебя на фиг.
– А сам-то ты в это веришь?
Галич только через секунду понял, что на самом деле произнес это вслух, этот важнейший из вопросов, которые не задают, крутившийся у него в голове в последнее время – вместе с разговорами, которые он вел вслух, рядом с ним и вокруг них, – бездумный находчивый ответ в пику собеседнику, простой, решительный, а не мягкий, припудренный нюансами. Существуют способы разузнать, что на самом деле думают люди, но к ним относятся политические танцы вокруг да около, а не этот резкий публичный выпад. Слова выскочили у Галича изо рта не потому, что ему хотелось узнать мнение Морина. Но он их произнес. Похоже, делать нечего – остается лишь сопроводить их улыбкой, как можно более уклончивой как можно более загадочной, а Морин пускай гадает, зачем он его провоцирует.
Морин густо покраснел.
– Что за вопрос! Моя субъективная реакция… Я хочу сказать, это можно обсудить.
Ох, да он и вправду хочет со мной дружить, дурачок, подумал Галич.
– Но сейчас, по-моему, не время и не место для того, чтобы, чтобы… Да, конечно, верю, – сердито продолжал он.
Конечно, я в это верю. Пришло время оправданного оптимизма, твердо стоящего на научном фундаменте. Восхождение к коммунистическому изобилию, – резко добавил он, – есть глубокий исторический процесс, и я как журналист, естественно, горжусь тем, что участвую в нем.
”Ну что, доволен?” – говорили его глаза. Он провел рукой назад по сырому вихру на лбу.
– Нет, серьезно! Что на тебя такое нашло?
Не знаю, подумал Саша. На меня это совсем не похоже – вот так ставить человека в неловкое положение. Это опасно и, хуже того, наивно. Однако ощущение, надо сказать, неплохое.
Молчание затянулось.
– Ну что, – произнес через некоторое время Морин. – Напишешь статью?
– Подумаю, – ответил он.
Морин давно ушел; теперь другое такси в удлиняющихся предвечерних тенях мчало его через реку на “Мосфильм”, где у него была назначена встреча. Вода колыхалась, словно темно-синие чернила, под длинными мостами, гладь ее морщилась там и сям под первыми прикосновениями ветерка. Баржи тянули за собой треугольники белой пены. С конфетной фабрики на островке напротив Патриархии долетали тошнотворно-сладкие облака, пробираясь через щели внутрь машины, в пегую обивку сидений. Из радио доносились речи на открытии съезда и всплески бурных аплодисментов, но Галич снова глядел на город и слышал музыку, которая подошла бы ему, если бы его снимали в день вроде сегодняшнего. Басовитые медные духовые для барж с фабриками, приглушенные трубы для башен, повизгивающие кларнеты для пешеходов, торопливые литавры для машин – и во всем этом слышались злободневность, ожидание, суетливое очарование. Справа открывался парк Горького; мимо проплывали учреждения и мастерские, велодромы и бойни; на излучине реки впереди земля загибалась кверху, к обсаженному деревьями гребню холма, за которым вздымался огромный золотой шпиль университета. И правда, что же на меня такое нашло, думал Саша. Ему вспомнился анекдот. “Что такое вопросительный знак? Постаревший восклицательный знак”. Может, дело только в этом, просто наступило в жизни такое время, когда уверенность начинает слабеть, а на смену бодрости естественным порядком приходит сомнение. Всего лишь первый звонок стариковского скептицизма. Но тогда почему он сердит гораздо больше прежнего?
Года четыре или пять назад он испытывал подъем, чувствуя, как ширится территория, где позволено работать писателю. Вещей, которые можно говорить, стало во много раз больше – не потому, что разрешили иметь свое мнение по каким– то основополагающим вопросам, но потому, что внезапно показалось: существует огромная сфера человеческой природы, которую можно исследовать, не сражаясь при этом с общепринятыми мнениями. Эта возможность на какое-то время вскружила советской литературе голову. Можно было писать о сомневающихся сыновьях, а не о властных отцах, о разочаровании, а не о всевозможных оттенках восторга, издавать сочинения лирически-интимные, а не монотонно-эпические. Какое-то время его почти не беспокоили пределы этой новой свободы, они были очерчены настолько шире прежнего, что давления почти не чувствовалось. Однако вскоре он обнаружил, что все равно достиг их. Он добрался до них, попросту следуя логике создания персонажей в условиях большей свободы. Почему сомнения сыновей в конце произведения непременно должны растворяться, оборачиваясь рвением, которого никто конкретно не испытывает, однако почему-то испытывают все в целом? Почему в произведении для взрослых всегда надо смягчать разочарование? Почему лирика должна оберегать искренность дружбы людей, сидящих вокруг кухонного стола, и не более того? Если на то пошло, теперь раздражение стало сильнее, чем прежде. Он не понимал, чего лишен, пока ему не дали случайно выбранный кусочек запретного; объяснение было отчасти в этом. А еще – в том, что отпали причины для запретов. Теперь вокруг раз и навсегда признали, что жизнь не просто волна, несущая толпу вперед, когда все поют и кричат, когда во всех движениях видна эта порывистость, благодаря которой в советских фильмах даже появление людей у ворот фабрики напоминает спонтанное наступление на Зимний дворец. Было решено, что существуют, необходимы и другие настроения, другие интонации. На этом восторги кончились.
Восторги были настоящими. Он заставил себя это вспомнить. У него было как раз такое счастливое детство, которое, как обещал Сталин, в один прекрасный день станет повсеместным, и он горячо желал защитить его, остановить классовых врагов, кулаков и фашистов, угрожавших отдельным частям тех прекрасных мест, где он жил, какими они ему помнились: твердая грунтовая дорожка, ведущая от дачи к озеру под смолистыми соснами, желтый матерчатый абажур в квартире родителей, заполненной книгами, нянька Маша с руками-лопатами, в лице которой он полюбил всех крестьянских Маш и Вань, населявших огромный облачный пейзаж вдали от знакомых улиц. Страх тоже появился с годами, но кроме страха всегда было что-то еще. Они с друзьями восхищались своими преподавателями, глазели на гудящие эскадрильи в День авиации, мечтали о том, что дозволено. Он рад был служить. Он рад был протискиваться через проходы набитых солдатами вагонов, держа над головой гитару, когда оказывалось, что отрепетированное ему действительно удается, когда суровые, угрюмые парни, набившиеся в купе, расплывались в улыбке, услышав его лукавые частушки, подпевали под “Синий платочек”, “Темную ночь” и его собственную “До свиданья, мама, не горюй”. У некоторых в глазах стояли слезы. Тогда сомнение казалось мелочью; он перемещался по опасному миру, и его ничего не брало, он жил в своем везении, как в пуленепробиваемой оболочке. Был один-единственный случай, когда он соприкоснулся с опасностью, в 49-м, во время кампании против космополитов. Подчиняясь какому-то непонятному импульсу солидарности, он забрел на собрание еврейской секции Союза писателей. Когда он вошел в комнату, к нему обернулись полные подозрения лица; все собравшиеся, разумеется, были так же верны Сталину, как и он, однако они были бородатые, нездешние, от них исходил аромат незнакомых солений. “Ты идиш знаешь? – спросил его кто-то. – Нет? Тогда вали отсюда – не нужны нам такие прихлебатели. Поищи свои корни в другом месте. Что, на жидов поглядеть пришел? Давай, иди отсюда”. Спустя две недели секцию разогнали, и большинству из тех, кто был в той комнате, грозил расстрел. Только тогда, читая газету, он понял, что его спасла доброта незнакомцев.