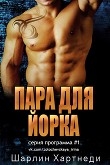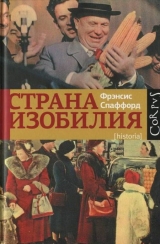
Текст книги "Страна Изобилия"
Автор книги: Фрэнсис Спаффорд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
3. Пенсионер. 1968 год
У ограды в конце дачного участка стояла скамейка, обращенная к пшеничному полю. Иногда по тропинке на поле подходили гуляющие и, обнаружив там бывшего Первого секретаря, просили разрешения с ним сфотографироваться. Сегодня на тропинке никого не было. Вокруг ни души – лишь серая августовская жара, да сам он, в рубашке и шляпе, со своим коротковолновым приемником и магнитофоном, который подарил ему сын, чтобы он записывал свои воспоминания. У его ног расхаживал, скребя землю, ворон Кава. Когда его только сняли с должности, он ожидал, что ему разрешат заниматься партийной работой хотя бы на самом низовом уровне, вернуться в местную ячейку или комитет, или как они там теперь называются. Ему следует знать как, да только пока он сидел на своей плодоносящей верхушке, вся организация успела много раз смениться. У него остались одни ностальгические воспоминания о том, как проходили собрания вначале: комната с голыми бетонными стенами, лампочка без абажура, недавно обучившийся читать секретарь гордо спотыкается на длинных словах, читая повестку; и он надеялся, что снова увидит что-нибудь подобное, если ему опять разрешат присоединиться к рутинной работе: рисовать транспаранты к Первому мая, выступать с речами в красных уголках, посещать детсады, разъяснять передовицы “Правды” рабочим в конце смены. (Секрет состоял в том, чтобы их рассмешить). Но ничего такого не произошло. Повсюду разошлись слухи – его списали на свалку истории. К нему нельзя было приближаться. Нельзя было разговаривать с ним, писать ему, звонить; и хотя время от времени издалека доносились вести о том, что его бывшие соратники по-прежнему помнят о нем, по-прежнему берут его в расчет, напрямую этого ему никто не сообщал. Последствия просачивались к нему в виде каких-нибудь мелких изменений в распорядке, по которому он жил, или поддержки, оказываемой его сыну.
Так и тянулись дни, невероятно длинные и невероятно пустые. Поначалу он, как сумасшедший, занимался огородом, сажал длинные грядки овощей, возлагая на них большие надежды, подрезал и удобрял от зари до зари, прерываясь только тогда, когда Нина Петровна звала поесть, – но через какое-то время это надоело. И потом, голову такими вещами не заполнишь. Раньше он всегда, стоило появиться сомнениям, брался за работу. Стоило появиться неприятным воспоминаниям, он брался за работу, говоря себе, что лучший ответ на любой просчет в прошлом – поправить что-то в будущем. Будущее было его личным выходом, а также общественным долгом. Работа во имя будущего позволяла смиряться с прошлым, а значит, и с настоящим. Но теперь никому его обещания были не нужны. Часы зияли пустотой. Слишком много времени на размышления и никакой возможности откинуть эти мысли в сторону, окунувшись в работу. Теперь он не мог избавиться от того, что приходило ему в голову. Мало-помалу, без какого-либо порядка, из глубин всплывали вещи, которые ему совершенно не хотелось вспоминать: всякая гадость, прошедшие часы и минуты, о которых никому и думать не стоит, покидали свое место в забытых уголках и поднимались, заполняли голову, как грязь во взбаламученном пруду, поднявшись со дна, мутит чистую воду наверху. Он, как мог, старался держать мысли в порядке, ведь жалость к себе отвратительна; к тому же у него перед глазами всегда стоял пример Нины Петровны с ее большевистским спокойствием. Если она смогла вынести эти перемены в их жизни, перемены в своих обязанностях, без единой жалобы, то и он непременно справится. Сумеет починить свой умственный защитный механизм, будет одолевать эту жизнь, день за днем. Однако теперь он понимал, почему, если верить слухам, этот матерщинник Фрол Козлов, туша эдакая, когда умирал, дошел до того, что позвал попа. Не дай бог ему самому проявить такую слабость; однако теперь ему было ясно, что в этом что-то есть, в этом желании очиститься от всего, чтобы все это от тебя убрали, как по волшебству, чтобы можно было уйти из этой жизни таким же невинным, каким пришел в нее. А все это проклятое безделье – вот в чем беда. Козлов, видно, тоже лежал в постели все эти месяцы после инсульта, не мог ничего делать, только думал. Наверное, надо было его навестить. Теперь уже поздно – все поздно, остается лишь тащиться вперед, день за днем. Порой борьба у него в голове представлялась ему до того не связанной с миром вокруг, где ничего не происходило, что казалось, будто все это, вся эта чертова история, вся эта громадная страна, там, за пшеничным полем, была его сном, из тех особенно запутанных, давящих горячечных снов, когда все силишься выстроить по порядку их части, но никак не можешь; как будто Советского Союза вообще никогда не было, разве что в его воображении, а было только это русское поле, заросшее пшеницей.
Хуже всего бывало, когда он по глупости решал посмотреть какой-нибудь фильм про войну по огромному телевизору в гостиной, на котором под экраном еще красовалась выгравированная табличка, гласившая, что это подарок к юбилею “от товарищей по Центральному комитету и Совету министров”. Памятуя о том, как они с ним поступили, он смотреть не хотел; и все-таки чистенькие подвиги почему-то затягивали его, словно давая некое облегчение, возможность так же спокойно гордиться прошлым, как в кино. А ведь, если вспомнить войну, то гордиться в конце концов было чем. Эти смелые ребята, которых гнали из-под палки навстречу врагу; да, смелость была такой же реальной, как и палка – настолько реальной, что слез не удержать. И потом, они избавили мир от огромного зла. Это правда. Сидя перед телевизором, он испытывал одно лишь свойственное ветеранам раздражение – легкое, не прорывающееся – при виде того, что напутал режиссер. Только позже все это начинало отравлять его мысли – ночью, в неподвижной, одинокой глубине ночи. Ему снились все те жуткие подробности войны, которые не вошли в фильм, а когда он просыпался и слышал ровное дыхание Нины Петровны, приснившиеся ему образы были все так же живы в сознании; а позади них неостановимо подымались, словно на крюках из тьмы, выходили наружу другие воспоминания. За картиной, где кусок человеческих кишок, словно покрытая пятнышками коричневая труба, вмерз в дорожку перед блиндажом на передовой в Сталинграде, высились стонущие деревья на Западной Украине в 45-м, когда там трудились палачи из НКВД, а дальше – вид за неосторожно приоткрытой в 37-м дверью, где следователь на допросе демонстрировал, какими возможностями обладает простая металлическая линейка, и оголодавший в коллективизацию ребенок, которого тошнило травой. И еще, и еще хуже.
Столько крови, и только одно оправдание всему. Только одна причина, почему все это было правильно – делать эти вещи и помогать их делать; только если все это было началом, всего лишь последними предсмертными судорогами старого, жестокого мира и рождением нового. Но когда не было работы, верить в это было гораздо труднее. Когда не было работы, будущее лишалось веса, способного удержать на расстоянии прошлое. А мир, по-видимому, продолжал жить, неизменный, неспасенный, непреобразованный. Происходило все то же, те же старые нужды били все так же больно. Все так же далеко было до сада, где возляжет лев с ягненком, где всякий сможет после ужина предаваться критике – как его душе угодно. Сегодня по радио передавали, что снова начался Будапешт, прямо как тогда, когда он послал туда танки, только на этот раз это Прага, на этот раз чехам понадобилась братская рука помощи, сомкнутая на горле, чтобы держать их в узде. Ликование на улицах, сказали по радио. Рабочие повсюду приветствуют солдат. Ну да. Перед Прагой – Будапешт; перед Будапештом – Восточный Берлин. Все происходит снова и снова. Снова и снова, а этот сад, где кончается история, торопится вперед, никогда до него не дотянуться, вот вам оправдание, какое уж есть, достаточно его или недостаточно. Он повозился с магнитофоном и нашел кнопку “Запись”, которую показал ему сын.
“Рай, – сообщил он пшеничному полю в смятенном гневе, – это место, куда люди хотят попасть в конце, а не то, откуда они бегут. И это называется социализм? Что это за общественный строй такой, куда народ силком надо загонять! И это называется рай?”
Он нажал кнопку “Стоп”. Прикрыл рот рукой. И тут оно, это вышедшее на пенсию чудище, устав от страха, от того, что испытывало его само и вызывало в других, замерло на скамейке у поля, подождало, пока ворон Кава прыгнет к нему на колено. Через поле, колыша пшеницу, прилетел ветерок, закачал березы у него над головой. И листва на деревьях заговорила: неужели нельзя иначе?
В трех тысячах километрах к востоку уже ночь, но дует тот же ветер, шевелит темные ветви сосен у окна наверху, где сидит в одиночестве Леонид Витальевич, занятый оптимизацией производства стальных труб. 500 производителей. 6о тысяч потребителей. 8оо тысяч заказов, получаемых ежегодно. Но все получится, если ему удастся убедить их измерять выдачу в нужных единицах. Неумолимый свет творения горит внутри ненадежного тела; затмевает его собой, затмевает полный разочарований мир, мир случайностей, тирании, абсурдности; светит все ярче и ярче, сильнее и сильнее, пока невысокий человек в квадратных очках не исчезнет из виду и комнату не заполнит одно бело-голубое сияние. А когда свет гаснет, тела уже нет, комната пуста. Проходят годы. Рушится Советский Союз. Возобновляется пляска предметов и людей, вечный товарообмен. А ветер в деревьях Академгородка повторяет: неужели нельзя иначе? Неужели никак нельзя иначе?
Проснулся батрак, видит, что нет ни царевны, ни ковра-самолета, ни скатерти-самобранки; остались одни сапоги-самоходы.
Послесловие
Скорее признание, чем послесловие: я написал эту книгу, не умея ни говорить, ни читать по-русски. Поэтому я имел возможность использовать в работе лишь малую часть имеющихся материалов, и читателям следует знать: то, что они тут прочли, отражает мое знакомство с ограниченным набором источников, которые оказались переведенными на английский, – зачастую это происходило во время холодной войны, в процессе озабоченных попыток Запада угадать, что происходит в Советском Союзе. Как следствие, не будучи в состоянии самостоятельно заглянуть в архивы или справиться с оригиналами документов (не считая тех нескольких случаев, когда мне оказали любезность и перевели для меня материал), я оказался в необычной ситуации – мне пришлось положиться на ряд определенных книг, послуживших мне основными проводниками в то место и эпоху, которые я пытался понять, или провожатыми по ним. Эти книги не раз упоминаются в примечаниях, но мне хотелось бы выразить особую благодарность им и здесь; вот они: Sheila Fitzpatrick, Everyday Stalinism (Шейла Фицпатрик, “Повседневный сталинизм”), William Taubman, Khrushchev: The Man and His Era (Уильям Тобмэн, “Хрущев. Человек и его эпоха”) – важнейшая биография Хрущева и Michael Ellman, Planning Problems in the USSR (Майкл Эллмэн, “Проблемы планирования в СССР”). Разумеется, за все те ошибки, недоразумения, ложные утверждения, наивные представления, вопиющие упущения и обычные глупости, которые тут наверняка имеются, эти авторы никакой ответственности не несут. Но поскольку эта книга зиждется на знаниях других, мне кажется необходимым указать, на чьи труды я полагаюсь. Кроме того, я не смог бы написать ее без помощи двух человек, бывших моими переводчиками во время моего пребывания в России, Джозефины фон Зитцевич в Санкт-Петербурге и Симми Гилл в новосибирском Академгородке и в Москве. Мисс Гилл перевела для меня основные части книги “Леонид Витальевич Канторович: человек и ученый”, познакомила меня с книгой Колаковского и в любых ситуациях блистала иронией. Я чрезвычайно благодарен Ирине и Иосифу Романовским, дочери и зятю Канторовича, за их гостеприимство и поддержку, а также встреченным мною в Академгородке профессору Якову Фету и его жене, которые терпеливо отвечали на вопросы, как им наверняка показалось, до странности плохо знающего математику англичанина. Профессор Г. Ханин также любезно согласился побеседовать со мной. Эти люди проявили гостеприимство и оказали мне поддержку в то время, когда я полагал, что занимаюсь написанием куда более стандартной, чем впоследствии оказалось, документальной книги, и им вполне может не понравиться то, как я обошелся с воспоминаниями о Канторовиче. Однако я надеюсь, что они все-таки поймут: намерение мое, по существу, состояло в том, чтобы почтить его память. Во время работы над книгой я многое почерпнул из бесед с Майклом Эллмэном, с Аленой Леденевой из Школы славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета И с Дьюрдьей Бартлетт из Лондонского колледжа моды; и в этих беседах я обычно спотыкался, пытаясь получить хотя бы начальное представление о предмете, поэтому доктора Эллмэн, Леденева и Бартлетт, возможно, сочли свое время потерянным зря. Это не так. Кроме того, я хочу поблагодарить за чтение чернового варианта книги и комментарии к нему, сделанные с различных точек зрения, таких специалистов, как Эмма Уиддис, Маргарет Брэй, Джералд Стэнтон Смит, Оливер Мортон, Эндрю Браун, Клэруеэн Джеймс, Джонатан Гроув, Дженни Тернер, Ким Стэнли Робинсон, Питер Спаффорд, Дэвид и Беренис Мартин. Что до Джессики Мартин, она прочла всю книгу, глава за главой, абзац за абзацем, а порой, когда возникала необходимость, предложение за предложением. Преподавать студентам в колледже Голдсмите было для меня удовольствием, работать с коллегами – тоже. Мой редактор Джулиан Луз долго ждал, когда я пришлю ему книгу, и в результате получил совсем не то, что мы первоначально планировали. Мой агент Клэр Александер достойно справилась с последствиями. И, наконец, моя мать, историк Маргарет Спаффорд, всегда воодушевляла меня своей уверенностью в том, что мне следует рискнуть и попробовать себя в писательстве. Без ее поддержки я, возможно, не набрался бы храбрости, не рискнул бы переехать в этот странный дом на полпути, на границе с художественной литературой. Отсюда и посвящение, хотя я знаю – ничего столь вопиюще антинаучного она в виду не имела.
Источники, необходимые для написания книги, я изучал в библиотеке Кембриджского университета, в Университетской медицинской библиотеке и в Экономической библиотеке Маршалла в Кембридже, в Британской библиотеке и в библиотеке Общества сотрудничества в российских и советских исследованиях в Брикстоне. Библиотекари в этом мире – безымянные герои и одновременно – люди, незаменимые в любом противоречивом начинании вроде этого. Библиотека Св. Дейниола во Флинтшире предоставила мне замечательно благотворную среду для написания последней главы. Все это время Google, расхаживая поступью пантеры, складывал у меня под рукой документы, стопку за стопкой. Не представляю себе, как можно было написать эту историю в мире без интернета – иными словами, в мире, где эта история произошла.
Примечания
Часть I
Введение
16 Мосты калиновые, переводины дубовые, устланы мосты сукнами багровыми, а убиты всё гвоздями полуженными. Эта и все остальные цитаты из сказок взяты из книги А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки. Формальный и антропологический анализ можно найти в книге Maria Kravchenko. The 'World of the Russian Fairy Tale.
16 Русские перестали рассказывать сказки. Намеренные попытки сфабриковать непрерывающуюся традицию советского фольклора, в котором Сталин выведен сказочным героем или добрым царем, рассмотрены в книге Frank J. Miller. Folklore for Stalin: Russian Folklore and Pseudo-folklore of the Stalin Era, а также в следующих трудах: John McClure and Michael Urban; Felix J. Oinas. Folklore and Politics in the Soviet Union-, Rachel Goff. The Role of Traditional Russian Folklore in Soviet Propaganda. Cm. http://gerrnslav.byu.edu/perspectives/w2004contems.html. Исследования современных сказочных мотивов русского фольклора в советских и постсоветских условиях приведены в книге Liz Williams. Nine Layers of Sky.
16 Название сказочного ковра-самолета. См. Maria Kravchenko. The World of the Russian Fairy Tale.
17 В наши дни, – сказал толпе, собравшейся во Дворце спорта Центрального стадиона имени В. И. Ленина 28 сентября 1959 года, Никита Хрущев. См. журнал Вокруг света, № 4, 1960 (.Khrushchev in America: Full Texts of the Speeches Made by N. S. Khrushchev on His Tour of the United States).
17 Вся Россия (выражаясь словами Ленина) – одна контора и одна фабрика. Строго говоря, это предсказание об устройстве послереволюционного общества было сделано им перед самым большевистским переворотом, а опубликовано после; см. Государство и революция, гл. у. “Все общество одна контора и одна фабрика с равенством труда и равенством платы”.
1.1. Вундеркинд. 1938 год
21 Леонид Витальевич. Леонид Витальевич Канторович (1912–1986), математик и экономист, ближе всего из советских ученых стоящий к Джону фон Нейманну, в 1975 г. ставший единственным советским лауреатом Нобелевской премии по экономике (совместно с Тьяллингом Купмансом). По-русски формальным почтительным является обращение по имени и отчеству; в большинстве случаев он зовется здесь так с целью подчеркнуть, что отношение к нему уважительное, как к доброму знакомому, но не близкому другу. Эта сцена в трамвае, получившая художественное развитие в книге, основана на реальных событиях его жизни, которые описаны в его автобиографической статье в сборнике Assar Lindbeck, ed. Nobel Lectures, а также в собрании его писем и статей, дополненном воспоминаниями коллег: В. Л. Канторович, С. С. Кутателадзе, Я. И. Фет (редакторы-составители). Леонид Витальевич Канторович: человек и ученый-, см. также С. С. Кутателадзе. Путь и пространство Канторовича.
23 Банды работали в трамваях. Преступность в 30-е годы и трамваи тех лет описаны в книге Sheila Fitzpatrick. Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times, pp. 32–53.
24 Лозунг рекламировал «Советское шампанское». Это началось с реплики Сталина (кого же еще) на собрании комбайнеров 1 декабря 1935 года: “У нас теперь все говорят, что материальное положение трудящихся значительно улучшилось, что жить стало лучше, веселее”, а затем активно использовалось в песнях, речах, плакатах, газетных заголовках. См. Fitzpatrick. Everyday Stalinism, р. 90 и примечание там же; про «Советское шампанское» см. JUKKA Gronow. Caviar with Champagne: Common Luxury and the Ideals of the Good Life in Stalins Russia.
25 На его профессорском костюме красовалась бы шестиконечная звезда. О жизни евреев в СССР в 30-е годы и о представлениях евреев об этой стране как о месте, отличавшемся филосемитскими просвещенными идеями и предоставлявшем определенные возможности, см. Yuri Slezkine. The Jewish Century.
26 Запрос от Ленинградского фанерного треста. Подробности о том, как к Канторовичу обратились из треста, я придумал, однако то, что в основе его математических оптимизационных идей лежало задание фанерного треста, факт полностью достоверный. Когда в 1982 году отмечали семидесятилетие Канторовича, ему подарили кусок фанеры с надписью “Я простая дощечка, но я тоже радуюсь, потому что все это началось с меня”. Первой публикацией, посвященной этому методу, которая доказывает, что Канторович открыл его первым, была 68-страничная брошюра, изданная в 1939 году, “Математические методы организации и планирования производства”; кроме того, в университете, где он работал, была устроена небольшая конференция; однако официального внимания работа почти не привлекла, что, по-видимому, явилось для автора наиболее безопасным результатом. Неясно даже, использовал ли фанерный трест то, что он им предоставил, – вполне возможно, что нет. Затем метод был независимо переизобретен в Соединенных Штатах Тьяллингом Купмансом и Джорджем Данцигом, который, работая во время войны над проблемами транспорта и распределения по поручению ВВС США, ввел новый термин – линейное программирование. В постановке задачи у Купманса имелось одно отличие от Канторовича: он предполагал, что любой оптимизированный набор выходных параметров следует считать эффективным, тогда как у Канторовича этот набор входил в данные задачи. Он поступал от плановиков и был единственным набором, используемым при оптимизации. См. Michael Ellman. Planning Problems in the USSR: The Contribution of Mathematical Economics to Their Solution 1960–1971.
27 Ему представился метод, способный на то, что не под силу сыскной работе традиционной алгебры. Фанерный трест, по сути, предложил ему решить систему уравнений, каждое из которых имело форму вроде этой: 3а + 2b + 4с + 6d = 17, где неизвестные переменные а, b, с, d обозначали неизвестные затраты работы, относящиеся к работе различных станков; только переменных было не четыре, а во много, много раз больше. Эти уравнения называются линейными, потому что графики входящих в них функций представляют собой прямые линии; свойством линейных уравнений является тот факт, что (если ограничиться общим случаем) разрешить систему единственным образом можно, лишь когда количество уравнений в ней равно количеству неизвестных. Иначе, когда неизвестных больше, система недоопределена – у нее существует бесконечное число решений, и выбрать одно невозможно. Система, которую надо было решить фанерному тресту, была недоопределенной, поскольку уравнений в ней было меньше, чем переменных – последних требовалось найти огромное количество. Прежде всего Канторович осознал, что среди бесконечного множества решений имеется критерий выбора: исходить следует из того, что величину а + b + с + d, полную затрату работы станков треста, соответствующую данной ему плановой норме выпуска фанеры, необходимо минимизировать. Задачу можно сформулировать по– другому, так, чтобы требовалось максимизировать норму выпуска. Учебник, где разъясняются принципы линейного программирования, предназначенный для студентов американских бизнес-школ: Saul I. Gass. Linear Programming: Methods and Applications.
28 Небоскребов на Манхэттене и обещаний большего в Москве. Сталинские обещания по части будущего см. в книге Лев Копелев. И сотворил себе кумира. (Lev Kopelev. The Education of a True Believer), которая цитируется в SHEILA FITZPATRICK. Everyday Stalinism, p. 18. Архитектурное видение будущего можно найти на сайте www.muar.ru/ve/2003/moscow/indexe.htm
[Закрыть], где собраны образы того рода, гипнотическая сила которых, вместе взятых, поразительно хорошо представлена в книге Jack Womack. Lets Put the Future Behind Us.
29 Можно год за годом безотказно получать дополнительные 3 %. В экономике, которая потребляла все произведенные собой товары, 3 % прироста производства, которые ожидал Канторович, лишь подняли бы объем производства, не добавив ничего к темпам роста. Но в экономике, которая частично вкладывает произведенные ценности в увеличение производственных емкостей, прирост действительно сложился бы в окончательную цифру, дополнительные 3 %; а советская экономика 30-х годов была примером исключительным по уровню новых вложений произведенной продукции взамен потребления.
1.2. Предсовмин. 1959 год
33 Стоящие в проходе ребята из КБ Туполева. История о несостоявшемся заложничестве Туполева-младшего изложена в книге William Taubman. Khrushchev: The Man and His Era, p. 422. Положение было особенно деликатным, поскольку Туполева-старшего в действительности арестовали за вымышленное политическое преступление в середине Великой Отечественной войны, после чего он продолжал работу над конструированием летательных аппаратов в круге первом, будучи заключенным ГУЛага.
36 Все одеваются в красивое, новое. Заметное советское процветание описано Абелом Аганбегяном в книге “Внутри перестройки. Будущее советской экономики” (Abel Aganbegyan. Moving the Mountain: Inside the Perestroika Revolution) и в статье Г. И. Ханин. Пятидесятые годы – десятилетие триумфа советской экономики. О том, как в 50-е и бо-е годы были успешно выполнены обещания, данные в 30-е, см. Sheila Fitzpatrick. Everyday Stalinism, pp. 67-114.
37 Рост советской экономики составлял 6 %, 7 %, 8 %. Спорный вопрос о советских темпах роста обсуждается ниже, в предисловии к части II. Здесь я решил показать, что Хрущев – как, вероятно, и было на самом деле – полагается на официальные советские цифры, естественно, завышенные.
38 Давайте соревноваться в достоинствах наших стиральных машин, а не в мощи наших ракет. Это знаменитые кухонные дебаты. См. Taubman. Khrushchev, pp. 417–418; см. также освещение визита в New York Times, vol. CVIII, no. 37072, 25 July 1959, pp. 1–4.
39 Без меня они вас утопят, как котят. Это пророчество Сталина можно найти в Taubman. Khrushchev, р. 331. Эпизоды с вытряхиванием трубки и постукиванием по лбу – там же, рр. 167–168,230.
40 В настоящее время вы богаче нас. См. Taubman. Khrushchev, р. 427.
41 Он читал о Нью-Йорке в знаменитой книге Ильфа и Петрова. Илья Ильф и Евгений Петров, знаменитые авторы “Двенадцати стульев” (сатиры на советскую жизнь в 20-е – годы нэпа), проехали на машине по США в 1936–1937 годах. Их “Одноэтажная Америка”, куда вошли описания завода Форда и стриптиз-шоу, была основным источником, из которого у поколения Хрущева сложился мысленный образ Соединенных Штатов. Ни Ильф, ни Петров не дожили до конца Великой Отечественной войны, что, вероятно, можно считать везением в политическом смысле.
42 Если б я знала, что такие снимки будут. См. Taubman. Khrushchev, р. 426.
42 Вы воевали, мистер Лодж? См. Хрущев Н. С. Время. Люди. Власть. (Воспоминания). (Nikita Khrushchev. Khrushchev Remembers).
44 Что это за звуки такие: у-у-у? Несмотря на сорокалетний опыт политической деятельности, Хрущев действительно никогда не слышал неодобрительных выкриков, пока не столкнулся с ними за границей. Однако я переместил его первую встречу со звуком у-у-у из Лондона 1956-го в Нью-Йорк 1959-го. См. Taubman. Khrushchev, р. 357.
44 У нас такие были до войны в Москве и Ленинграде. Советский эксперимент с экспресс-питанием описан в Gronow. Caviar with Champagne.
46 Конечно, он восхищался американцами. Советская любовь к американской промышленности описана в книгах Stephen Kotkin. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization и Stephen Kotkin. Steeltown, USSR: Soviet Society in the Gorbachev Era; к американским принципам менеджмента – в книге Mark R. Beissinger. Scientilc Management, Socialist Discipline and Soviet Power, про американскую массовую культуру, в особенности джаз, говорится в книге Frederick S. Starr. Red and Hot: The Fate of Jazz in the Soviet Union. 1917–1980. До Великой Отечественной войны это был энтузиазм по отношению к капиталистической культуре, воспринимавшейся не просто отдельно, но совершенно независимо от соперничества СССР со старыми империалистическими державами Европы. После 1945 года началось более противоречивое восприятие сходства с заклятым врагом.
47 А прибора, который вам еду в рот кладет и разжевывает, у вас нету? New York Times, vol. CVIII, no. 37072, 25 July 1959, pp. 1–4.
48 Свою ответную речь он начал парой шуток. Официальные тексты речей Хрущева в Америке, из которых были вырезаны каверзные вопросы и импровизации, но не шутки, можно найти в сборниках Khrushchev in America: Full Texts of the Speeches Made by N. S. Khrushchev on His Tour of the United States, September 15–27, 1959. и Жить в мире и дружбе!. Отчеты об этих выступлениях со всеми беспорядочными подробностями см. в следующих публикациях: Taubman. Khrushchev, pp. 424–439; Gary John Tocchet. September Thaw: Khrushchevs Visit to America, 1959; Peter Carlson. К Blows Top: A Cold War Comic Interlude Starring Nikita Khrushchev, Americas Most Unlikely Tourist.
49 Будто ее нарисовал осел, которому вместо хвоста привязали кисть. Записи о таком суждении Хрущева о Пикассо не существует, однако оно отражает его реакцию на любое абстрактное или фигуративное искусство. См. Taubman. Khrushchev, pp. 589–590.
49 У них не было заметно раздутых щек. Для Хрущева источником удивленных комментариев во время его международных визитов было то, что богатые и могущественные на Западе не похожи на их советские карикатуры. Об отсутствии у капиталистов цилиндров и свиных рыл см. Taubman. Khrushchev, р. 351, 428. Тот удивительный факт, что король Норвегии и английская королева не выглядят ни зловещими личностями, ни выродками, упомянут там же (р. 612, 337). Возможно, одна из причин враждебного отношения Хрущева к британскому премьер-министру Гарольду Макмиллану состояла в том, что в Макмиллане он единственный раз встретил человека, слегка напоминавшего советский стереотип аристократа. “Вот бы он сюда подбежал, посмотрел бы я, как у него омлет по всему смокингу размажется” – см. Taubman. Khrushchev, р. 467.
49 Он знал, что это такое – управлять рабочей силой. Хрущеву относительно легко – хотя это вызывало у него психологическое беспокойство – удавалось отождествлять себя с бизнесменами, которых он, как правило, считал прямыми западными аналогами советских политиков-управленцев, подобных ему самому.
50 “Задавайте свои вопросы, – коротко сказал он. – Я не устал пока”. Диалоги Хрущева с миллиардерами в особняке Гарримана взяты из записей, сделанных на слух Дж. К. Гэлбрейтом, которого они позабавили, в статье J. К. Galbraith. The Day Khrushchev Visited the Establishment.
53 Господа, я стреляный воробей! См. Taubman. Khrushchev, р. 429.
1.3 Пластмассовые стаканчики. 1959 год
58 Так, запомните, – продолжал Христолюбов. Этот одноухий партийный работник выдуман, однако кампания по управлению реакцией советских посетителей Американской выставки, в рамках которой туда засылали пары комсомольцев, призванных встревать с каверзными вопросами, была вполне реальной. См. Walter Hixson. Parting the Curtain: Propaganda, Culture and the Cold War, 1943–1961.
59 Американские девушки в платьях в горошек до колена. Фотографии Американской выставки в парке “Сокольники” и ее московских посетителей можно найти в журнале Life Magazine, vol. 47 no. 6, 10, August 1939, pp. 28–35 (пластмассовые стаканчики упомянуты на с. 31); описания экспонатов – в HiXSON. Parting the Curtain. Прочесть о том, какие цели преследовал дизайн купола Бакминстера Фуллера, можно в статье Alex Soojung-Kim Pang. Dome Days: Buckminster Fuller in the Cold War в сборнике Cultural Babbage: Technology, Time and Invention. Реакция прессы в США отражена в The New York Times, vol. CVIII, no. 37072, 25 July 1939, PP– 1-4-59 Она добавила к нему зеленый кожаный пояс, купленный на блошином рынке. То есть на одном из разрешенных рынков или распродаж из багажника машины (правда, багажников там не было), на которых советские граждане могли продавать свои подержанные вещи. Можно было избавиться от старья, можно было выставить на продажу собственные изделия, например картины или резные деревянные ложки, однако невозможно было производить что-либо, не угодив под статью 162 Уголовного кодекса, где речь шла о занятиях запрещенными промыслами, а также перепродавать вещи, купленные в государственных магазинах, поскольку это противоречило статье 154, запрещающей спекуляцию. Тонкости советских законов о частной собственности можно найти в Р. CHARLES Hachten. Property Relations and the Economic Organization of Soviet Russia, 1941 to 1948: Volume One.