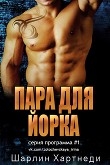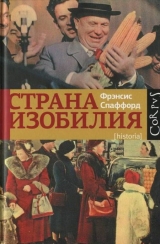
Текст книги "Страна Изобилия"
Автор книги: Фрэнсис Спаффорд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
– Да ладно вам, вы что, стрелять в нас будете?
– Сам ты разойдись!
– А ты кто такой нашелся приказывать?
– Вставайте вместе с рабочими!
– Микояна пришлите!
– Мя-со, мо-ло-ко, по-вы-ше-ни-е зар-пла-ты!
– Идите по домам, – в голосе офицера прозвучало что-то новое, что заставило часть толпы опять засмеяться, но другая часть нервно зашевелилась. – Считаю до трех, если не начнете расходиться, мне ничего другого не останется. Считаю до трех и даю команду стрелять. Раз.
Солдаты в первом ряду на ступенях горкома опустились на одно колено и подняли винтовки, но направили их не на толпу, а в небо, словно почетный караул на очень шумных похоронах. На этом коллективный голос толпы в самом деле изменил тональность: он понизился до взволнованного басового бормотания, сидевшие на траве поднялись на ноги. Край толпы, находившийся ближе всего к горкому, даже отодвинулся на несколько метров, отступая от ряда винтовок.
– Два, – прокричал офицер. – Домой идите, говорю же вам, идите домой!
Толпа колыхнулась, но кто-то выкрикнул:
– Не станут они в людей стрелять, – и бастующие снова волной двинулись вперед, люди в первых рядах с меньшим энтузиазмом, но их несли напиравшие сзади.
– Три, – проорал офицер во внезапно установившуюся тишину.
Толпа стояла. Солдаты ждали. Офицер беспомощно вытащил свой пистолет и выстрелил в воздух над головой; раздался слабый треск; солдаты, стоявшие на коленях, по сигналу дали раскатистый залп, гораздо громче, и от ступеней горкома поднялись облачка ружейного дыма.
Испуганные крики, неуклюжее движение назад на площади, затем – неясное осознание того, что никто не ранен. Перекличка, выкрики из передних рядов назад, словно телеграф голосов, тот самый, по которому вчера утром было передано курочкинское оскорбление; и выкрики, призванные обнадежить – невероятно, словно в кошмарном сне.
– Стойте, не поддавайтесь!
– Не будут они в людей стрелять!
– Это же холостые!
Володя услышал, как одна женщина прямо под ними закричала:
– Стреляют, убьют нас!
Ей тут же ответил мужской голос:
– Ты в своем уме? В наше-то время?
И толпа, которая, казалось, готова была вздрогнуть и разъединиться, вновь срослась.
– Тц-тц, – пощелкал языком монах. – Храбрые какие.
Володя вытянул шею, ища глазами подкрепление. Наверняка они сейчас высыплются из переулков, основные силы, чтобы отодвинуть бастующих, может, даже побить их дубинками. Но тут в правое ухо ему ударил, словно молотком, звук, от которого помутилось в голове. Мир зазвенел; потом зазвенел снова, сперва чудовищно громко, потом звук стал глуше, а удары молотка все повторялись и повторялись, один за другим. Стреляли не они – не солдаты на ступенях горкома; последние тоже дрогнули, стали дико оглядываться по сторонам, пытаясь понять, откуда доносятся новые выстрелы. Это стреляло подразделение с Володиной крыши, а также с других крыш: они опирались коленями на ограждения и палили вниз, из винтовок неспешными фонтанчиками меди вылетали, крутясь, использованные гильзы. И эти пули не исчезали в небе – их намеренно всверливали в тело толпы, которая затряслась, дала трещину, распалась, и обнаружилось, что она состояла всего лишь из отдельных тел: мужских, женских, детских. Мужчина за шестьдесят, седобородый, со щеками пьяницы, недоуменно поворачивался на месте, как раз там, куда смотрел Володя, а все вокруг судорожно двигались. Как раз туда явно смотрел и один из Володиных соседей с ружьем: ближняя сторона головы мужчины провалилась, дальняя выплеснула из себя красно-серый гейзер. Брызги попали в лицо женщине, держащей на руках ребенка, она начала кричать, но никакие звуки до Володи не доходили. Он и сам закричал; он повернулся, замахал руками в лицо мужчине-монаху и заорал:
– Прекратите! Прекратите! Что вы делаете?
Мужчина с монашеским лицом протянул свои большие, мягкие, ухоженные руки и схватил Володины запястья, притянул его поближе, заговорил ему в ухо.
– Сядь, – сказал он. – Сядь-ка, сынок, и помолчи. Скажи спасибо, что ты тут, наверху, а не там, внизу.
Володя сжался, припав к ограждению, но через просветы между гипсовыми колоннами ему по-прежнему было видно происходящее. Он видел, как люди пытаются бежать, но перемещаются медленно, будто во сне, видел, как их рты движутся, выталкивая из себя страх, слог за слогом, а пули тем временем летят как ни в чем ни бывало – летят рядом, прорываются через них. Он видел, как человек споткнулся и упал, потому что теперь у его ноги появился новый сустав – кратер посередине бедра. Он видел, как льется кровь из ушей. Он видел кровь, в которой были зубы. Он видел лицо, превращенное в месиво. Он видел развороченное колено. Это было уму непостижимо. Разве душа должна нападать на тело? Разве голова может нагнуться и начать жевать плоть руки? Это было уму непостижимо! Володе приходилось думать – об этом думали все те, кому повезло родиться позже, – о том, как бы он вел себя на войне; он всегда подозревал, что в бою он мог бы оказаться полезным: он был хладнокровен, ему удалось бы взять себя в руки и не обращать особого внимания на страдания, если они не его собственные, – ведь к остальным он гораздо чаще испытывал раздражение, чем какие-либо более сильные чувства. Но он оказался неправ. Взять себя в руки тут было невозможно. Он смотрел, и в лице его возникало что-то жуткое, печаль или страх (а есть ли разница?); оно накачивалось в ткани, создавало вокруг глаз такое давление, которое не в состоянии были облегчить слезы. Они бежали по его лицу, но ничего не меняли – для этого им пришлось бы вырываться из него с такой же силой и скоростью, как зарядам из винтовок. Уже трещали окна на углах площади и улиц Московской и Подтелкова – огонь гнал толпу в том направлении, откуда она пришла. Разбилось витринное стекло парикмахерского салона. Парикмахерша средних лет ветром пролетела по залу, и ее не стало. А они все стреляли и стреляли. Тогда Володя обхватил голову руками и в самом деле сказал спасибо.
Когда стрельба прекратилась, площадь опустела, если не считать тел; одни шевелились, другие нет. Теперь тут царили два новых запаха: запах горелого, кордита и другой, свежий, жаркий, как у мясного магазина сразу после прибытия грузовика с товаром. Володя потащился назад, к лестнице, за спускающимися солдатами, под его ногами звенела израсходованная медь. На первой площадке его резко стошнило. Мужчина с монашеским лицом подождал его по-приятельски, зажег очередную сигарету.
– Привыкнешь, – сказал он.
Нет, ни за что, поклялся Володя. Нет, ни за что.
Старик взял мешок в зубы и полез на небо; лез– лез, долго лез; старухе стало скучно, она и спрашивает: “Далеко ли, старичок?” – “Далече, старуха!” Опять лез-лез, лез-лез. “Далеко ли, старичок?” – “Еще половина!” Опять лез-лез, лез-лез. Старуха снова спрашивает: “Далеко ли, старичок?” Только старик хотел сказать: “Недалече!” – мешок у него из зубов вырвался, старуха на землю свалилась и вся расшиблась. Старик спустился вниз по кочешку, поднял мешок, а в мешке одно костье, и то примельчалось.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
В тот же день, когда на площади в Новочеркасске погибли 28 человек, Хрущев выступил с речью перед советской и кубинской молодежью. Он намеревался говорить о чем-то другом, но по наитию заговорил о повышении цен. Он сказал молодым людям, что надеется: Микоян с Козловым сумеют убедить бастующих в том, что подорожавшие мясо и масло заставят сельское хозяйство “расти как на дрожжах!” Он все крутил эту тему, то так, то эдак. “А что нам было делать?” Он сказал, что правительство верило в здравый смысл граждан. “Мы решили сказать правду народу и партии”. Теперь, зная то, что мы знаем, трудно не расслышать в этих словах смятение и гнев. Заявление Политбюро поразило население, наученное считать, что цены могут только падать, и в то же время оно представляло собой один из немногих примеров в советской истории, когда те, кто принимали решения, на самом деле попытались сообщить народу свои доводы. Хрущев принял совет специалистов. Он попытался поступить правильно, в духе антисталинизма, а в результате лишь снова оказался повинен в массовом убийстве.
Возможно, его настроение удивило молодежь, однако никто не заметил никакого несоответствия – ни в тот день, ни на другой, ни в последовавшие за тем много лет, потому что советскому народу, разумеется, не сказали правду о событиях в Новочеркасске. Кровь с земли смыли с помощью пожарных шлангов, а когда увидели, что пятна все равно остались, на площади за ночь положили свежий слой асфальта. Тела распределили по пяти разным кладбищам и захоронили анонимно, в могилах, уже заполненных более мирными останками. Родственникам так и не сообщили, что сталось с погибшими. Они словно внезапно испарились. В газетах, по радио и телевидению о расстреле не появилось ни слова; на городских студентов и рабочих было оказано сильное давление, чтобы заставить их усомниться в том, свидетелями чего они стали, а если они упорствовали и продолжали об этом вспоминать, то по крайней мере вынуждены были делать это молча, не на людях. Были кое-какие беспорядки, вызванные горсткой бузотеров, теперь все они предстали перед судом и были наказаны за свои преступления. Вмешались власти, спокойствие было восстановлено, вот и все.
Поскольку никто ничего не знал, не считая людей в самом Новочеркасске, а позже – тех, до кого донесся самиздатовский шепот, ничья репутация в результате расстрела не пострадала. Фрол Козлов оставался непосредственным преемником Хрущева, пока в апреле следующего года с ним не случился инсульт. Анастас Микоян продолжал играть роль цивилизованного советского политика. Гораздо более сильные последствия имели события, разыгравшиеся на виду у всех: карибский кризис, в который Хрущев вляпался осенью, когда никто не погиб, но могли погибнуть миллиарды, и неурожай пшеницы в следующем году, положивший конец его предсказаниям об успехах, ожидавших сельское хозяйство, которому он сулил рост как на дрожжах. К тому времени Хрущев обзавелся сияющей лысиной, лишь над ушами остался белый пух. Анекдот того времени: “Как называется прическа Хрущева? «Урожай 1963 года»”. В сравнении с этими событиями новочеркасский расстрел прошел практически незаметно. Он не имел никаких последствий ни для чего – не считая мышления Политбюро.
К 1963 году в схеме академика Немчинова, направленной на преобразование советской экономики математическим способом, сошлись воедино почти все составляющие. По всему Советскому Союзу появились новые кибернетические институты и факультеты, которым не терпелось сложить недостающие куски головоломки – а может быть, нескольких разных головоломок. Создавались математические модели для предложения, спроса, производства, перевозок, расположения предприятий, краткосрочного планирования, долгосрочного планирования, секторного, областного, народного и международного планирования. Поступали заказы на автоматизированные системы контроля для предприятий. Группа кибернетиков, работавших на армию, предлагала всесоюзную систему данных, которую могли бы использовать как гражданские, так и военные. Однако сам Немчинов больше не стоял у руля. Еще одна жертва 1963-го, он был слишком болен, чтобы продолжать бороться за прогресс, выступать в качестве покровителя процветающей, разрастающейся науки, которую помог создать. Когда его собственная рабочая база в Академии расширилась и превратилась в полностью автономный ЦЭМИ, Центральный экономико-математический институт – здание среди грязных новостроек на Нахимовском, полотнище в вестибюле с надписью “За оптимальность в экономике”, – он не смог стать его директором. Союзам единомышленников, которые он создал, предстояло работать самостоятельно. Плавная задача, – сказал он, выступая на новой конференции в Академгородке, – состоит теперь в повсеместном введении результатов исследований”. Остальные не были столь уверены в том, что исследования завершены или что все их результаты указывают на одно и то же. Группа академика Глушкова в Киеве на первое место ставила прямое кибернетическое управление всей экономикой, что позволило бы совсем избавиться от необходимости пользоваться деньгами. Народ из Академгородка призывал к разумному ценообразованию. Харьковский экономист Евсей Либерман вызвал бурю своей статьей в “Правде”, призывая сделать прибыль главным показателем промышленного успеха. Однако все эти интеллектуальные усилия были направлены на скорейшее практическое улучшение советского народного хозяйства – всех его десяти тысяч предприятий, а также систем, которые объединяли и координировали их работу. Отсчет времени до наступления рая на земле, согласно партийной программе, требовал, чтобы экономика в течение 60-х росла со скоростью, с которой она росла по официальным данным 50-х: 10,1 %. Экономисты решили поддержать это предложение, быстро найдя теории применение в цеху. Шахты, универсальные магазины, химические заводы, зверофермы, грузовые склады – все это необходимо было оптимизировать.
Каждый год каждое предприятие в Советском Союзе должно было согласовывать с вышестоящей организацией техпромфинплан. Техпромфинплан включал в себя финансовые доходы предприятия и технику, которую оно собиралось использовать в следующем году, но самое главное – в нем устанавливались производственные планы. Там указывалось, что должно произвести предприятие для выполнения своего плана, в каких количествах и какого качества. Директорам полагались премии, если они перевыполняли план, и штрафы за его недовыполнение. Способы составления техпромфинплана постоянно менялись по мере того, как инициативы сверху перетряхивали советскую бюрократию. Но всегда имелись три основных участника. На самой нижней ступени находилось предприятие, на самой верхней – Госплан, а в середине обычно стоял посредник. Иногда посредники собирали под своим управлением все предприятия одной конкретной области индустрии, и тогда это называлось “министерством”. Например, Минрадиопром – Министерство радиопромышленности. Но в то время о котором идет речь, посредником был совнархоз, региональный экономический совет, которому подчинялись все предприятия в одной географической зоне страны, какую бы продукцию они ни выпускали.
При чтении официальных документов, опубликованных Госпланом, где описывалось, как работает система, у вас сложилось бы следующее представление. Каждую весну, когда реки Советского Союза превращались в мороженое из сырого льда, Госплан проводил анализ прошлогодних показателей, уделяя пристальное внимание стратегическим приоритетам народного хозяйства и общей картине движения к коммунистическому изобилию. Но еще до того, как эта работа была закончена – увы, времени на то, чтобы делать все в строгой последовательности, никогда не хватало, и годовые показатели обычно учитывались в качестве оценок, которые впоследствии уточнялись, – на предприятия уже посылали заявки. В этих документах предприятия требовали поставки, которые понадобятся им на следующий год для работы. Но предприятие, естественно, еще не знало, какой объем производства ему укажут. Поэтому руководство прикидывало, сколько угля, газа, электроэнергии, шерсти, аммиака, медных труб, пенопласта и т. д. может им понадобиться – на каждый материал полагалась отдельная форма, – на основе возможного процентного прироста к прошлогодним цифрам. Где– то в конце июня Госплан заканчивал составление проектов производственных планов. Сверху, из Госплана, их спускали в управление совнархозов в то же время, когда снизу прибывала масса заявок и предложений по производству от предприятий; за этим следовал период переговоров, в течение которого совнархоз вместе с предприятиями исследовал реальные производственные возможности этих предприятий. “Контрольные цифры” Госплана поступали, для простоты обработки, в виде объединенном: основные категории производства, от черных металлов до продовольствия. Совнархозу следовало разбить их на конкретные виды продукции, выпускаемой в данном регионе, и поделить их производство между предприятиями. Стоит ли говорить, что руководство предприятия предпочло бы менее высокий план и более щедрые поставки материалов, чем те, что соответствовали всеобщим интересам народного хозяйства. Переговоры продолжались до тех пор, пока совнархоз не налагал на предприятие жесткий, но выполнимый уровень выпуска продукции, а также скудный, но терпимый уровень поставок. Затем, где-то в конце сентября, совнархоз сводил вместе все пересмотренные заявки и производственные планы своего региона и отсылал их в Госплан.
Госплан суммировал все заявки, присланные со всей страны, и получал цифру общего спроса на каждый товар, а также суммировал все производственные планы и получал цифру общего предложения каждого товара. Этот метод назывался "межотраслевым балансом”. Он обеспечивал ситуацию, когда при каждом шаге социалистической экономики вперед количество любой производимой в СССР продукции уравновешивало количество любой продукции, которая для этого требовалась. Однако бывало и так, что эти две цифры поначалу не вполне соответствовали друг другу. Тогда следовал второй период переговоров, на этот раз между Госпланом и различными совнархозами, в ходе которых Госплан всячески старался ограничить спрос (или хотя бы отдать предпочтение стратегически более важным секторам) и расширить предложение. Переговоры продолжались, пока Госплан и совнархозы не сойдутся на сложной, но выполнимой производственной программе. Когда равновесие в экономике было достигнуто, Совет министров подписывал решение Госплана в конце октября, после чего времени только-только оставалось на то, чтобы спустить окончательные производственные планы и квоты поставок в совнархозы, чтобы совнархозы поделили их между предприятиями, а предприятия пустились на поиски необходимых материалов на следующий год, пользуясь огромным каталогом номенклатуры, где перечислялись все наименования продукции, выпускаемой в Советском Союзе. Эта последняя волна документации проходила по народному хозяйству в начале декабря. Теперь, когда их заказы на снабжение в наступающем году были твердо установлены, руководители могли расставить точки над “и” в своих техпромфинпланах и (зажав в руках драгоценные бумаги) сесть на поезд, чтобы доставить их в совнархоз перед самым Новым годом, в предвкушении заслуженных праздников.
Пока все ясно?
Хочу, чтоб явилась передо мной Лебедь-птица, красная девица, сквозь перьев бы тело виднелось, сквозь тело бы кости казались, сквозь костей бы в примету было, как из косточки в косточку мозг переливается, словно жемчуг пересыпается.
1. Межотраслевой баланс. 1963 год
Максим Максимович Мохов был человеком очень добрым. Это отмечали все его коллеги. Когда он ездил в командировки в страны СЭВ, то всегда привозил оттуда какой-нибудь подарок, причем что-нибудь продуманное, ни в коем случае не стереотипные, всем известные вещи, которыми славились эти места. Например, из Болгарии он привез своей секретарше флакончик настоящего розового масла, украшенный бантиком, – слишком крепкое, как обычные духи не используешь, но все равно приятно. Когда она его раскупорила, воздух Госплана наполнился тяжелым густым запахом, как будто в миску с водой влили краситель. Из Польши он привез керамические таблички с королями и рыцарями, тонкие и хрупкие, словно печенье в глазури. Из Швеции приехали детские игрушки, красивые, сделанные из дерева. У него самого детей не было, поэтому он раздал их своим заместителям в отделе; а когда семилетняя дочка одного из них написала ему письмо с благодарностью, он ответил: лист бумаги, исписанный аккуратным почерком, а вместо многих существительных – очаровательные рисунки. Лошадь вместо “лошади”, к примеру.
Говорили, что в своей личной жизни он проявлял такую же внимательность. Его жена погибла во время блокады Ленинграда, когда обоим им не было еще и тридцати. Больше он так и не женился, но с самого конца войны состоял в связи с женщиной в похожей ситуации, некогда молодой вдовой, теперь уже довольно старой. Несколько лет назад эта дама попала в какую-то аварию, в результате которой пострадало ее лицо, что вызвало огромные трудности и, как поговаривали, окончательно испортило ее внешность. Максим Максимович все это время оставался ей верен, находил ей лучших врачей, не предпринимал никаких шагов, чтобы найти вместо нее новую любовницу, хотя человеку в его положении это было бы нетрудно. Несколько молодых женщин, работавших в том же здании, были вполне готовы – на них произвела впечатление его верность. Когда на Международный женский день он раздавал традиционные букеты, на него смотрели с сочувствием и восхищением. Однако он, по-видимому, не собирался ничего менять. По вторникам они с этой дамой обычно ходили на концерт или в оперу. Видели, как перед самым уходом он стоял у зеркала у себя в кабинете, приводя в порядок напомаженные волосы и предпринимая попытки придать кустистым бровям менее дьявольский вид. Затем он щегольским движением снимал с вешалки пальто, проверял внутренний карман – на месте ли конверт с билетами – и направлялся к выходу по длинным коридорам, любезно наклоняя темную голову и тощие плечи при встрече со знакомыми.
И все-таки какая голова. Ум острый, как бритва. При всей своей доброте он давал почувствовать: его забавляет то, что он понимает про окружающих, а возможно, и то, что он понимает про себя. Что бы ни творилось вокруг – во времена лихорадочной деятельности или разоблачительных кампаний, когда людей охватывали отчаяние или ликование, почтительность или тревога, – на него всегда можно было положиться. Он поднялся в Госплане до самых высот еще до того, как на эти должности стали назначать из чисто политических соображений, – иными словами, стоял во главе одного из промышленных отделов, не будучи при этом частью аппарата общего руководства на вершине пирамиды, куда обычно брали людей из ЦК. И тем не менее, поскольку уровень его был таков, на котором компетентность, как известно, достигала своего потолка, люди, там оказавшиеся, парадоксальным образом были порой куда важнее, чем следовало из названия их должности. На бумаге Максим Максимович был заместителем начальника отдела химической и резиновой промышленности, отвечающим за 41 стратегически важное изделие подведомственной ему индустрии, на подробное рассмотрение которых у формальных начальников отдела редко оставалось время – они ведь были аппаратчиками, вечно торопились, часто не успевали собственный зад почесать обеими руками, не говоря уже о том, чтобы проанализировать финансовую отчетность химзавода. А это было весьма существенно, поскольку теперь химическая промышленность являлась важнейшим сектором, растущим до того быстро, что на то, чтобы держать под контролем ее рост, от плановиков требовались все их умения. Однако на практике каждодневное управление отделом осуществляли, в свою очередь, надежные помощники Максима Максимовича, поскольку самого его теперь часто вызывал к себе министр Косыгин, находившийся на самой вершине пирамиды Госплана, вызывал в качестве одного из своих ближайших советников, что было лестно.
Год за годом Максим Максимович изучал самые напряженные участки, потайные ходы плана и их взаимосвязь. Ему был присущ тонкий реализм. Он способен был высказать мнение по поводу целого ряда вопросов, о том, что сработает, а с чем возникнут трудности, на первый взгляд непредвиденные. Более того, он был в курсе (насколько ему это позволяла библиотека Госплана) западных комментариев по поводу плана, которые умел переводить на язык советских терминов. Он в идеологически выдержанном стиле мог объяснить вам, что имеют в виду иностранцы, когда говорят, что советская система страдает от “подавляемой инфляции” или “рынка с постоянным преобладанием спроса”. И наоборот: он мог понять, в каких случаях развитие плана способно открыть новые экономические возможности для Советского Союза на Западе. Отсюда и командировки, в которые его теперь посылали: не в Румынию, чтобы поговорить о нейлоне, а в Стокгольм, помочь Косыгину в переговорах с капиталистами. Он ехал на откидном сиденье министерского “ЗИЛа” в окружении других компетентных лиц из Министерства торговли, финансов, из Госбанка. Затем – скромный зал заседаний, где с одной стороны сидели советские специалисты по деньгам, а с другой – западные: займы, кредиты, закупки пшеницы, продажа нефтепродуктов. Максим Максимович не мог не заметить, что по ту сторону стола люди из разведки и сотрудники безопасности обслуживали банкиров, тогда как с его стороны банкиры шептали советы в ухо комиссару. Он понимал, что на Западе этот лимузин был бы его собственный. Можете не сомневаться: эта мысль проявлялась лишь в том, что его взгляд становился чуть более ироничным.
В это октябрьское утро Максим Максимович, вероятно, не стал бы сам заниматься балансами, если бы не эпидемия гриппа, которая пронеслась по высотке Госплана, свалив с ног нескольких его подчиненных как раз в то время, когда начались безумные последние недели пересмотра плана. Положение было смехотворное – и все же какой подъем он испытывал, снова обратившись к конкретным деталям системы, к ее нескончаемым принятиям самостоятельных решений, к ее скрытым психологическим мелочам, к ее побочным сложностям. Катя перед собою свое любимое кресло по выложенному елочкой паркету восемнадцатого этажа, он насвистывал себе под нос. Кресло было любимым, потому что его можно было катить. Это была хитроумная затея восточногерманских мастеров, ужасно удобная, с четырьмя колесиками на ножках, изгибом выходящих из центральной металлической колонны. Он сам привез его в Москву, поездом из Берлина, и пользовался им, чтобы кататься туда-сюда по кабинету с устрашающей скоростью. На сиденье два тома коэффициентов затрат химической промышленности придавливали тонкую папку с корреспонденцией.
– В бой идете? – сказал проходивший мимо сотрудник из цветных металлов.
– Так закалялась сталь, – ответил он.
– Сколько у вас уже свалилось?
– Пока одиннадцать, плюс еще двое подозрительно зеленые ходят. А у вас?
– Еще хуже!
Балансы хранились в длинной, похожей на библиотеку комнате с канцелярскими шкафами по стенам, под присмотром похожей на библиотекаршу мегеры, сидевшей за столом в центре. Мохов показал пропуск – хотя для него это было не совсем обязательно – и уселся на место, где, на его удачу, имелись свободные счеты. Он слегка театрально поддернул манжеты и открыл папку. Эта комната многие годы была его вотчиной и по-прежнему его вдохновляла. В этом году тут в серых металлических ящиках лежали 373 папки, в каждой находились рабочие материалы по балансу на определенное промышленное изделие. 373 наименования, представленные как можно более общим образом, так что каждое из них заключало в себе под одним заголовком то, что на практике было массой различных изделий. И все-таки колоссальную продукцию всей экономики в целом им удавалось охватить лишь весьма условно, в самых общих чертах. В номенклатуре продукции по одной только электротехнической промышленности числилось четверть миллиона отдельных наименований. Деятельность столь огромного, столь безнадежно многодетального механизма никак невозможно было уместить в 373 папки. Следовательно, было бы глупо полагать, что в этой комнате содержалось народное хозяйство в каком-либо существенном смысле. В лучшем случае можно было сказать, что тут содержалось некое стратегическое описание его. Нет, не совсем так. В лучшем случае про эту комнату можно было сказать, что она выполняет свою задачу уже тридцать лет. В некоторых папках прослеживались основы промышленности сталь, бетон, уголь, нефть, древесина, электроэнергия. Некоторые были посвящены поставкам продовольствия, сельскохозяйственным затратам на тракторы и удобрения. Некоторые содержали секретную информацию о военной технике. Некоторые описывали производство весьма специфических деталей важнейшего оборудования, поскольку от этих инструментов зависело существование целых секторов. В некоторых уделялось особое внимание новым технологиям, только что пущенным в ход. Некоторые были посвящены вещам, которые использовали в разных отраслях промышленности. Это был аппарат, созданный не закономерно, на основе некоего набора аксиом, но случайным образом. Он не был результатом какой-либо экономической теории. Но он действовал. Он обеспечивал экономику необходимым – предоставлял место, где раскрывались несопоставимые требования, к ней предъявляемые, где они наконец выходили на поверхность и требовали, чтобы их привели во взаимное соответствие, причем со всей искусностью, на какую способен плановик. А искусность тут действительно была необходима, ведь эти 373 товара существовали не сами по себе – они были взаимосвязаны. Изменения в производстве одного могли повлиять на множество других. В это время года сотрудники разных отделов разбирались с последствиями своих собственных поправок, папка за папкой, пытаясь добиться, чтобы балансы были согласованы друг с другом, пытаясь добиться, чтобы балансы были сбалансированы, – пока еще есть время, пока не пришел срок закончить работу и отослать краткий отчет о состоянии, в котором пребывает комната, в Совет министров на одобрение. Отчет представлял собой 22 тома цифр, что-то около четырех тысяч машинописных страниц, погруженных на тележку.
Итак. Максим Максимович, перебирая длинными пальцами, разложил по столу документы и телеграммы. Небольшое затруднение с “Солхимволокном”, вискозной фабрикой в городе Соловце, лежащем далеко, в зеленом мраке северных лесов. Это было одно из предприятий нового поколения химволоконной промышленности, возникшее на памяти Максима Максимовича наряду с большими новыми заводами в Барнауле и Светлогорске, и на этой стадии своего развития проблем оно создавать не должно было: оборудованию всего четыре года, сложности, связанные с наладкой, давно позади. У них была собственная машина для рубки древесины, позволяющая получать щепу, хорошее большое озеро – источник воды. Энергия поступала по 220-киловольтной линии с одной из гидроэлектростанций в верховьях Волги. Все остальное привозили и увозили по железной дороге. По сути, туда поступали только соль, сера и уголь, оттуда – вискоза. В том-то и состояла особая простота производства вискозы с точки зрения плановика. Все остальные, более сложные химические материалы, необходимые для процесса, – серную кислоту, щелок, сероуглерод – перевозить в больших количествах было затруднительно. Все это следовало производить на месте, на самой фабрике, а это означало, что на взгляд человека, которого интересует главным образом система снабжения – взгляд отдаленный, абстрактный, – вискозную фабрику можно считать надежной. Она относительно нечувствительна к срывам поставок. Поставки можно осуществлять из множества источников. Она не зависит от проблем в других местах. Подавай туда сырье, и этот экономический черный ящик будет пыхтеть, споро превращая деревья в свитера, целлофан и кордную ткань повышенной прочности для автопокрышек. Максиму Максимовичу всегда казалось, что этот физический процесс устроен весьма удачным образом – а также прекрасно согласуется с учебниками по политэкономии. Деревья – в свитера! Грубая материя поднимается на новый уровень, чтобы служить человеку! Что может быть лучшим проявлением диалектики? Кто знает, возможно, именно эта мысль присутствовала в решении Никиты Сергеевича о том, что в его светлом будущем граждане должны главным образом носить вискозу и полиэстер. Да, вискозная фабрика – активное начинание, способное пробудить природу от спячки и поставить на службу людям. К сожалению, при этом она создает отходы – множество лигнинов и отравляющих сернистых соединений, но Соловец ведь порядочно удален от всех населенных пунктов.