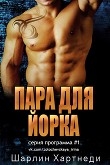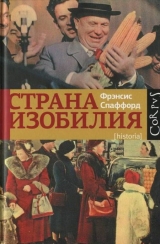
Текст книги "Страна Изобилия"
Автор книги: Фрэнсис Спаффорд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
В эти последние годы он все лучше, капля за каплей, начинал понимать то, что происходит в его время, совсем рядом, за углом, за сценой, обернись – и увидишь; прежде он был как ребенок в сказочном лесу, который видит одну только зеленую листву и слышит одно только птичье пение впереди, а все чудища у него за спиной. Тихие беседы с хореографом, вернувшимся оттуда после десятилетнего срока почти беззубым – выжил он потому, что, как все танцовщики, был вынослив. Секреты дядиного приятеля, энкавэдэшника, утопившего ясность ума в бутылке, который знал, что юный Саша – свой, из наших, ему можно доверять, поэтому говорил, прикривая стыд смешками, впадая в кошмарные приступы хихиканья, о знаменитом 37-м годе, когда их привозили воронок за воронком, так часто, что пуль не хватало, а сток в полу подвального коридора иногда забивался, и какому-нибудь бедолаге приходилось лезть в эту кашу, выуживать осколки костей и клоки человеческих волос. Разговоры старых солдат, перемежаемые молчанием, – слушая их, можно было сложить два и два. Кое-что удалось почитать в Париже. Неопределенные взрывы откровений в газетах на родине, обезличенные шифрованными фразами о “нарушениях социалистической законности”. Закрытый доклад самого Хрущева в 56-м, который ему передали в красной папке с грифом “не для печати”. Капелька информации тут, капелька там, пока он наконец не понял, что его счастливый мир основан на ужасе. Подобно городу Петра на Неве, его город был построен на фундаменте из раздавленных людей – внизу лежали сотни тысяч, возможно, даже миллионы. Причем слишком переживать по этому поводу не полагалось. Достаточно было, что тебя заверили: больше подобное не произойдет, ошибки совершались, но они уже исправлены. Нет смысла оглядываться назад. Ни к чему ворочаться в постели в своей хорошо обставленной квартире и вспоминать, каким образом ты помог придать этому ужасу эстрадную улыбочку, прерывая действие фарсом, песнями и танцами.
А теперь, как раз когда он начинал ненавидеть свою удачу, она словно распространялась, делалась повсеместной. Он не был экономистом; он понятия не имел, какая часть хрущевского плана выполнима. Однако Воробьевы горы превратились в сплошную огромную стройплощадку. Новые бульвары, отмеченные колышками и веревкой, отходили от дороги, которая не так давно была однополосной ниточкой щебенки. На каждом округленном возвышении стояли краны; свисавшие с них бетонные панели поднимались, колыхаясь, вверх, заполняя остовы бесконечных новых многоквартирных домов, которые, как и все вокруг, омывал сегодняшний чистый воздух.
Эти бледные панели вселяли надежду своей белизной, как у чистого листа. Глядя на них, можно было почувствовать, что для людей, не живущих среди янтаря и инкрустаций у “Аэропорта”, пришел конец клоповнику. Хватит им копошиться в темноте и сырости. На Воробьевых горах поднимается новый светлый город.
– Много теперь строят, – пустил пробный камень Галич.
– Ага, Никита Сергеевич у нас прямо волшебник! – ответил таксист.
Интересно, он это искренне? Или под настроение может и про хрущобы пошутить? Поди пойми – он произнес это с каменным лицом, не давая возможности свести слова к какому-то одному смыслу. Обычно Саша восхищался этим народным искусством недосказывать, однако сегодня он лишь почувствовал себя от этого еще более одиноким в своем личном сгустке тьмы. Москва светилась, как икона, будущее сияло; один он остался в стороне от счастливого согласия. На следующем углу по торцу здания хлопало, подергиваясь рябью в вышине, громадное полотнище с честным лицом Юрия Гагарина, а под ним – слова, которые он якобы сказал тогда, в апреле, когда под ним запалили ракету: “поехали”. Ввысь вместе с Юрием! Вверх, к звездам; в небеса по Никитиной лестнице – той, что основанием стоит в каше из крови и костей.
Радио ревело в знак одобрения.
Везет Саше Галичу. Везет ему – все заседание по литовке текстов шутит; везет ему – болтает с актерской братией, пока они репетируют гвоздь нынешнего сезона; везет ему – направляется домой с очередной юной красоткой. А потом, после объятий, когда он засыпает, она стоит у окна его квартиры, откуда рукой подать до станции “Аэропорт”, курит и чувствует, что он ушел от нее – куда-то далеко, гораздо дальше, чем в ту легкую печаль, куда уходят обычно, когда сросшиеся тела разделяются на два остывающих островка, каждый к своему “я”. На расстоянии красным неоном мигает “1980”: 1980, 1980, 1980, словно городу не нужно никакой другой колыбельной, кроме этих цифр. Пошел дождь. Она собиралась поговорить с ним о роли, которую ей предложили, не в столице, зато главная, и режиссер хороший; но вышло как-то так, что Сашино очарование заполнило собой все – ей некуда бьио вклиниться. Да, думает она, поеду в Минск. Тут почти ничего не держит.
– Ничего, душа моя! Ложись-ка спать; утро вечера мудренее.
1* Немецкий? Итальянский? Французский? А, французский. Господа, извините, но тут не ресторан, тут клуб советских писателей (франц.).
2* Черт! (франц.)
3* Вы случайно не журналисты? (франц.)
4* Да. Агентство “Франс Пресс”, (франц.)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
В 1930 году большевики закрыли университеты. Остались только два, самые знаменитые, в Москве и Ленинграде, подвергшиеся кардинальным сокращениям. Однако это не было нападением на образование как таковое в отличие от того, что впоследствии произошло в маоистском Китае или, в еще большей степени, при красных кхмерах в Кампучии, где власти ставили целью полностью избавиться от интеллектуальной жизни, оставив в качестве фундамента для нового общества беспросветное невежество. Не было это и попыткой обойтись без интеллигенции. Университеты были закрыты, но затем их открыли снова, сильно расширенными, переделанными в фабрики по производству интеллектуалов нового типа.
С интеллектуалами старого типа большевикам приходилось нелегко с самой революции. Унаследованный ими весьма малочисленный профессорский состав – малая доля образованного населения, которое само по себе составляло малую долю российского грамотного меньшинства – был продуктом этических традиций более чем столетней давности. Дореволюционные российские интеллектуалы обладали чувством общественной ответственности, какого не испытывали их коллеги за границей. С начала XIX века любому образованному человеку было ясно, что царский режим – постыдный анахронизм, средство угнетения. Поэтому принадлежность к немногочисленным счастливцам, способным читать о том, что происходит в мире за пределами страны, возлагала определенную ответственность за положение дел в России; надо было попытаться что-то сделать – как правило, не в прямом политическом смысле, если ты был не из тех, кому свойственен обостренный идеализм, но путем создания иной России в культуре, в романах, поэзии и искусстве, такой России, где глупость не возводилась на престол. Быть интеллектуалом прежде всего означало понимать: ты – по крайней мере потенциально – являешься одним из тех, кто говорит истину царям. Уже одно то, что ты учишь и учишься, одно то, что ты читаешь и пишешь, означало, что ты неявным образом выступаешь в роли свидетеля, пророка жизни, выходящей за пределы обычной.
Подобное отношение означало, что, хотя интеллектуалы в целом приветствовали революцию как конец царизма, ленинскую версию марксизма поддержали очень немногие из них, даже – или особенно – когда за ней встала государственная власть. Действительно, ряд ученых, которые готовы были преподавать марксизм до революции, пытаясь таким образом насолить властям, сразу после нее с той же целью начали читать курсы по религиозной философии. Большинство партийных образованных людей в первые годы были брошены на руководство наскоро созданным советским аппаратом, поэтому университеты целое десятилетие оставались, по сути, в руках академических ученых. Их подвергали чисткам, порой выгоняли из страны; над ними ставили ректоров и заведующих кафедрами; эксперименты в системе приема означали, что в какие-то годы им приходилось учить главным образом ветеранов войны или заводских рабочих; однако они продолжали писать критические работы и участвовать в дискуссиях. Здания учебных заведений были одними из последних мест в Советском Союзе, где по-прежнему можно было найти печатные листовки, выпущенные Центральным комитетом – не большевиков, но умирающих меньшевиков, одиноко призывающих к общественной демократии без диктатуры.
Однако к концу 20-х годов партия уже в состоянии была навязывать идеологическое соответствие. Только что началась первая пятилетка, и “буржуазных специалистов” стали выгонять из промышленности и из правительства. Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения – находился в руках союзников Сталина, и следующими на очереди были буржуазные специалисты, работавшие в системе образования. “Пора большевикам самим стать специалистами”, – сказал в одной из речей Сталин. А также: “Рабочий класс должен создать себе свою собственную производственно-техническую интеллигенцию”. Он имел в виду нечто совершенно отличное от класса-предшественника: класс служащих, быстро обученных узкой дисциплине, требовавшейся для управления тяжелой промышленностью, класс, куда принимают верных и честолюбивых в награду за убеждения.
Сначала университеты закрыли. Потом на их месте появились многочисленные вузы – высшие учебные заведения – и втузы – высшие технические учебные заведения, обычно случайным образом размещаемые по нескольку в тех же старых помещениях с целью максимизировать отдачу. Так, например, Воронежский институт птицеводства унаследовал от Воронежского сельскохозяйственного института “восемь небольших скамеек, коридор и одну лекционную аудиторию (которой пользовался также Институт механизации”. Студентов набирали большими группами из рядов самой партии, послушных ей профсоюзов, недавно открытых цехов и недавно начавшей голодать деревни. Эти выдвиженцы на самом деле были представителями рабочего класса, но в основном не в европейском или американском смысле слова: они не принадлежали к урбанизированной массе промышленной бедноты, с давних пор не имевшей привилегий, – нет, они были представителями класса, который стремилась вызвать к жизни сама партийная политика ударной индустриализации. С их появлением система существенно разрослась. Если до перемен заведения, устроенные по старинке, давали около 30 тысяч выпускников в год, то ко второй половине 30-x годов это число приближалось к сотне тысяч. В одной только партии высшее образование получили более 110 тысяч человек, включая Хрущева, Косыгина и Брежнева.
К тому времени положение дел в высшем образовании в некоторых смыслах устоялось. Хотя затраты были, подобно затратам на любые насущные человеческие нужды, скудными, на то, чтобы прекратить толкотню в задних рядах каждой лекционной аудитории, где двадцати-тридцати студентам приходилось биться за один-единственный учебник, денег было выделено достаточно. Снова ввели приемные экзамены – одних политических рекомендаций стало недостаточно. Потихоньку вернулись традиционные названия и стили работы университетов, в соответствии с личными предпочтениями Сталина, любившего респектабельность и иерархию. Сталин готов был работать с радикалами от образования – это являлось частью его тщательно организованной кампании по уничтожению всех независимых фракций внутри партии, входе которой он по очереди скармливал их друг другу; однако, оказавшись в состоянии диктовать свои вкусы, он захотел, чтобы мальчиков-старшеклассников снова одели в аккуратную форму, как в царские времена. Ему хотелось, чтобы учение выглядело занятием величественным, почитаемым. Партийная соперница старой автономной Академии наук была отправлена в отставку, и усилия сосредоточились на том, чтобы превратить Академию в послушный, надежный инструмент для создания авторитета.
Однако перемены в списке дисциплин оказались постоянными. В старых университетах преподавали по европейской либеральной гуманитарной программе. Все это исчезло, дав дорогу техническим дисциплинам. Теперь почти половина студентов изучала инженерное дело по жесткой утилитарной программе, предназначенной для того, чтобы дать народному хозяйству квалифицированных специалистов. После выпуска им полагалось знать все, что требовалось, чтобы в одиночку пойти и запустить электростанцию, или металлургический комбинат, или железнодорожную ветку. Потом шла чистая наука с физикой и математикой впереди, за ними, как ни странно, следовала в качестве бедной родственницы химия, а биология страдала от глубоких идеологических проблем; дальше медицина, которую изучало непропорционально большое количество женщин, и “сельскохозяйственные науки”, предназначенные для поставки специалистов в колхозы. Гуманитарные факультеты были вовсе закрыты – хотя впоследствии пришлось вернуть в дело нескольких историков, чтобы подготовить школьные учебники, набитые цифрами и датами, а также похвалами бывшим правителям, стремившимся к централизации. Литература превратилась в “филологию”, технический предмет, посвященный главным образом преподаванию множества языков, необходимых для управления Советским Союзом. Философия умерла, антропология умерла, социология умерла, юриспруденция с экономикой зачахли – партия считала “общественные науки” своей собственной внутренней технической дисциплиной, которую следовало преподавать внутрипартийным кадрам и раздавать студентам в виде обязательных курсов по марксизму-ленинизму.
Профессора перестали отвечать за культуру. Члены Союза кинематографистов и Союза писателей выпускали новые фильмы, пьесы, книги и поэмы; старое, сведенное к консервативной выборке из классиков, теперь обязан был знать каждый гражданин с запросами. Партия хотела, чтобы советская публика была культурной – термин, который подразумевал регулярную чистку зубов и чтение Пушкина с Толстым. В этом была своя ирония. Трудолюбивый выдвиженец с хорошим, чистым происхождением, из рабочих или “трудового крестьянства”, мог пойти дальше, если готов был внимательно читать об аристократах, графах и буржуазных деятелях – именно тех людях, которых, будь они сейчас живы, записали бы в “общественно чуждые”, во “враги“ Но куда важнее было то, что “Война и мир” или “Евгений Онегин” представляли собой предметы гарантированного качества, какие теперь полагалось иметь обычным людям. Нет уж, спасибо, не надо нам этих ваших авангардных воплей и гримас – нам подавай только самое лучшее, великие произведения российского прошлого, в переплетах с золотым тиснением, которые не стыдно выставить на полке в новой квартире. Причем нельзя сказать, что связь с прошлым прервалась совершенно. По сути, в старой интеллектуальной традиции была нить – половина ее скрученной спирали ДНК, – которую можно было приспособить в качестве кредо для этих идущих в гору сталинских выпускников. Российская интеллигенция всегда считала своим долгом модернизировать Россию – а что такое эти головы, если не современность на марше? Она всегда считала культуру вещью, которая действует сверху вниз, просвещением, которое горстка образованных несет в массы, – а что такое большевистская миссия, если не попытка элиты XX века поднять тяжеловесную Россию до высот? Она всегда была склонна верить в панацеи, в идеи, способные разом разрешить любую проблему, – а что такое большевизм, если не универсальный ключ, подходящий к любому замку, самая современная, наилучшая, величайшая система человеческого знания? Вера во все это сочеталась с желанием новой технической интеллигенции слышать и верить, что задача говорить истину царям потеряла актуальность, потому что истина сама стала царем. Друзья истины, друзья мысли, разума, гуманности и красоты стали, по определению, друзьями партии – друзьями Сталина. Противостоять партии означало сделаться врагом истины, нарушить обязательства интеллектуала перед истиной.
Теперь, когда место старой интеллигенции было прочно занято новой, Сталин мог позволить себе убрать большинство ее уцелевших представителей в процессе чисток конца 30-х, вместе с большинством собственного политического поколения внутри партии и с большинством людей – продуктов дореволюционной эпохи, которые пришли к власти в промышленности, армии, государственном аппарате. У него остались выдвиженцы – благодарные, лишенные любопытства, ничего не знающие о мире за пределами Советского Союза и готовые принять сталинский порядок в качестве порядка вещей, присущего самой реальности. Исчезнувшие части интеллектуальной жизни ушли без следа – воцарилось великое молчание. Скоро молодежь забыла, что когда-то было по-другому. В новой учебной программе разным предметам была уготована разная участь. Чем ближе та или иная наука находилась к практике, тем активнее ее внедряли, ставя на службу практическим нуждам власти. С другой стороны, чем ближе она стояла к опасной территории общественных наук, тем сильнее ее обычно искажали идеологией. А чем более абстрактной она была, тем более интеллектуально неискушенной ей, как правило, предстояло оставаться. Результатом стали направления интеллектуальной жизни, выстроенные совершенно не так, как их зарубежные аналоги. Если Соединенные Штаты, например, были обществом, где правили юристы, а среди преподавателей литературы и социологов глубоко укоренился университетский идеализм, то Советский Союз был обществом, где правили инженеры, а идеализм царил среди математиков и физиков. Юриспруденция, экономика, история были стерильными вотчинами, не имевшими большого значения, каждой из которых правил свой “маленький Сталин" – миниатюрный интеллектуальный заместитель великого кремлевского ума. После смерти Сталина эти предметы пришлось оживлять тем, кто пришел из инженерного дела и чистой науки, – тем, кто принес с собой веру инженеров в разрешимость проблем и неустанное восхищение ученых чистотой картины. Биология оставалась в бедственном положении. Маленький Сталин, которому ее вверили, Трофим Лысенко, был шарлатаном-антидарвинистом, которому в 5o-e годы удалось приспособиться и начать играть на слабых сторонах Хрущева.
К бо-м годам Советский Союз из одной из наименее грамотных частей планеты превратился, по некоторым показателям, в одну из самых образованных. Тут выдавали на-гора больше выпускников на душу населения, чем в любой европейской стране; только американская система колледжей с ее традициями массового участия шла впереди. Для поступления надо было пройти конкурс, сдать экзамены, которые организовывались местными приемными комиссиями так, чтобы заведения могли отбирать и отсеивать на свое усмотрение, получая в точности тот набор, который им нужен. Курс обучения длился четыре или пять лет, от студентов ожидалось, что они будут постоянно работать от 35 до 45 часов в неделю, осваивая весь корпус знаний по своей специальности. Упрощениям подвергался один только марксизм – ведь после того, как традиция независимой марксистской мысли была уничтожена в 30-e, возродить ее как науку было нечему. Процент отсева был объяснимо высок; и все-таки каждый год почти полмиллиона юношей и девушек, пройдя испытание, стояли в коридорах родного университета или института, просматривая тысячи и тысячи вывешенных там объявлений о приеме на работу.
Правда, высшие учебные заведения занимались только преподаванием. Исследовательская работа обычно проходила в других местах, в специальных институтах, подчинявшихся Академии наук или всевозможным промышленным министерствам, и ученые постоянно перемещались с профессорской кафедры в лабораторию и обратно. Систему венчали “академгородки”, построенные для проведения исследовательской работы, обладавшей стратегическим приоритетом, от ядерной физики и аэронавтики до вычислительной техники и математической экономики. Люди, жившие там, входили в число самых привилегированных советских граждан; вдобавок их превозносили как предвестников грядущего мира изобилия. Они не только жили – уже сейчас – так, как вскоре предстояло жить всем советским гражданам: в просторных квартирах, с щедрым продовольственным снабжением и зелеными насаждениями вокруг. Они еще и работали – уже сейчас – так, как ожидалось от всех, когда наступит изобилие: по добровольной любви к делу, относясь к рабочему времени, как к игре, а не тяжкой ноше. Ученые, как правило, не возражали против подобного к себе отношения, как принимали по большей части и законность устройства власти в своем обществе. Самим физикам понравился знаменитый фильм Михаила Ромма, вышедший в 1962 году, “Девять дней одного года”, об одержимом, остроумном ученом-ядерщике, который облучается ради того, чтобы у человечества появился новый источник энергии. Немного позже, в 1965-м, они улыбались, читая умеренно сатирическое сочинение братьев Стругацких, "Понедельник начинается в субботу”, где секретный отдел занимается – что вполне уместно – волшебными предметами из русских сказок. Ученые были уверены в себе – а также, как ни забавно это звучит, невинны. К тому времени они уже, как правило, не знали, чего именно не знают об опыте человечества вне советского строя. Международные связи возобновлялись, но далеко не в полной мере: ученые, достигшие определенных должностей, имели доступ к спецхранам – собраниям иностранных материалов в библиотеках, однако на каждое посещение требовался специальный допуск, и надо было знать, что в точности тебе нужно. Поэтому их идеи развивались почти без оглядки на аналогии, на параллельные случаи, на массу накопившихся за всю историю ситуаций, в которых кто-то пытался сделать что-то похожее. А главное, у них почти не было доступа к пессимизму. Там, где они жили, не имели широкого хождения рассказы о благих намерениях, обернувшихся чем-то плохим, – во всяком случае рассказы опубликованные, записанные.
Однако не все шло гладко. Например, в 1958 году Хрущев внезапно объявил, что среди поступающих в вузы слишком много детей интеллигенции и служащих, так называемых инженерно-технических работников, ИТР, – и принял закон, уходящий корнями в старые дикие времена первой пятилетки. Теперь выпускникам школ полагалось отработать два года до поступления. Это не нравилось студентам, не нравилось родителям, не нравилось преподавателям – у их первокурсников, изучающих физику, на блекнущие в памяти школьные знания теперь накладывался двухлетний опыт полуквалифицированной нудной работы на складе или на заводе. Кроме того, интеллигенция была недовольна тем, что, открестившись от наиболее грубых методов, теперь Хрущев пытался достигнуть соответствия путем призывов и поучений. Как следствие, начиная с 1961 года группы интеллектуалов собирались вместе, чтобы выслушивать, как на них ругаются: иногда соратник Хрущева Л. Ф. Ильичев, председатель Идеологической комиссии ЦК, а иногда, на удивление часто, на грубом, безграмотном русском, и он сам. (Анекдот тех времен: Хрущев просит друга просмотреть текст одного из своих докладов. “Скажу тебе прямо, Никита Сергеич, кое-какие ошибочки у тебя встречаются. “Засранец” пишется вместе, а “в жопу" – раздельно”.) Выли и более конкретные поводы для недовольства: у серьезных биологов, вынужденных скрывать свою настоящую исследовательскую работу за маскировочной ширмой; у евреев. В 30-е годы среди советских евреев, по сравнению с другими группами населения, пожалуй, наиболее заметны были высокие достижения, социальная мобильность, однако волна официального антисемитизма, начавшаяся в 40-е, принесла с собой ограничения и квоты. Если считать в абсолютных единицах, в 60-е евреев в науке работало больше, чем когда-либо прежде: 33 000 из 350 тысяч советских научных работников, или 9,5 % от общего числа, в то время как евреи составляли лишь 1 % советского населения; однако определенные специальности и определенные элитные учреждения для еврейских кандидатов были полностью закрыты, а путь на самый верх, в общем и целом, заблокирован. Теперь, будучи евреем, необходимо было проявить блестящие способности, которыми невозможно пренебречь, иначе тебе было не добиться того же положения, что у твоих русских по национальности коллег, ничем не выдающихся по своему усердию и заслугам. От этого оставалось странное болезненное ощущение, словно у тебя отобрали некогда врученную тебе награду: ты считал, что тебя признали раз и навсегда, а оказалось, что тут есть свои условия.
Постепенно начинало происходить нечто непредвиденное. Эти разочарования, малые и большие, начали привлекать внимание ученых к разнице между двумя типами образованных людей – между ними самими и инженерами-выдвиженцами на руководящих партийных должностях. Уроки были почерпнуты из самой науки, ее методов, а также, что и говорить, из чтения программного Толстого. Размышляя об идиотском антисемитизме в стране, победившей фашистскую Германию, слушая, как Хрущев с красным от ярости лицом бушует по поводу того, что в Академию не приняли одного из лысенковских приспешников, они начинали подозревать, что, возможно, истина и цари не столь уж близки, что, возможно, на престол в России возводится все-таки глупость.
Старички были не простые люди: это были Студенец, Обжора и Колдун. Колдун вышел на берег, нарисовал на песке лодку и говорит: “Ну, братцы, видите вы эту лодку?” – “Видим!” – “Садитесь в нее”. Сели все в эту лодку. Говорит Колдун: “Ну, легкая лодочка, сослужи мне службу, как прежде служила”. Вдруг лодка поднялась по воздуху…