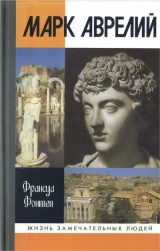
Текст книги "Марк Аврелий"
Автор книги: Франсуа Фонтен
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц)
Приходит пора опять увидеть на сцене подзабытого было молодого Луция Цейония, второго приемного сына Антонина, в правах равного брату, но из-за разницы в годах отодвинутого далеко на задний план. Впрочем, он отстал еще больше, поскольку первое консульство получил только в двадцать три года (конечно, и это было намного раньше обычного срока), в то время как Марк Аврелий впервые заступил на эту должность в восемнадцать лет. Вторым он был, вторым и оставался, пока был жив Антонин, не уделявший ему большого внимания. Марк всегда был по правую руку от императора; он ездил на его колеснице, а Луций – на колеснице префекта претория. Такое обращение не испортило его характера: он оставался веселым и добродушным. Самые недоброжелательные хронисты могли поставить ему в вину только праздность и сластолюбие. Как и его отец Цезарь Цейоний, он, видимо, всегда плыл по течению. Имя и внешность работали на него. Скульптура и здесь подтверждает письменные источники: бюсты показывают нам замечательно красивого человека с ясным, привлекательным взглядом из-под длинной непрерывной линии совершенно горизонтальных бровей. Его кудрявые волосы и борода были, вероятно, светлыми или осветлены золотым порошком. Как и отец, он любил лошадей, состязания, игры, женщин, но в отличие от своего предка обладал превосходным здоровьем.
Физическое и нравственное здоровье, несомненно, не давало повода для волнений Антонину и очень впечатляло Марка. Оно было нечаянной радостью для Империи, которую соперничество двух равноправных наследников могло разрушить. Адриан словно прочел по звездам или по наследственным признакам этих отпрысков хороших семей, что они будут миролюбивы и дополнять друг друга. И действительно, старший взял младшего под покровительство, а тот охотно принял его первенство, тем более что это избавляло его от умственных усилий и должностных обязанностей. Он был вполне доволен местом по левую руку от Антонина в цирке и в театре – там, где утверждалась популярность государей, особенно тех, которые поддерживали конюшню Зеленых, самую любимую среди плебеев. Луций, как и Антонин, любил пантомимы, на которых Марк Аврелий явно скучал. Таким образом, казалось, что государство пришло в равновесие и можно ни о чем не беспокоиться. Формально у него было три главы, на деле же два, что видно и по монетам, где Луций – просто приемный сын императора – не изображается.
Правда, надо ли говорить, что молодой Луций был добр по натуре? Быть может, неиспорченность его характера надо приписать духу времени? Можно попробовать представить себе Нерона, не искалеченного морально матерью, не развращенного вольноотпущенниками, усерднее учившегося у Сенеки, не отказавшегося от первоначальных добрых намерений, разделившего правление с молодым Британником. Но вряд ли такое могло быть. Моральный климат правящих слоев римского общества I века был испорчен произволом и преступлениями Тиберия, Калигулы, Клавдия. Когда же зрелости достиг Луций, уже полвека, за исключением четырех-пяти случаев, соблюдалось табу на кровопролитие, установленное Нервой и Траяном. Тацит и Светоний красноречиво предупреждали, как страшен бывает цезаризм. Впрочем, ленивого молодого наследника учили очень хорошо: он брал уроки у тех же учителей, что и Марк, включая Фронтона.
Очень трогательно наблюдать, как знаменитый ритор, когда его переписка с Марком Аврелием выдохлась, вновь обретает молодой задор в письмах его младшему брату, а тому, в свою очередь, явно льстит, что его принимают всерьез. Переход от Марка к Луцию прошел гладко. По примеру отца Луций считал долгом быть покровителем словесности, у него были свои придворные сочинители, но больше всего его занимали лошади. Древние биографы писали, будто его знаменитого жеребца по имени Пернатый кормили из мраморных яслей, будто палатинских коней покрывали парчовыми чепраками, но эти фантазии в духе Калигулы всегда встречаются в полумифических жизнеописаниях второстепенных Цезарей. Биографии отца и сына Цейониев были сфабрикованы на основе очень скудных фактов, исходя из соображений симметрии; ложе из лепестков роз и гурманские роскошества – все это риторические общие места. Того, что нам известно о Луции: симпатичное лицо, милейшие письма и малая роль в государстве, – достаточно, чтобы судить, что человек он был, в общем, самый обыкновенный.
Три строчки, посвященные ему Марком Аврелием, не такого рода, чтобы ясно очертить его образ: «Что брат у меня был такой, который своим нравом мог побудить меня позаботиться о самом себе, а вместе радовал меня уважением и теплотой» (I, 17). Эта невнятная похвала заставляет задуматься, но не столько о самом адресате, сколько об авторе. Всегда было непонятно, как же Марк относился к Луцию. Нередко почести, которые старший щедро даровал младшему, его долготерпение, изъявления привязанности к брату приписывали комплексу слабого по отношению к сильному. Другие давали понять, что он его едва терпел, что ранняя смерть Луция была Марку облегчением, если он ее вообще не ускорил. Одно другого не исключает (кроме предположения о братоубийстве). Можно себе представить, что легкомысленный и безобидный нрав Луция и раздражал брата, на которого ложилась вся ответственность, и не давал долго сердиться. Как государственный деятель Марк Аврелий задавал себе не вопрос «как от него избавиться?», а вопрос «на что он может сгодиться?». Вскоре явится и удачное решение, но оно окажется иллюзорным. Слишком серьезный брат плохо ладил со слишком веселым. Отсюда и весьма двусмысленная благодарность, которую мы только что прочли. Возможно, рассказ о дальнейших событиях поможет нам расшифровать ее.
«Общий рынок по всей земле»В 148 году Антонин праздновал девятисотую годовщину основания Рима. Традиция требовала отмечать этот праздник грандиозными Столетними играми. Потребовалось несколько лет подготовки: ведь римляне должны были увидеть демонстрацию силы и необъятных масштабов Империи. Она стала всемирной, и на этот раз по улицам Города проходили не пленники, осужденные на рабство или смерть, а представители союзных или присоединившихся народов: батавы, бритты, мавры, сирийцы, арабы, иудеи, египтяне, другие союзники, не столь известные – всякие альбиоталы и осроэняне; все они несли яркие и помпезные символы своих культур. Но больше всего поразили умы редчайшие дикие животные: крокодилы, тигры, гиппопотамы и даже, как передавали, леокрокотты и стрепсицероты – помеси антилоп, гиен и львов. По случаю этого праздника Единства, в честь которого были выбиты медали, в Риме собрались лучшие представители всех народов Империи.
Именно тогда великий оратор из Смирны Элий Аристид прочел свою знаменитую «Похвалу Риму», где, с поправкой на неизбежно присущие жанру риторические преувеличения, ясно высказана политическая философия элиты, бессознательно, через повсеместный культ императорского гения, проникавшая и в народ: «Благодаря вам весь мир стал общей родиной людям. Варвар и грек безопасно может отправляться, куда заблагорассудится. Чужестранцы повсюду встречаются с гостеприимством. Каждое ваше дело подтверждает слова Гомера, сказавшего, что мир есть общее достояние… Через реки вы перебросили мосты, через горы провели дороги, населили пустынные места, повсюду улучшили жизнь, утвердив закон и порядок. Скажем, что человечество, в тоске стенавшее, благодаря вам наслаждается ныне благоденствием и процветанием».
Главное в этом длинном панегирике вот что: сбылось одно очень древнее чаяние – чаяние безопасности. Верно то, что Империя создала никогда прежде не собиравшиеся вместе условия, чтобы на огромном пространстве создать всеобщее процветание. Для этого нужны были дороги, единая монета, общая политика, честная администрация и долгий период внутреннего мира при хорошо охраняемых границах. Все это стало результатом огромной работы, проведенной за полтора века после Августа. Но расцвета устройство Империи достигло благодаря гению династии Антонинов: бескорыстию, либеральной открытости и миролюбивой внешней политики. Вместе с ней как раз появляется новая идея: идея общечеловеческой солидарности. У этого понятия, как и у понятий общества и свободы, было, конечно, не то содержание, которое мы им приписываем, и прежде, чем сравнивать две эпохи, употребляя одни и те же слова, их надо подвергнуть тщательнейшему семантическому анализу. И все-таки можно позволить себе услышать в энтузиазме эллинского ритора, говорившего перед молодым царственным слушателем, первые признаки новой эпохи.
«Ни море, ни протяжение континента не могут препятствовать стяжанию общего гражданства. Для гражданина нет границы между Азией и Европой. Все открыто для всех – ни один человек, достойный власти или почтения, не останется в стороне. Повсюду в мире одна демократия под единым главенством. Имя римлянина вы сделали именем не одного города, но единого народа. К Городу же сходится все: он подобен общему рынку для всей земли». Похвала заходит далеко – слишком далеко: ясно видна опасность, что общий рынок станет монополистическим. Город может поглотить все: огромный крытый рынок Траяна на это способен. Властителям Рима потребуется очень ясный ум, чтобы рассредоточить и перераспределить богатства. Они сделают все, что смогут: ведь они считали, что имеют мандат от всех народов, находившихся под их попечением. Траян сказал своим старым друзьям: «Если вы станете моими наследниками – поручаю вам провинции». Впрочем, ему можно поставить в упрек, что он не помог Испании во время неурожая, в то время как Марк Аврелий, по сообщению Капитолина, послал в эту провинцию зерно из запасов, предназначенных для Рима. Как видим, дух солидарности ушел далеко вперед.
Элий Аристид был отнюдь не мелким наемным краснобаем. Весьма известный уже к тридцати годам, он демонстрировал свое блестящее красноречие, объезжая города вокруг Средиземного моря, где царила мода на так называемую «новую софистику». Возрождение аттицизма воплотилось в процветании художников слова, украшавших культурные действа. Города Азии, Греции и Италии сулили им золотые горы, чтобы они защищали их интересы в Риме, чтобы оставались в них как адвокаты и руководители школ. Так Аристид стал гражданином Смирны. Позднее он так замечательно ходатайствовал за этот город, разрушенный землетрясением, что добился от Марка Аврелия значительной субсидии на его восстановление. Как и многие другие виртуозы красноречия, он был знаменит своими капризами. Все знали, как он почитал Асклепия: затворялся в храмах чудотворца, ничего не делал без его оракулов, в последний момент отменял публичные выступления, если предсказания были недобрыми. Мы еще увидим, как однажды он очень настойчиво просил у императора Марка Аврелия дозволения говорить перед ним.
Есть предположение, что Элий Аристид был эпилептиком. Но главной болезнью великих риторов было тщеславие актеров, испорченных славой, а иногда и расчетливые капризы. Хроники донесли до нас много примеров психодрам, служивших рекламе этих капризных и в то же время священных чудовищ. Например, у знаменитого Полемона, учителя Аристида, был один из лучших домов в Смирне, и когда Антонин, тогда проконсул Азии, остановился в этом городе, городские власти сочли за благо поселить его у ритора, который был тогда в отъезде. Но среди ночи хозяин вернулся и бушевал до тех пор, пока проконсул не очистил помещение. Позже, когда Полемон приехал в Рим и явился на Палатин, Антонин, ставший уже императором, сказал ему, что предоставит такое жилище, где ритор сможет хотя бы спокойно выспаться.
Новая софистикаЗа несколько лет до выступления Аристида к Цезарю Марку Аврелию был приглашен давать уроки стоик Аполлоний, и мы знаем, какие именно уроки вынес для себя ученик: «независимость и спокойствие… не глядеть ни на что, кроме разума… всегда быть одинаковым» (I, 8). Ясно, что такого мудреца мы представляем себе скромным и спокойным. Но свидетельства современников говорят нам, что всем своим поведением напоминал он взбалмошных коллег. Едва прибыв в Рим вместе со всей своей школой, он получил прозвище Ясон, потому что походил на капитана судовой команды, отправившейся в поход за золотым руном. Он нанял богатый дом на Эсквилине и не выходил из него. К нему прислали сказать, что его ждут на Палатине. «Положено ученику приходить к учителю», – ответил он. Антонин не упрямился. «В конце концов, – заметил он с юмором, – Аполлонию было гораздо легче добраться от Халкедона до Рима, чем пройти с Эсквилина на Палатин». Консул Марк Аврелий отправился в школу.
Если вдуматься, здесь нет ничего нелепого. В новой софистике встретились два течения, издревле проявлявших себя в греческой мысли: красноречие Эсхина и Демосфена и мудрость Сократа и Диогена. У этой педагогической системы, при всей пошлости ее чисто формальных упражнений, было две вполне практические цели: научить логически связной речи и формированию характера. Если ее усваивали как следует, получались строгие юристы и добросовестные чиновники. Честолюбцам она давала возможность соотнести себя с высокой культурой, а заодно являлась инструментом для достижения успеха. Она на все наводила лак гуманизма, необходимый для однородности общества, жившего на огромном пространстве: лаборатории находились в Греции, Малой Азии, Александрии, их филиалы – в Риме, Лионе, Отёне, Кордове, Карфагене, а потребители повсюду, от Британских островов до Аравии. Была широко распространена латынь, но основным языком все же оставался греческий.
По тому, что мы знаем об этой схоластике, она может показаться поверхностной, а то и примитивной, но ведь то же можно сказать и о нашей университетской науке от Абеляра до прошлого поколения, если взять из нее только риторические упражнения – само название показывает их ограниченность. На состязаниях в красноречии чем банальнее тема, тем выше ценятся искусство и воображение. Речи в защиту абстрактного победоносного военачальника, обвиняемого в нарушении приказа, или изнасилованной девушки, требующей казнить отца своего ребенка, мало чем отличаются от современных школьных сочинений. Неверно было бы с пренебрежением относиться к этому желанию подняться над интеллектуальным уровнем общества, в котором и без того часто видят только любовь к физической силе и кровавым зрелищам. Умственные поединки ценились в нем ничуть не меньше, чем в нашем, и доходили до такой остроты, какой у нас не бывает. Дело в том, что магическая сила слова происходила из одного источника с силой крови: и словом и мечом убивали.
Крайнее интеллектуальное напряжение той эпохи с его насыщенностью и пустотой, со светом и тенями видны в необычайной судьбе Герода Аттика. Странно, что его имени нет в каталоге благодарностей Марка Аврелия, у которого он был учителем одновременно с Фронтоном. Это был несметно богатый афинский грек. Откуда взялось богатство его отца, для современников осталось тайной: говорили, что он нашел под домом клад, но вернее всего – наживался на спекуляциях и ростовщичестве, утаивая прибыль от Нероновых и Домициановых фискалов-грабителей. Когда Нерва объявил о возвращении свободы, Аттик-отец благоразумно написал ему: «Я нашел клад – что мне с ним делать?» Император ответил: «Употреби его себе во благо». Старый грек и тут поостерегся и отписал: «Я должен сказать тебе, что клад очень большой». «Тогда употреби его себе во вред», – был ответ. Как только в Империи вновь появилась вольность, вернулось и благосостояние.
Аттик-отец, римский сенатор и дважды консул, был связан с семьей матери Марка Аврелия, а его внук учился вместе с Домицией Луциллой. У Герода был необычайный ораторский дар, которым он снискал славу в Греции. Оттуда в 30-х годах его призвали в Рим, чтобы преподавать греческое красноречие Марку Аврелию, который был младше на двадцать лет. Слава его уже тогда не уступала богатству, а честолюбие почти не имело пределов. Как и его учитель Полемон, Аттик имел недоразумения с проконсулом Антонином, экипажу которого он, как говорили, отказался уступить дорогу на горе Иде. Чрезмерная властность по отношению к афинянам втягивала его в бесконечные тяжбы, причем в конце концов его противники обратились к Фронтону.
Совесть профессионального адвоката этим не смутилась, но Марку было горько смотреть, как его учителя и друзья готовы уничтожить друг друга в судебных залах. До нас дошло его смущенное письмо к Фронтону: «Правосудие должно идти своим чередом, и я не могу давать тебе советы… Но ты знаешь, как я люблю вас обоих… Могу ли я надеяться, что ты в личных нападках не зайдешь слишком далеко?» Фронтон решительно возражает: «Но не могу же я позволить нападать на себя в таком деле, где противная сторона обвиняется в растрате, мздоимстве и даже человекоубийстве… Я не знал, что Герод тебе так дорог. Скажи тогда, что мне делать». Обмен письмами продолжился: они по-прежнему были осторожны, но непонятно, где там кончались теплые чувства и где начиналась строгость закона. Юный Цезарь не оставлял вежливого давления, Фронтон – завуалированного сопротивления. Под одним углом зрения анализ этой переписки покажет глубокую драму человеческой совести, под другим – пустяковый конфликт с предрешенным заранее результатом. Несомненно, этот случай весьма наглядно демонстрирует, как на самом деле функционировало римское общество и каково было разделение властей в государстве. Но ключ к делу потерян: история лукаво скрыла от нас приговор суда.
По-видимому, Герода лично все-таки не осудили, если процесс вообще дошел до конца: год спустя он уже был консулом вместе с Фронтоном. Дальше в его жизни триумфы чередовались с несчастьями. Он открыл свою школу в Марафоне, в великолепном имении с надписью на воротах: «Здесь начинаются владения Всемирного Согласия». Учащиеся съезжались со всей Империи. Повсюду стояли памятники и статуи из мрамора близлежащего Пентиликийского карьера – изображения его духовных детей и гробницы скончавшихся детей любви. Его страсть к знаниям была неутолима. Он читал за столом и в бане, диктовал секретарям в повозке, сам чертил планы строений, которыми одаривал Афины, страдавшие от его же злоупотреблений. Свидетельством тому до наших дней остался Одеон на боковом склоне Акрополя. Герод считался самым богатым человеком в мире, был признан самым красноречивым, но, как мы увидим, не избежал печального конца.
Риторы вызывали друг друга на состязания, как чемпионы, защищающие титулы. Эти блестящие зрелища освещали небо Античности, подобно метеорам, не оставляющим следов. Здесь кроется одна из причин бедности интеллектуального наследия той эпохи. Огромная энергия уходила в жар словесных поединков в амфитеатрах, одеонах и преториях. Отзвуки народных комедий, на которые римляне ломились не меньше, чем на скачки и гладиаторские бои, до нас также не дошли. Фантазий и слушателей для литературного творчества оставалось мало. Книжная торговля процветала, однако новинки, видимо, были редки. Современники почти не донесли до нас сведений о крупных именах, время – значительных произведений. Историки постоянно задаются вопросом о природе и степени этого упадка и о том, был ли он на самом деле [27]27
См.: Приложение «Без писателей».
[Закрыть].
Механизм совместного правления Антонина и Марка Аврелия превосходно работал уже двадцать два года (мировой рекорд). Даже самые недоброжелательные хронисты не оставили никаких свидетельств нетерпеливого недовольства или огорчения наследника. Рассказывают только, что однажды старый император гулял в саду со своим другом Гомуллом и тот указал ему на Домицию Луциллу, молившуюся перед статуей Аполлона. «Видишь, – сказал Гомулл, – она молит Бога поскорее забрать тебя». Но шутить было позволено, потому что ничего серьезного за этим не стояло. Марк Аврелий не возводил в проблему то, что в правлении он играл вторую роль, и мы, пожалуй, не должны на этом основании заключать, что он был слаб характером. Ему казалось нормальным делить неисчерпаемые обязанности, которых он не домогался и к каким не имел провиденциального призвания. Как мы увидим, он дважды по собственной инициативе и в гораздо менее благоприятных условиях повторил опыт соправления с разными партнерами.
На следующий, 161 год Антонин ослабел. Ему исполнилось семьдесят пять лет – для античности возраст преклонный. Его сильно беспокоили внешнеполитические проблемы. Царствование Антонина оставалось спокойным только ценой активной дипломатии и постоянной политики вооруженного сдерживания. В предсмертном бреду, ругая «царей, бросающих вызов Риму», он выражал тайную заботу всей своей жизни: поддерживать престиж и целостность Империи своих предшественников, но другими средствами. Он не мчался при каждом случае на границу, не являлся потомству в блестящих доспехах – разве что на статуе в Ватикане. Больше двадцати лет ему удавалось это чудо: стоя в центре, быть недвижным наблюдателем волнений на окраинах, выслушивать доклады, посылать обдуманные приказы понимающим дело легатам и недвусмысленные знаки беспокойным соседям.
Многие полагают, что секрет такой удачной внешней политики следует искать в совпадении чрезвычайно благоприятных условий, которыми Антонин пользовался или которым у него хватало мудрости не противиться. Действительно, вполне вероятно, что именно программа выпрямления и укрепления стратегических границ, начатая Домицианом, реализованная Траяном и методически завершенная Адрианом, дала Риму передышку, продолжавшуюся до середины века. Нет сомнения и в том, что варварских конников, гарцевавших возле рубежей Империи, обескуражили удары, нанесенные Траяном, и слава его оружия: наследники побежденных стали осторожнее, и Антонин застал поколение не слишком предприимчивых парфянских, германских и британских вождей. Ему не пришлось противостоять большим организованным нашествиям. Но он вполне догадывался, что история лишь задержала дыхание, и, умирая, не был спокоен.
Император жил в Лории – поместье, где он вырос, на Аврелиевой дороге, ведущей из Рима в Галлию. Однажды на ужин он немного переел своего любимого альпийского сыра. Началось отравление, поднялся жар. Наутро Антонин вызвал обоих префектов претория и в их присутствии препоручил государство и дочь Марку Аврелию. Он велел перенести статую Фортуны (богини удачи), лежащую в постели императора, в комнату своего зятя и наследника. Затем он погрузился в беспокойный сон – тут-то все и услышали, как он впервые высказывает тревоги и гнев, таившиеся в нем всю жизнь. Но к утру он вновь успокоился, а вечером, когда дежурный центурион вошел к императору спросить пароль для стражи, тот прошептал: «Aequanimitas», – что приблизительно можно перевести как «ровность духа». «Наконец, – сообщает биограф, – он повернулся на бок, как будто хотел спать». Это было 7 марта 161 года.
Здесь легенда в высшей степени правдоподобна. В этом человеке, прозванном Святым или Праведным, о котором у нас нет ни одного отзыва, выбивающегося из общего мнения, все было так ладно, что можно подумать, будто фортуна всю жизнь верно сопутствовала ему. И почему бы не допустить, что иногда общество приходит в счастливое состояние равновесия, в котором порождает правителей по образу своему? Пока поколение, естественно желающее быть верным самому себе, не завершит свой жизненный путь, действует совокупность взаимодействий и подражаний, придающая картине глубину и размах. Гораздо труднее сохранить это равновесие, приспособить его к обновляющемуся обществу. Но Антонин принял свои меры. При Марке его царство вместе со всем аппаратом управления продолжалось в неизменном пространстве-времени. Император уходил к своей Фаустине, оставляя другую подругу молодому коллеге, у которого было довольно времени стать таким же, как он.
Но если дух времени и впрямь был таков – куда же девались беспощадная сила, жестокость, произвол, которыми согласно Тациту Рим был исполнен на несколько десятилетий раньше и которые Дион Кассий увидел несколькими десятилетиями позже? Очень краткие циклы перехода от жестокости к терпимости и обратно к цивилизации, которая кажется замкнутой и находящейся в плену у своих традиций насилия, нарушают наши предвзятые представления. Не следовало ли, чтобы уйти от исконного наследства, разрушить ее, а на ее развалинах построить новую? Ведь наше иудеохристианское сознание не может не отбросить проклятый мир, уничтожаемый собственными грехами, безвозвратно в прошлое. Кроме того, многие возразят, что в Риме не могло быть таких благодатных периодов, как мы говорили, потому что если немногие избранные и подошли к представлениям о гуманности, то для большинства эти идеи были недоступны.
Этот редемпционистский тезис (а все мы более или менее сознательные редемпционисты) заслуживает рассмотрения. Конечно же блеск Антонинов не должен нас ослеплять. Оставались еще огромные области мрака, и когда (вспомним тут последние слова Марка Аврелия) «солнце зашло за Дунай», римские небеса снова покрылись мраком. Но остается фактом, что во II веке н. э. история стала выглядеть лучше, причем распространение христианства еще не оказало своего влияния. То и другое лишь совпадало по времени, и отсюда, конечно, можно извлечь важные выводы.
Смерть Антонина могла бы быть самой надежной точкой отсчета. У нас нет доказательств, что она сильно затронула умы и сердца жителей Империи, которую он сделал защищенной от многих опасностей. При его кончине не было ни одного дурного знака, в отличие от обстоятельств смерти почти всех других императоров. Можно было бы сказать: «Антонин умер, да здравствует Антонин», потому что Марк Аврелий тотчас принял его имя, чтобы сделать преемственность еще более наглядной. Тело человека, дожившего свой век до естественного конца, было сожжено на Марсовом поле, а прах положен в мавзолей Адриана. Орел, взлетевший с погребального костра, унес его «гения». По декрету сената Антонин стал богом. Был учрежден его культ, жрецом которого стал «фламин» – юноша из знатной семьи. Был завершен храм, начатый им в честь покойной супруги. До сих пор стоят на Форуме его великолепные колонны.








