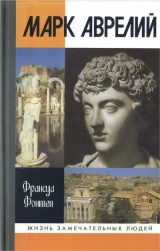
Текст книги "Марк Аврелий"
Автор книги: Франсуа Фонтен
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
Новый город был освящен, и возвращение возобновилось – все такое же неторопливое: ведь церемония триумфа в Риме планировалась только на осень. На пересадке в Смирне император ждал, что город почтит и утешит его, безусловно, самым дорогим для него зрелищем: демонстрацией классического греческого красноречия. Он думал о славе города – Элии Аристиде. Но прошло три дня, а Мастер не являлся к Марку Аврелию, и это, наконец, задело императора за живое. Оратора уговорили явиться во дворец; тот пришел и попросил прощения, ссылаясь на то, что пребывал в глубоких раздумьях, которые не мог прервать. Император хотел самолично познакомиться с плодами этих раздумий. Виртуоз слова ответил: «Дай мне тему и оставь до завтра. Я не из тех, кому сказать речь все равно, что сблевать. Дозволишь ли моим ученикам быть при этом? – Конечно, ведь так оно демократичнее. – А дозволишь ли им рукоплескать и восклицать, сколько есть сил? – Тут я ничего и не могу сделать: это в твоей власти» (Филострат. Жизнеописания софистов).
Марку Аврелию по-прежнему доставалось от причуд великих магистров красноречия, наделенных множеством привилегий (между прочим, полным и повсеместным освобождением от налогов), позволявших себе в забаву говорить с императором будто бы как с равным. Вновь на сцену явился Герод Аттик. Мы расстались с ним в Сирмии; там он попал в скверную историю, был унижен, по меньшей мере морально осужден и принужден жить безвыездно в поместье. Но он недолго отчаивался. Узнав о заговоре Авидия Кассия, он отправил ему лапидарное послание: «Emanes», – что по-гречески значит: «Ты сошел с ума». Несколько месяцев спустя он решился написать и Марку Аврелию, прощупывая его, но на свой лад: и жалуясь, и с вызовом. Оратор упрекал его за молчание, напоминал, что некогда получал от него по нескольку писем в день «и гонцы, которые их носили, наступали друг другу на пятки».
Если бы деликатность Марка Аврелия еще нуждалась в доказательствах, мы нашли бы их в его ответе, где, как пишет Филострат, он делился скорбью по поводу смерти Фаустины и жаловался на собственное здоровье. «Я же прошу богов, чтобы ты был здоров и знал о моих благопожеланиях тебе. Не считай, что с тобой поступили несправедливо, если вследствие расследования мне пришлось – с какой, впрочем снисходительностью! – наказать прегрешения твоего домоправителя. Не сердись на меня за это. Если же я все-таки в чем обидел тебя, ты получишь случай спросить с меня за эту обиду в храме Великой богини во время Мистерий. Ибо в разгар войны я дал обет принять посвящение, что и надеюсь исполнить через тебя и при твоем покровительстве». Заслужил ли Герод Аттик такое благорасположение? Все знали, что на нем продолжало тяготеть обвинение в непредумышленном убийстве его молодой беременной жены Региллы, которую он однажды избил до того, что у нее произошел выкидыш и она умерла. И здесь козлом отпущения сделали домоправителя Алкимедона: именно он, неправильно поняв приказ хозяина, слишком сильно поучил Региллу. Герод Аттик в отчаянии отделал стены своего дома черным лесбосским мрамором.
Но Марк Аврелий не мог не знать, что подозреваемым в преступлении запрещено участвовать в Элевсинских мистериях. Прося Герода ввести туда его и Коммода, он оправдывал его. Следовательно, на Великие Элевсинии состоялся сложный обряд посвящения. Праздник начинался 19 сентября процессией из Афин в Элевсин, километрах в двадцати от них. Перед этим около пятисот посвящаемых (мистов), вместе с которыми шли посвящающие (мистагоги), проходили очистительные испытания и давали клятву хранить тайны. Слово mystos (тайна) происходит от myein – молчать. За тысячу с лишним лет, в течение которых справлялся знаменитый обряд, никто так и не узнал, что говорил на празднестве гиерофант. Марк Аврелий тоже знал только то, что соблаговолил рассказать ему другой знаменитый посвященный – Элий Аристид: «Элевсин – святое место для всей земли. Там происходит самое страшное и восхитительное из божественных дел, какие только доступны человеку. Где еще увидишь такое соперничество звука и света, такое зрелище с поражающими душу видениями, созерцаемое множеством поколений людей обоего пола?»
С этим свидетельством согласуется еще много других, столь же туманных: тайные церемонии Элевсина, поражая дух и чувства, были буквально несказанны. Смысл эзотерического сообщения был в простейшей морали, выросшей из глубин примитивных аграрных культов. Оно рассказывало о смене времен года, в течение которых земля теряет и вновь обретает плодородие, потому что в Элевсине Деметра потеряла свою дочь Персефону: осенью Плутон уносит ее в царство мертвых, весной она возвращается. На эту вечную тему – оскорбленная Мать проклинает человечество, а потом, умиротворившись, прощает его, – издревле сочинилась грандиозная драма, жившая в веках благодаря роду Евмолпидов, хранителей священных мест. Эти люди явно обладали чудесным режиссерским даром: спектакль, который они ставили ежегодно, по-видимому, по совершенству был равен величайшим церемониям посвящения вроде тех, которым дал новую жизнь гений Моцарта в «Волшебной флейте».
На эти церемонии, служившие славе и выгоде афинян, приезжали издалека. Некоторые время от времени возвращались, достигая высших степеней посвящения, но это не было братство, скрепленное кровью, как у адептов Митры. Элевсинские мистерии давали душевную терапию, обогащали личность и конечно же были к тому же модой высших кругов. Для философии Марка Аврелия они не могли дать много. Элий Аристид так и предупреждал его: «В Элевсине ты получишь только более отрадные представления о том, что будет после смерти, и сможешь надеяться на лучшую участь, нежели пресмыкание во мраке и нечистотах, что ожидает непосвященных» [57]57
Считалось, что только мисты наследуют жизнь вечную. Все остальные пребывают во мраке Аида. – Прим. науч. ред.
[Закрыть]. Но стоицизм в течение долгого времени выработал гораздо более богатую метафизику. Погружаясь в жидкую грязь, проходя через огонь, убегая от Эриний, Марк Аврелий мог увидеть только образы, а не закон круговорота судьбы. В античной культуре ему и так хватало образов, будто бы нечто объяснявших через нечто другое, подобное. Фронтон его почти что ничему другому и не научил. Впрочем, Марк Аврелий прекрасно усвоил, как при помощи риторической техники проще доводить свое доказательство до чужого ума: в его «Размышлениях» повсюду громоздятся всякие изумруды, ларцы, ульи и смоковницы. Но какой философ от Платона до Паскаля не злоупотреблял символикой, чтобы прикрыть недостаток логики? Так что не будем удивляться, увидев у римского императора предвестие паскалевой метафизики вплоть до его непонятного пари о вере включительно.
Марк Аврелий не был великим визионером. Его произведение неустанно вращается вокруг проблемы места человека во вселенной, но глубоко он в нее так и не проникает. На самом деле его интересуют только поведение человека в его естественном окружении – обществе – и потусторонние предметы, а именно Всеобщее, которое он не знает хорошенько, как назвать: то Космосом, то Природой, то Богами, то Божеством. Из фундаментального стоицизма он взял лишь несколько общих метафизических идей, полезных для общественной морали, которой полностью соответствует личная. В нем не видно ни малейшего зазора между императором и человеком, потому что и его представление о Всеобщем глубоко монистично: «Ибо мир при всем един, и Бог во всем един, и естество едино, и един закон – общий разум всех разумных существ, и одна истина…» (VII, 9).
Откуда он взял этот основной догмат: из учения Эпиктета, переданного Рустиком, или ум человека, с юности сбитого с толку необузданным культурным эклектизмом своего времени, просто инстинктивно требовал единства? Как мы видели, Марк Аврелий рано осознал пределы своих возможностей. Представление о всеобщем единстве очень подходило для неустойчивого темперамента юноши, невольно стремившегося собрать все свои силы. Для Цезаря оно же обернулось политической целью – сделать так, чтобы колоссальное общество жило по единым законам. Неспокойному душой человеку оно стало проводником к точке равновесия между бесконечно большим и бесконечно малым. Уже атом – гениальная гипотеза греческих мыслителей – давал чудесное облегчение разуму, поскольку объяснял все, кроме самого разума. Элементарная частица, переменная и нерушимая, из которых составлялись и воздух, и вода, и огонь, и земля, и люди, и звери, и все вообще, впрямь была пригодна ко всему. «Природа целого занята тем, чтобы переложить отсюда туда, превратить, оттуда взять, сюда принести» (VIII, 6). Из этой банальной мысли Марк Аврелий выводит некую религиозную, политическую и социальную программу. И действительно, постоянное перераспределение атомов для него было не просто физическим явлением, а задачей самой Природы, условием и оправданием ее вечности. Впрочем, замечает он, везде «одни развороты – небывалого не опасайся; все привычно, да равны и уделы».
Нечасто физику так остроумно ставили на службу консерватизму. Мы еще встретимся с этим представлением о мире, которое само себя считало утешительным: в нем ничего не исчезает и не создается, все суммы нулевые, все человеческие стремления иллюзорны. Еще более систематически Марк Аврелий прибегает к этой системе доказательств для усмирения скорбей этого света и страха перед иным. «Либо мешанина, и сплетение, и рассеянье, либо единение, и порядок, и промысел. Положим, первое. Чего же я тогда жажду пребывать в этом случайном сцеплении, в каше? О чем же мне тогда и мечтать, как не о том, что вот наконец-то „стану землею“. Что ж тут терять невозмутимость – уж придет ко мне рассеянье, что бы я там ни делал. Ну, а если другое – чту и стою крепко и смело вверяюсь управителю» (VI, 10).
На первый взгляд Марк Аврелий просто пересказывает начала старого стоического учения. Стоики любили ставить собеседника перед неравноценным выбором, чтобы убедить выбрать путь разума, а не путь абсурда. Поэтому многие комментаторы предпочитают видеть здесь простое софистическое упражнение, которое неутомимо пережевывается на протяжении целой книги. Если так, придется признать, что автор сам попался в свою ловушку и не может из нее выбраться без возвышенного тона и многословия. По недосмотру или нет, но в «Размышлениях» повтор – способ укрепить свое убеждение и передать его. Если приглядеться поближе, будет видно, что автор каждый раз подходит к своей мысли под другим углом, в другом контексте. «Поступать во всем, говорить и думать, как человек, готовый уже уйти из жизни. Уйти от людей не страшно, если есть боги, потому что во зло они тебя не ввергнут. Если же их нет или у них заботы нет о человеческих делах, то что мне и жить в мире, где нет божества, где промысла нет? Но они есть, они заботятся о человеческих делах…» (II, 11). Здесь Марк Аврелий не просто представляет дилемму, а указывает на правильный выбор. Но сопротивляясь своему наваждению – смерти (чересчур много и слишком с подчеркнутым равнодушием он говорит о ней), философ вовлекается в поток все более и более утонченных альтернатив. Нельзя остаться спокойным, читая следующий строгий анализ: «Если уж боги рассудили обо мне и о том, что должно со мной случиться, то хорошо рассудили – ведь трудно и помыслить безрассудное божество, а стремиться мне зло делать какая ему причина? Ну какой прок в этом ему или тому общему, о котором они более всего помышляют? И если они обо мне в отдельности не рассудили, то про общее уж, конечно, рассудили, так что я должен, как сопутствующее, и то, что обо мне сбывается, принять приветливо и с нежностью. Если же нет у них ни о чем рассуждения (верить такому неправедно), то давайте ни жертв не станем приносить им, ни молиться, ни клясться ими, и ничего, что делаем так, будто боги здесь и живут с нами вместе. Так что если они не рассуждают ни о чем, что для нас важно, тогда можно мне самому рассуждать, что мне полезно. А полезно каждому то, что по его строению и природе, моя же природа разумная и гражданственная. Город и отечество мне, Антонину, – Рим, а мне, человеку, – мир» (VI, 44).
Итак, мы возвращаемся на землю, в Рим – место, куда ведут все дороги, где Марк Аврелий по обряду следит за благополучием богов, а в повседневных делах – людей. Элевсин остался фантастическим эпизодом, иллюминацией, от которой остался только запах кикеона – таинственного напитка, который переносил посвященных в новое состояние незабываемой, но стиравшейся в памяти ночи. Поразившись упадку творческого духа в древнем городе, лишь на малое время воскресшего благодаря меценатству Адриана, Марк Аврелий учредил в Афинах четыре большие философские школы и назначил в каждую из них по знаменитому профессору: платоника, перипатетика, стоика и эпикурейца. И действительно, для обоих интеллектуалов династии испанского происхождения интеллектуальной столицей Империи был не Рим, а Афины, источником разумного слова оставалась Иония, а подлинными религиозными центрами – только Элевсин и Фивы Нильские. Империя шла к полицентризму.
Глава 9
ПЕРЕДЫШКА (176–177 гг. н. э.)
Две готовности надо всегда иметь. Одна: делать только то, что подлежит тебе по разуму властителя и законодателя на пользу людей.
Марк Аврелий. Размышления, IV, 22
Коммод представлен Риму
«Он вернулся в Италию морем, претерпев жесточайшую бурю. В Брундизиуме переоделся в тогу и воинам своим велел сделать то же. В его правление они никогда не носили в Городе воинской одежды». Под тогой здесь следует понимать одежду гражданскую – тунику и легкий плащ с застежкой на плече, но не огромный кусок сукна шесть на шесть метров, в который драпировались только в торжественных случаях. Вскоре такой случай как раз представился, да и войску предстояло всего на один день облачиться в блестящие доспехи: наступал день триумфа. Это был второй триумф в правление Марка Аврелия. Императора слишком долго не было в Риме, он был в долгу перед его жителями, лишенными патриотических церемоний, да и сам нуждался в новом утверждении своей власти народом. Впрочем, войско, пожалуй, еще больше нуждалось в моральном удовлетворении. Триумф был старым союзом силы и демократии: обе они были законны, но встречи их могли быть лишь краткими.
Чем реже и грандиознее было вступление легионов в Город, тем более магической представала связь двух властей, ставших совершенно чужими друг для друга. Войска в провинциях знали прежде всего своих начальников, а уж те прекрасно знали римского императора: они ему были родственниками или друзьями. Время от времени следовало устраивать большой семейный праздник. Принцепс на один день являлся среди граждан как «император» во главе войска; для всех это служило гарантией обоюдной верности, живым доказательством общего идеала и общего интереса. Таким образом, равновесие в обществе было не столь непрочным, как может показаться из кратких изложений римской истории. При Антонинах дело шло так, что оно могло продержаться целое столетие. Конечно, случай с Авидием Кассием только что поколебал его, но, как мы видели, оно было следствием стечения ряда быстро улаженных недоразумений. Чтобы нарушить гармонию, власти потребовалась бы еще целая серия невообразимых происшествий. И все-таки время оптимизма уже миновало. Марк Аврелий перенес сильное потрясение: теперь он должен был дать исключительный по размаху триумф, устроить великую династическую манифестацию.
Процесс, начавшийся в Сирмии, получил ускорение. Коммод перешагнул этапы на пути к императорской власти быстрее и в более молодом возрасте, чем любой римский принцепс. Это были установленные этапы «прохождения степеней», должным образом узаконенные, но как бы вложенные друг в друга и сменявшиеся с ненормальной быстротой. Вернувшись, Марк Аврелий сразу же попросил у сената, чтобы к его сыну в виде исключения не применялись возрастные ограничения и сроки выслуги, необходимые для занятия высших должностей. 27 ноября 176 года аккламация дала Коммоду империй (власть над Римом и провинциями), а также трибунские полномочия. Было решено, что с 1 января он станет консулом – абсолютный рекорд для этой должности: Коммоду было пятнадцать с половиной лет; даже Нерон не имел привилегии так нарушить обычай. 23 января 176 года, в день триумфа, новый император появился во главе легионов рядом с отцом, которому за несколько дней до того стал равен. Более того, когда процессия дошла до Фламиниева цирка (старого римского ипподрома), Марк Аврелий на глазах у десятков тысяч зрителей спустился с колесницы и пошел пешком, а Коммод принял бразды в свои руки.
Этот жест поразил воображение толпы гораздо больше, чем скоропалительное возвышение Коммода: оно смущает только последующие поколения, знающие, что из этого вышло. Нам легко теперь осуждать Марка Аврелия за недальновидность, корить его за слепоту в отношении пятнадцатилетнего сына. Нечестно было бы и утверждать, будто он нарушил правило выбора лучшего, которое всегда было только прекрасным мифом. Неужели кто-нибудь думает, что, будь у Нервы и Траяна сыновья, Тацит и Плиний имели бы случай восхвалять преимущества кооптации над наследственной властью? Адриан и Антонин, попав в такое же положение, даже не утруждали себя ссылкой на какой-либо конституционный принцип или прецедент. Они завещали Империю лучшим из ближайших по крови, причем усыновив их, отдавая дань наследственному принципу. Каждый помнил, что Август – основатель Империи – делал все возможное и невозможное, чтобы иметь наследника из своего потомства. Веспасиан заявил: Империя перейдет к моим сыновьям или ни к кому; двадцать лет спустя то же самое повторил Септимий Север. Зачем же было подвергать Коммода, Провидением предназначенного продолжить род, риску опасного соперничества?
Но Марк Аврелий напрасно рассчитывал на добрую природу своего сына. Его можно простить, если поверить современнику – Диону Кассию: «Коммод не был зол от природы. В нем не было ни лукавства, ни злобы. Наоборот: по природе он был слишком прост и робок, отчего и попал в подлую зависимость от своего окружения». Это вполне вероятно, и если так, то можно восстановить всю цепь заблуждений, исходную точку которых мы видели выше. Первой неосторожностью родителей был выбор Клеандра, способного, как показало будущее, на что угодно. Не настояв на своем при попытке удалить весьма подозрительного Саотера, мать вновь проявила слабость, которая дорого обошлась династии. Наконец, отец слепо верил, что окружением нового государя останется прежний Императорский совет, а это было чистейшей иллюзией.
Иллюзией непростительной, но все-таки объяснимой. Так должен был думать утомленный человек, лишившийся дара воображения, вверивший себя безличному Провидению. Он чисто автоматически повторил процесс возведения на престол Луция, случившийся пятнадцать лет тому назад. На его взгляд, Коммод и был вторым Луцием: сильным физически, жизнелюбивым, явно не злонамеренным. Он был довольно красив, его должны были любить солдаты. Ум его ленив? – Но за него все будет решать Помпеян. Кроме того, отец собирался и сам научить его государственным делам. И это был разумный план, но он не оставлял возможности выбора впредь. К тому же он не учитывал подводных течений в комнатах отрока. Коммод был робок, но только потому, что его подавлял образ отца. Лишившись матери, мальчик оказался в полной зависимости от человека, с которым он не надеялся сравняться, – и при этом знал, что совершенство его критикуют. Тогда он замкнулся в своем тайном мире, приучился скрывать и свои умственные недостатки, и мало оцененные физические достоинства. Клеандр с Саотером (пока еще заодно) учили его ждать и казаться покорным.
Ласковый отецВ «Размышлениях», как можно убедиться, много говорится и о необходимости быть снисходительным к ближнему, и о том, как улучшить его терпением и кротостью. Тень Коммода, надо думать, проходит в таком наставлении: «Если кто ошибается, учить благожелательно и показывать, в чем недосмотр. А не можешь, так себя же брани, а то и не брани» (X, 4). Последняя оговорка поражает: она открывает дверь этике полной безответственности. В конечном счете вина не лежит ни на ком. На миг можно подумать, что мы услышали евангельскую заповедь, но нет: никакого пересечения с христианством не будет, а будет сказано кратко: «Проступок другого надо оставить там» (IX, 20) – говоря попросту, ну его. Тут нет никакого эгоизма: это желание примирения любой ценой; и еще в одной записи оно опять становится вполне человеческим: «Благожелательность непобедима… Ну что самый злостный тебе сделает, если будешь неизменно благожелателен к нему, и раз уж так случилось, станешь тихо увещевать и переучивать его мягко в то самое время, когда он собирается сделать тебе зло: Нет, детка, не на то мы родились, мне-то вреда не будет, а тебе, детка, вред… И чтоб ни усмешки тайной, ни брани, нет – любовно и без ожесточенья в душе. И не так, словно это в школе…» (XI, 18).
Видно, что фон всех этих слов – любовь и ласка, что редкость для стоической философии. Это поистине говорит не школьный учитель, а отец. Но кому говорит? На первом плане – себе самому. Таково и все сочинение Марка Аврелия: грандиозная попытка взять себя в руки, призвать себя к порядку, как будто он боялся не выдержать собственной линии поведения. Уже на втором плане он обращается к какому-то анонимному ближнему – к читателю, которого нигде не называет и, может быть, даже не имеет в виду. И еще загадочней персонаж третьего плана – «самый жестокий из людей», с которым надо говорить, как с ребенком. Уж не Коммод ли это?
Мы не будем спешить становится на этот путь, где нас вскоре ждут удивительные встречи. Время от времени Марк Аврелий позволяет себе безжалостные выпады или, вернее, выбросы необъяснимо скверного настроения. И ведь точно так же можно было бы увидеть Коммода и в безобразном портрете незнакомца, который мы прочли выше: «Темный нрав, женский нрав, жесткий…» (IV, 28). Этот залп дурных мыслей целит во что-то очень конкретное и, кажется нам, полностью совпадающее с тем, что мы знаем о Коммоде. Нам, но не отцу – даже раздраженному, даже впавшему в отчаяние. Мы думаем, что речь идет скорее о Саотере. Впрочем, в другом месте еще скорее можно узнать черты Авидия Кассия: «Смотри-ка лучше, не себя ли надо обвинять, если не ожидал, что этот вот в этом погрешит. Даны же тебе побуждения от разума, чтобы понять, что этот допустит, надо полагать, эту погрешность. Ты же, позабыв об этом, впадаешь, когда он погрешил, в изумление… Так явственна твоя погрешность, раз ты человеку, имеющему такой душевный склад, поверил, что он сохранит верность…» (IX, 42). Намек, кажется, ясен, но все-таки будем хранить осторожность.








