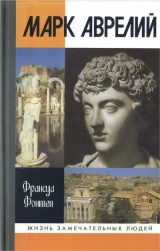
Текст книги "Марк Аврелий"
Автор книги: Франсуа Фонтен
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
Перед нами загадка: чем руководствовались люди, осужденные на такое занятие, когда у них не оставалось и десяти процентов шансов на жизнь, или порой никаких, но часто проявлявшие поразительную боевитость и чувство чести. Мы не можем это понять, потому что мы не знаем, кем эти люди были прежде. Говорят, что это были преступники; арена давала им отсрочку, и они предпочитали случайность каторге в рудниках. Военнопленные часто происходили из воинственных племен, где фехтование считалось благородным занятием. Римские граждане – добровольцы (а такие случаи встречались нередко) надеялись избавиться от скуки или нужды, дать волю своей агрессивности. В то время общество производило таких людей десятками тысяч. Ланистам не составляло труда завербовать добровольцев. Гораздо труднее было их обучить.
За редкими исключениями, на арену не выпускали физически и морально неготовых гладиаторов. Такой неопытный боец испортил бы зрелище и опозорил организаторов. Год или два его учили в казарме, где нещадно муштровали и превосходно кормили по специальному рациону под наблюдением аттестованных врачей. Явившись перед публикой в великолепных доспехах, впервые получив стальной меч, о котором боец мечтал два года, он был уже не приговоренным к казни, а претендентом на геройскую славу, готовым рисковать жизнью на глазах у восьмидесяти тысяч зрителей, громко вопящих в его поддержку или наоборот – смотря по тому, в какой школе он был подготовлен. Оставалось два выбора: убивать или безропотно дать убить себя, да и то его подгоняли раскаленным железом, не давая пассивно подставиться противнику. Впрочем, противнику честь не позволила бы прикончить сдавшегося без боя.
Такова классическая схема собственно гладиаторской карьеры, которую редко завершали, оставшись в живых: ради славы и больших наград победители добровольно оставались, так сказать, на сверхсрочную службу. Гораздо менее ясна картина командных боев, на которые выпускали наемных гладиаторов. Такие примеры, как сражения иудейских пленников, которые по приказу добрейшего Тита должны были десятками тысяч убивать друг друга, и даков, украсивших триумф Траяна, если историки говорят о них правду, не укладываются в нашем сознании. Впрочем, Траян вернул некоторых из бойцов домой. После него военнопленных стало слишком мало для боев такого рода: Марку Аврелию пришлось, наоборот, мобилизовать гладиаторов для войны с германцами. Бойцы стали цениться выше; ланисты подняли на них цены.
Сказалась ли дороговизна боев на прочности института, который по римскому образцу, только что рассмотренному нами, сотнями тиражировался в городах, наперебой, подобно современным спортивным клубам, повышающим цены, чтобы купить лучших бойцов? Настал момент, когда городские власти уже не могли справиться со своими меценатскими обязанностями, и галлы отправили одного соотечественника, члена Римского сената, с жалобой на невероятную дороговизну гладиаторов. Это случилось в 177 году. Марк Аврелий, который как раз тогда приводил в порядок бюджет, прислушался к провинциалам и утвердил сенатус-консульт «De sumptibus ludorum gladiatorum minuendis» – максимальной цене на гладиаторов разных категорий. Этот текст, про который современные историки говорят много разного, интересует нас прежде всего тем, что его нечаянным следствием стала драма лионских христиан: казнь Аттала, Матура и Бландины.
Дело в том, что галлы, не везде отказавшиеся от обычая человеческих жертвоприношений, часть осужденных на смерть оставляли для священных игр. Сенатус-консульт Марка Аврелия, очевидно, закрыл для лионцев рынок профессиональных гладиаторов (ланисты не желали уступать их по дешевке), и для выхода на арену на празднике Трех галльских провинций в августе 177 года оставались только осужденные. Осуждение христиан пришлось очень кстати. Можно даже предположить, что его специально подстроили лионские эдилы, чтобы выйти из положения. Капитолин пишет: «Марк Аврелий разными способами делал более кроткими гладиаторские бои». Но при этом надо понимать: тем самым император вольно или невольно переключал их бесчеловечность на более слабых. Благодарность галлов, которая до нас дошла, свидетельствует, что введение потолка цен пришлось им политически и экономически кстати, а ланисты тоже остались в барыше. Они не стали платить налоги за поставку осужденных – таковыми в данном случае оказались христиане.
В общем, нам, отравленным мощнейшей христианской реакцией и воспитанным на многовековом стремлении европейского общества к гуманности, трудно представить себя римлянами – любителями цирковых зрелищ. У блаженного Августина есть прекрасный рассказ о том, как один его друг вернулся в Рим с твердым намерением не дать себя соблазнить проклятыми игрищами. Но приятели силой затащили его туда. Тогда он закрыл глаза. «О, если бы он заткнул и уши!.. Он открыл глаза… Как только он увидел эту кровь, он упился свирепостью… Теперь он не только ходил с теми, кто первоначально увлек его за собой, он опережал их и влек за собой других» [60]60
Перевод М. Е. Сергеенко. В оригинале текст Августина дан в пересказе. – Прим. пер.
[Закрыть]. Был ли Марк Аврелий выше риска такой заразы, стоял ли в стороне? Он мог подозревать, что Коммод уже смертельно ранен жаждой насилия, которое завораживало не только простолюдинов. «Некий Ветур, о котором шла дурная слава, – пишет Капитолин, – однажды попросил у Марка Аврелия должности. Тот просил его сначала очиститься в общем мнении, но Ветур возразил, что видит на сенаторских скамьях многих из тех, с кем сражался на арене. Император с терпением снес этот ответ», – замечает автор. Иначе говоря, он взял свои слова назад: ведь любители сражений были повсюду. Коммод, как рассказывают, сражался перед зрителями девятьсот раз – конечно, тупым оружием. Но мечи, пронзавшие сотни тысяч гладиаторов вплоть до 410 года, были заточены хорошо. Будучи главным лицом на играх, император наверняка в этом убеждался.
Глава 11
СОЛНЦЕ ЗАХОДИТ НА ЗАПАДЕ (178–180 гг. н. э.)
Если принять во внимание, что за пятьдесят восемь лет, десять месяцев и двадцать дней своей жизни он ни разу не проявил неровного расположения или непостоянства в образе жизни…
Дион Кассий
Он обладал такой ровностью духа, что никто никогда не видел, чтобы радость или печаль изменили черты его лица.
Капитолин
«Поспешай к своему назначению»
«После смерти Фаустины Фабия приложила все усилия, чтобы выйти замуж за Марка Аврелия, но он, не желая оставлять с мачехой такое количество детей, взял в наложницы дочь приказчика Фаустины».
Мы познакомились с Цейонией Фабией, дочерью Цезаря Аврелия Цейония Коммода и старшей сестрой молодого Луция, когда Адриан, торопясь назначить наследников, обручил ее с Марком, а Фаустину с Луцием. Оба союза получались неравными: невесты были старше женихов. Вскоре Антонин восстановил нормальный порядок в пользу своей дочери, и Цейония Фабия потеряла надежду стать императрицей. В утешение ее выдали за консула Плавтия Квинтилла, потомка блестящей фамилии. Их сын, носивший то же имя, женился на Фадилле; мы видели, как он вместе с Коммодом поднимался на Капитолий 1 января 177 года. Овдовев, Фабия питала планы вернуть себе первого жениха и титул Августы. Клан Цейониев, фаворитов Адриана, отвергнутых судьбой, думал, что берет реванш.
Несомненно, эта попытка – не плод воображения Капитолина. Матримониальная стратегия аристократов не отступала ни перед чем. Среди предков Фабии мы встречаем и других великих охотниц за женихами, прибиравших к рукам богатства и титулы. Конечно, эти женщины чем-то умели соблазнить. Кроме того, Фабию вместе с братом обвиняют в темных интригах с целью устранения Марка Аврелия. Как бы то ни было, ему пришлось придумывать предлог, чтобы отклонить предложение упрямой вдовы, и этот предлог нельзя не счесть вполне уважительным. Луцилла не вынесла бы, чтобы бывшая сноха встала выше ее, а на горизонте уже виднелась новая Августа, и Коммод не мог согласиться, чтобы его зять Квинтилл укрепил связи с императорским домом. Марку Аврелию хватало благоразумия не впутывать династию в такие взрывоопасные браки.
В то же время он чувствовал, что для нового опыта брака он сам слишком стар. В это самое время он писал: «Брось книги, не дергайся – не дано. Нет; как если б ты уже умирал, пренебреги плотью; она грязь, кости, кровянистая ткань, сплетение жил, вен, протоков… Ты уже стар» (II, 2). Такая усталость, такое отвращение от жизни в пятидесятипятилетнем человеке – важные знаки; они выделяются на фоне депрессивных симптомов, часто наблюдающихся в этом возрасте. Их следует толковать как примирение со смертью, а может быть, и призывание смерти. Они выражены слишком сильно, чтобы здесь можно было видеть просто стилистическую фигуру моралиста. Они повторяются как бы рефлекторно, то обличительно, то отстраненно. «Глумись, глумись над собой, душа, только знай, у тебя уж не будет случая почтить себя, потому что жизнь коротка. Та, что у тебя, почти уже пройдена, и ты не почтишь себя, ибо в душе других отыскиваешь [61]61
В переводе А. К. Гаврилова. Согласно другому чтению: «…у каждого жизнь – и все»; «…не стыдилась перед собою и в душе других отыскивала…»
[Закрыть]благую свою участь» (II, 6). Слыхан ли более отчаянный крик человека, обнаружившего, что время обратиться к себе иссякло, что он уже не может отделить себя от своих ближних? Его одолевает нетерпение: «Не блуждай больше; не будешь ты читать свои заметки… Так поспешай же к своему назначению» (III, 14).
Усталость или, напротив, необычайный подъем сознания привели императора к следующему проблеску прозорливости – возможно, величайшему из уроков, какие нам дал стоицизм. «Значит, должно нам спешить не оттого только, что смерть становится ближе, но и оттого, что понимание вещей и сознание прекращаются еще раньше» (III, 1). Для высокой римской традиции желать смерти или даже добровольно уйти из жизни, когда перестал справляться со своим умственным и физическим состоянием, – долг достойного человека. Марк Аврелий прибавляет к этому еще нюанс, не передаваемый словами: «Нет такого счастливца, чтобы по смерти его не стояли рядом люди, которым нравится случившаяся беда. Был он положителен, мудр – так разве не найдется кто-нибудь, кто про себя скажет: „Наконец отдохну от этого воспитателя. Он, правда, никому не досаждал, но я-то чувствовал, что втайне он нас осуждает“» (X, 36). Красноречивое признание.
Ни в одном другом месте Марк Аврелий не выражал с такой кротостью горькую мысль, что никого не заставил понять и полюбить себя – даже близких. Выслушаем его исповедь до конца: «Ты, как будешь умирать, помысли об этом; легче будет уйти, рассуждая так: ухожу из жизни, в которой мои же сотоварищи, ради которых я столько боролся, молился, мучился, и те хотят, чтобы я ушел, надеясь, верно, и в этом найти себе какое-нибудь удобство» (Там же). Соблазнительно подставить под эти признания какие-нибудь имена, но мы ограничимся и тем, что подглядели такой опыт умирающего монарха. Может быть, он слишком долго прожил, даже в глазах самых верных ему, может быть, был недостаточно терпим к новому поколению, может быть, его бранят за нелюбовь к странствиям и упорное желание жить вдали от Рима. Он чувствует себя непонятым. Ясно, что он отжил, устал от ссор в его собственной семье. «А теперь, ты видишь, какой утомительный разлад в этой жизни. Только и скажешь: приди-ка скорее, смерть, чтобы мне как-нибудь и самому-то себя не забыть» (IX, 3).
Воспитатель он или кто другой, но представляет нам в своих «Размышлениях» не уроки риторики, а потрясающий очерк скрытой стороны власти. Кто бы вообразил, что мудрый император с трудом переносил старение, постепенно уходил в душевное одиночество и отвращение от жизни, если бы сам он в этом не признался? Вполне вероятно, что измена Кассия, другие измены, с ней связанные, слухи вокруг нее поколебали его природную доверчивость, но не возбудили мстительности, как обычно случалось с цезарями. Из всех из них только у Марка Аврелия покушение на всемогущество привело к размышлению, а не к бешенству. Может быть, обращение «приди-ка скорее, смерть» – чистая лирика, но император не испугается, подобно лесорубу из басни, когда его вскоре поймают на слове. Он действительно ищет дверь для достойного ухода из слишком рано ослабевшей жизни. Он чувствует, что время его, как говорится, прошло. И он призывает себя предупредить смерть: «Сел, поплыл, приехал, вылезай» (III, 3).
Наверное, не случайно, что «Размышления» заканчиваются поразительно прозорливым диалогом. Автор оставляет нас восхищенными его писательским талантом: «Человек! Ты был гражданин этого великого града. Неужели небезразлично тебе, пять лет или три года? Ведь повиновение законам равно для всех. Что же ужасного в том, если из Града высылает тебя не тиран и не судья неправедный, а та самая природа, которая тебя в нем поселила? Так претор отпускает со сцены принятого им актера. „Но ведь я же провел не пять действий, а только три“. – Вполне правильно. Но в жизни три действия – это вся пьеса. Ибо конец возвещается тем, кто был некогда виновником возникновения жизни, а теперь является виновником ее прекращения. Ты же ни при чем, как в том, так и в другом. Уйди же из жизни, сохраняя благожелательность, как благожелателен и тот, кто тебя отпускает» (XII, 36) [62]62
Перевод С. М. Роговина.
[Закрыть]. И в самом деле, Марк Аврелий играл только в третьем акте, и до трагической развязки не дошло. Император знал, что ему надо еще вернуться на Дунай и закончить там свое дело. Но дальше он уже не пойдет: не осталось ни сил, ни желания.
По всем изложенным резонам понятно, почему император не долго думал насчет Фабии. Но зачем он завел любовницу? Удивительно, что человек, настолько уставший морально и, очевидно, физически, поставивший себе за правило «стереть представление; устремление остановить; погасить желание; ведущее замкнуть в себе» (IX, 7), тотчас после смерти жены, с которой, впрочем, наверное, давно не был близок, кладет к себе в постель дочь ее слуги. Мы не имеем никаких сведений об этой девушке, которая, как и ее отец – мелкий придворный служащий – вероятно, считалась вольноотпущенницей. Ее не сравнить с наложницей Антонина Галерией Лисистратой, которая быстро заняла в жизни этого императора слишком большое, на взгляд некоторых, место (в частности протежировала назначение префекта претория). Императорская наложница не играла роли в придворном этикете, не участвовала в публичных мероприятиях, но все же, как только освобождалось место императрицы, обладала признанным положением. Мы уже говорили о важности царствующей четы в образном строе имперской мистики. Почившая императрица становилась «божественной» и вездесущей. Ее память во славу овдовевшему супругу возвеличивали бюсты, храмы, коллегии девушек, а между тем в покоях Палатина уже незримо царствовала другая женщина, не имевшая ни титулов, ни лица. Так было с дочерью приказчика Фаустины.
Ее роль была предначертана заранее: обеспечить бесперебойную работу служб императорского двора, – и, вероятно, именно это и было главное. Живя с родителями на Палатине, она, очевидно, коротко знала Марка Аврелия и оказывала ему услуги всякого рода. Насколько важны среди прочих были постельные, составляли ли они часть гигиенических требований, которые римская медицина и обычай считали непременными для мужчин любого возраста, – это в данном случае сказать трудно. Правдоподобней всего предположить, что его чувственность, поздно проснувшаяся, страдавшая от многочисленных телесных недугов и сдерживавшаяся дисциплиной духа, угасла тоже преждевременно. Современные сексологи могли бы много размышлять над таким «размышлением»: «Как представлять себе насчет подливы или другой пищи такого рода, что это рыбий труп, а то – труп птицы или свиньи; а что Фалернское, опять же, виноградная жижа, а тога с пурпурной каймой – овечьи волосья, вымазанные в крови ракушки; при совокуплении – трение внутренностей и выделение слизи с каким-то содроганием… так надо делать и в отношении жизни в целом, и там, где вещи представляются такими уж предубедительными, обнажать и разглядывать их невзрачность…» (VI, 13). Тут можно видеть обычный риторический штамп, можно даже усилием разума освободиться от слишком насущной потребности или привычки, дискредитируя ее. Но если бы всякое усилие мысли, как учат некоторые психологи, было катарсисом, то книгу Марка Аврелия можно было бы толковать бесконечно. Проще буквально понять человека, от которого мы уже слышали: «Ты стар; пренебреги плотью – она грязь…» Тут ни к чему искать борьбу с собой – это простой отказ.
Марк Аврелий всегда, даже в сердечных порывах, сторонился плотской любви. Это был больше естественный рефлекс, нежели нравственное правило: не видно, какой общественной или религиозной заповеди он повиновался, «не став мужчиной до поры» и в конце жизни благодаря богов за это воздержание. Понятно еще, что он радовался, «что не воспитывался долго у наложницы деда» (I, 17): ясно без слов, что атмосфера там была не очень здоровая. Но вот ставить себе в заслугу, «что не тронул я ни Бенедикты, ни Феодота», а в те времена, когда заниматься любовью с отпущенниками обоего пола мальчикам из хорошей семьи отнюдь не запрещалось, было свидетельством особенного пристрастия к непорочности. Никому не удалось точно установить личности этих двоих, с греческими именами. Нам они просто помогают лучше разглядеть сложную природу человека, на всю жизнь которого, кажется, повлияло нежелание стать мужчиной, столь непривычное для его современников.
Вторая германская экспедиция«Он женил своего сына на дочери Бруттия Презента, и этот брак праздновался как брак частного человека. По этому случаю он вновь дал народу амнистию». Капитолин не говорит нам, почему торжества прошли приватно. Бруттий Презент был сыном знаменитого проконсула, друга Адриана, и сам в первый раз был консулом в 153 году. Так что этот брак был как нельзя более почетным; императорская фамилия внедрялась в среду наидревнейших сенаторов, чья римо-италийская основа на глазах истончалась. Новую императрицу звали Бруттия Криспина; мы знаем ее только в образе хорошенькой девочки-подростка с покалеченного бюста, судьба которого служит образом печальной судьбы, ожидавшей ее саму. Согласно Диону Кассию, «Марк Аврелий устроил эту свадьбу раньше, чем желал, из-за новых военных действий в Скифии (Паннонии), требовавших его присутствия». Все та же озабоченность бесспорностью престолонаследия – теперь она толкнула императора, не уверенного, долго ли он проживет, поторопить взросление Коммода. Он, который, будучи просватан в семнадцать лет, просил еще пять лет на размышление, срочно женит сына в том же возрасте на едва созревшей девочке. Может быть, он, зная о гомосексуализме Коммода, надеялся, что новая Августа приведет его в норму и даст Антонинам нового наследника? Марк Аврелий не мог знать, что не укрепил, а разрушил династию; Луцилле тяжело было терпеть, что Криспина согласно этикету встала выше нее. Началась тайная борьба, повернувшая ход истории.
Вести, встревожившие императора, пришли с дунайского фронта; несмотря на аккламации и триумф в Риме, мир с германцами опять был под угрозой. Паннонским наместникам не удавалось сладить с волнениями квадов и маркоманов, а те, по-видимому, действительно были недовольны условиями договора, который римские войска блюли чересчур строго. Почитав жалобы их послов, которые Дион Кассий передал со всей горечью и весьма правдоподобно, можно понять, почему они взбунтовались: сорок тысяч человек вспомогательных (самых жестоких) войск, расставленные по их территории, мешали обрабатывать поля, перегонять скот, перевозить товары и ездить на ярмарки. Сами солдаты жили на этой земле «и имели все, даже бани». Моравские квады в отчаянии решили переселиться к своим дальним родичам – семнонам, жившим тогда в среднем течении Эльбы. Узнав про их планы, Марк Аврелий распорядился перекрыть дороги на север.
С первого взгляда эта мера выглядит бессмысленной обидой. Злобный враг в отчаянии снимается с места и уходит – зачем же его держать? Дион Кассий говорит о двух причинах: «Император хотел не только завладеть их землей, но и наказать их». Конечно, провинция, оставленная жителями, – добыча небогатая; пустое пространство тотчас привлечет не менее нежелательных пришельцев. Но теперь Марк Аврелий к тому же не мог не знать, что переселение квадов, нарушив равновесие всех племен на севере, повлечет за собой новую цепную реакцию, теперь уже на рейнской границе. «Наказание» мятежников обернулось бы против него же. Так что причины, по которым он решил задержать на месте народ, угнетаемый его войсками, были серьезными (так и Цезарь не дал гельветам переселиться на другой конец Галлии к аквитанцам). Но подобный образ действий нарушал обычное право и привел к не менее серьезным неурядицам, чем те, которых хотели избежать.
Дело в том, что мятеж квадов в очередной раз нашел поддержку у богемских маркоманов и франконских гермундуров. Приходилось готовиться ко второму германскому походу. Поэтому поспешно женили Коммода, с этих пор повсюду сопровождавшего отца, и отправились на войну, исполнив формальности ее объявления. На этот раз Марк Аврелий не хотел, чтобы события застали его врасплох. Он явился в сенат просить одобрения открытию военных действий. На деле он сам располагал этим суверенным правом, но был до того любезен, что заявил даже так: «Все здесь принадлежит сенату и народу. У меня нет ничего своего – даже дом, в котором я живу, ваш». Затем, пишет Дион Кассий, «он, как говорили мне очевидцы, взял священное кизиловое копье из храма Беллоны, метнул его в сторону вражеской страны и отправился в поход». Это был очень древний обряд, который император исполнил как член коллегии фециалов – должностных лиц, ответственных за соблюдение строгого порядка во всех действиях, касавшихся отношений Рима с другими державами. Наряду с салиями и весталками они исполняли сложные обязанности магического протокола, восходящие к незапамятным временам, формы которого по-своему соблюдают и наши дипломаты.








