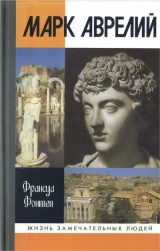
Текст книги "Марк Аврелий"
Автор книги: Франсуа Фонтен
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)
Мы не знаем подробностей этого триумфа – германо-сарматского, с соответствующими трофеями и постановочными подробностями. Зато остался след щедрости, с которой Марк Аврелий заплатил за свое долгое отсутствие и за восшествие на престол Коммода: «Он устроил великолепные празднества и раздал много денег народу». На самом деле его поймали на слове. Он говорил перед толпой про долгие годы, проведенные им на войне. Тогда слушатели подняли вверх руки с восемью растопыренными пальцами. Император не сразу понял, потом улыбнулся и согласился: «Хорошо, пусть будет восемь», – чем вызвал всеобщий восторг: все поняли, что он пообещал каждому гражданину по восемь золотых монет, «больше, чем давал любой другой император», – говорит Дион Кассий. А ведь раздачу следовало рассчитывать по другим основаниям. Марк Аврелий привез с собой не золото даков, как Траян, а бюджетный дефицит и начало серьезного экономического кризиса.
Кризис, первые симптомы которого проявились теперь, так и не удалось преодолеть; он стал прелюдией глубоких структурных изменений, которые только недавно перестали – и, кажется нам, напрасно перестали – называть «упадком Римской империи». То, что после нескольких правителей, лишенных воображения, перемены были необходимы, понятно. Но те, которые действительно произошли, оказались негативными, внезапными да к тому же еще плохо осознанными современниками. Даже на наш искушенный взгляд их природа и причины остаются неясными, потому что строй, давший сразу много трещин, рушится не в каком-то одном месте и не повсюду одновременно. Некоторые признаки кризиса стали видны уже тогда, когда императорские медали вновь стали распространять идеи «Благополучия» и «Безопасности». Вернувшись в Рим, Марк Аврелий велел простить все недоимки в императорскую и общественную казну. Заемные письма до 177 года были сожжены на Форуме. Эта мера очищала разом все прошлое за сорок лет. Неплатежеспособность стала повсеместной эпидемией, грозные податные инспектора с ней уже не справлялись. Но откуда взялась эта всеобщая задолженность? Да из-за того, что и государство, и частные лица жили не по средствам.
Для государства непрерывная пятнадцатилетняя война была настолько разорительна, что пришлось продавать сокровища казначейства. К этому надо прибавить расходы на поддержание внутреннего порядка: мы уже говорили о восстании вуколов в Египте. Есть и другие примеры тому, что в провинциях становилось небезопасно. На большие дороги выходило все больше изгоев. Часто это были мелкие свободные крестьяне, разоренные крупными землевладельцами. Некоторые из них вливались в городской пролетариат, и городам оказывалось тяжелее помогать неимущим. Развитие самих городов, перенаселенных и тративших неумеренные суммы на престижные стройки, становилось в тягость местным властям; все больше богачей уезжало из города в обширные поместья, обрабатывавшиеся рабами и дававшие очень мало дохода. Для приведения в порядок бюджета обремененных долгами городов вмешивалось государство, присылавшее контролеров. Бегство от налогов или разорительных почетных обязанностей стало серьезным явлением, против которого вскоре пришлось принимать принудительные меры. Если меценат разоряется, город приходит в упадок, но ведь вся Империя была огромной сетью городов.
В самом деле, множество маленьких Римов, соединенных с главным Городом сетью самых современных дорог, выкачивали все средства из недостаточно возделанной сельской местности, из чересчур активно разработанных рудников и карьеров. Чудовищный Город, в который вели все пути, выпив до дна ресурсы Италии, принялся за большую часть средств других городов. Эта система, ничем, по правде говоря, не отличающаяся от любой империи и любого централизованного государства, может прекрасно функционировать, когда обмен свободно идет по путям, проложенным повсюду или почти повсюду. Но когда Европа стала театром изнурительной войны, выход из строя широкого дунайского коридора и военные реквизиции выбили из колеи частную торговлю. В некоторых местах появились признаки обнищания, а поскольку тогда не было даже понятия производительности труда, помощь в таких случаях оказывать не умели. Небольшие запасы находились только в римских резервных складах.
Так надо ли считать начало экономического спада отдаленным результатом денежной инфляции вследствие появления ста пятидесяти тонн дакского золота, щедро вброшенных в экономику Траяном? Или чумы, привезенной с Востока Луцием Вером? Или, наконец, результатом все время возраставшего уровня потребления при практически не поддающейся усовершенствованию системе производства? Иные современные историки во всем винят узкий консерватизм Марка Аврелия. Верно, что в его «Размышлениях» незаметно никакого интереса к экономике и финансам, хотя бы в качестве метафор. Он говорит только, что удалялся от образа жизни богачей и берет себе в образец строгую домашнюю экономию Антонина. Позже Марк Аврелий своими указами установил запретительные цены на гладиаторов и потолок вознаграждения комедиантам. Он не забывал о нуждах торговли: «велел, чтобы в базарные дни пантомимы начинались позже». Но законы против роскоши в Империи, начиная с Августа, никогда не соблюдались: только угроза полного краха в конце следующего столетия привела к тому, что были изданы строгие «указы о максимуме». Марк Аврелий лечил лишь крайности или частные случаи (он без колебаний оказал помощь Смирне и Никомидии, разрушенным землетрясением), но не столько строил, сколько ремонтировал и содержал больше предприятий, чем можно было себе позволить. Зато кажется, что римская склонность ко всеобщей регламентации при нем лишь усилилась. Нет надобности искать здесь, как нередко приходится слышать, влияние египетских образцов. Парадоксально, но самый либеральный строй именно потому, что поддерживает многие начинания, все чаще вмешивается в общественный порядок. И вот мы видим, как Марк Аврелий запрещает проезд повозок по улицам Рима, закрывает смешанные бани и приказывает укладывать маты под веревками канатоходцев.
Высшая государственная должностьМарк Аврелий делал все, чтобы с ним, а главное, с Коммодом в Рим вернулось состояние всеобщего подъема, которое поглотило бы недовольство народа, уничтожило последствия дела Кассия, заставило забыть об экономических неприятностях и сделало приемлемой для всех династическую операцию, как минимум, слишком поспешную. Если посмотреть на этот эпизод хладнокровно, можно заподозрить, что император хотел ответить на незаконный государственный переворот законным. Но в последнюю неделю 176 года в Риме было не до хладнокровия: атмосфера была, наоборот, перегрета. Едва окончились триумфальные церемонии, начались сатурналии – удивительный праздник, на время отменявший и даже переворачивавший социальный порядок: традиция велела, чтобы целую неделю, с 17 по 23 декабря, господа служили своим рабам. На время этого ритуального карнавала (конечно, сильно усмиренного и обузданного) о заботах опять забывали. 1 января был праздник двуликого Януса – день подарков и визитов, а также торжественного восстановления обычной иерархии. Два новых консула поднимались на Капитолий и символически посвящались в хранители республиканской традиции. В 177 году одним из этих консулов был мальчик в пурпурной тоге (цвет, строго закрепленный за императорскими одеяниями), а другим – молодой человек в ярко-красной одежде – Педуцей Плавтий Квинтилл. Он был мужем Фадиллы – одной из пяти сестер Коммода. Его матерью была Цейония Фабия – сестра Луция Вера, первая невеста Марка. Плавтий еще не знал, что коллега убьет его, но для ума нового поколения такое предположение уже не было странным.
Обычай велел, чтобы императоры хотя бы раз за царствование занимали консульскую должность. Таким образом они подтверждали престиж этой должности, превратившейся в чисто формальную, и использовали в своих целях вечный символ. Вместе с тем они напоминали, что по праву были принцепсами законодательствующего сената и первыми должностными лицами исполнительной власти. Но тем же самым они признавали, что императоры – слуги государства, а не само государство. Казалось, что превращение принципата в доминат, которого так боялся Тацит, остановилось. В третий раз за тридцать лет Империя – как и консулат – стала двуглавой и таким образом на первый взгляд тяготела не столько к монархии, сколько к коллегиальности. На самом деле она оставалась личной властью, но личность, по-прежнему державшая в руках бразды правления, умела править своей колесницей. Как слабый здоровьем и робкий человек, весь погруженный в абстрактную мораль и метафизику, мог овладеть этим искусством, предназначенным для энергичных и честолюбивых натур? Теперь мы можем постараться объяснить этот парадокс, пересмотрев природу клонившегося к концу царствования в свете современной политологии.
Сорок лет прожить с видимым бесстрастием, обладая безграничной властью – вернее, властью, границы которой были плохо определены и, смотря по обстоятельствам, так или иначе трактовались, были предметом переговоров или навязывались, – такое испытание до Марка Аврелия одолел только Август. Другие императоры не могли побить этот рекорд, потому что слишком поздно восходили на трон или слишком рано умирали, но в любом случае головокружение абсолютной власти быстро делало их недееспособными. Политическое долголетие и долготерпение Марка Аврелия можно объяснить тем, что он рано был предназначен своими наставниками к своей роли в обществе, постепенно поднимался во власти под контролем Антонина, так что последний этап стал только практическим упражнением. Император по статусу в каком-то смысле стал высшим государственным чиновником. Это только наполовину метафора. Так же, как Рим при Антонине можно назвать императорской республикой, так же и императора с определенными оговорками можно уподобить конституционным монархам или избираемым президентам современных демократических государств, которых именуют первыми должностными лицами (буквальный перевод латинского princeps). Разница в священном, почти мистическом характере должности и даже личности императора, не сравнимой с тем, что получилось спустя восемнадцать веков. Но в отношении власти не надо бояться доходить до метафизических корней нашего общественного строя, о каком бы режиме и времени мы ни говорили. И теперь хорошо видно, что республики стремятся укрепить свою монархическую, почти наследственную природу, хотя и скрывают это. Каждый президент на наших глазах прилагает усилия, чтобы обеспечить место своему преемнику с таким же откровенным упорством, как Август и Веспасиан, но и с такими же тайными уловками, как Антонины, которые от Нервы до Марка Аврелия остерегались говорить вслух о наследственном характере своей династии.
Антонин и его духовный сын чувствовали свою ответственность, по рекомендации своего предшественника и с согласия сената и армии заступая на вакантную публичную должность. Что может быть естественнее? Конкретные обстоятельства этого выбора, совершенного в спешке, но много раз подтвержденного и в конституционных формах, и в сердцах людей, были связаны главным образом с политической целесообразностью. Обоим избранникам хватало здравого смысла, чтобы не загордиться по этому поводу и не фантазировать насчет происхождения своей власти. Они, конечно, не были чужды религиозности, пропитывавшей все римское общество, а потому не уклонялись от жреческих обязанностей, связанных со своей должностью, но тщательно их соблюдали. Мы знаем, что Марк Аврелий был религиозным конформистом, как римский гражданин, и верил во вселенский разум, как философ-эллинист. То и другое стало полюсами одной из лучших когда-либо созданных систем политической этики. В том, что он писал для себя, нет и следа имперской мистики, которую пропаганда поддерживала у населения. Если он иногда и говорит о своей роли не как о просто человеческой («я и в другом смысле рожден, чтобы защищать их, как бык или баран стадо»), то потому, что неограниченность власти делала ее абстрактной, и ее буквально невозможно было выразить иначе как аллегорией. Но Марк Аврелий во всем остерегался нарушить меру: его роль как человека не абсолютна, а вставлена в рамку некоего Космоса, который он именует также Природой или, более привычно, богами. Когда он благодарит богов, что те дали ему хороших предков и добрых друзей, чувствуется стилистическая фигура: ясно, что похвала относится к самим этим людям. Но когда он благодарит их за то, что ему «в сновидениях дарована была поддержка», когда в разгар битвы взывает к Юпитеру или Тоту-Шу, мы вновь видим римлянина, а эти люди откровенно и наивно проявляли те же суеверия, которые мы носим в себе тайно и стыдливо.
Примем теперь во внимание, что образ государя в его проекции на Империю для его подданных поддерживался императорским культом – истинной государственной религией, имевшей сильную организацию. От края до края Империи на алтари перед статуей императора приносились горы жертв. Аммиан Марцеллин передает, будто после победы над Парфией по Риму ходило юмористическое прошение от белых быков к Марку Аврелию: «Если ты не прекратишь свой триумф, ни один из нас не спасется». В любом городе люди домогались чести стать фламинами этого культа, имевшего множество разнообразных проявлений, и ритуал его с искренним благочестием соблюдался почти всем населением. Нет ничего удивительного, что императора почитали, а то и боготворили: ведь он как верховный понтифик был посредником между людьми и богами. После же смерти он почти автоматически и сам становился божеством. В глазах своих восточных подданных он уже и при жизни был богом; всякий истинный римлянин считал это знаком отсталости таких людей, но, впрочем, вполне простительным преувеличением: оно гарантировало верность трудно контролируемых экзотических провинций. Не стоит уходить далеко – в наше время или в новую историю, чтобы понять и оценить глубину этого явления – мистической персонализации – в обществе, где разные народы по случаю или силой оказались сплавлены вместе. Принудили их, убедили или они сами решились разделить общую судьбу, им нужна была осязаемая нравственная связь, поклонение то ли венчанной особе, то ли избранному президенту, и чем он был дальше, тем восторженнее поклонение.
Правовое государствоТолько полемика исследователей поможет ответить на вопрос, насколько можно модернизировать изображение имперской идеологии и образа правления при Антонинах. Здесь возникает много соблазнительных параллелей и всегда есть риск анахронизма. Как не поразиться актуальности личностей Траяна и Адриана – людей, совершенно аналогичных «сильным деятелям» нашего времени, всевозможным харизматическим вождям и строителям империй? Кто не может представить себе Антонина, затянутого в черный костюм, приносящего присягу на Библии в одном из современных англосаксонских парламентов? Что же касается Марка Аврелия, очевидцы его жизни и его собственные сочинения погружают нас в бездны сомнений. «Он вел себя с народом так, будто жил в свободном государстве», – пишет Капитолин. «Он был исполнен человеколюбия, злых делал добрыми, а добрых совершенными». В последнем замечании тоже есть кое-что от правды, но мы обратим внимание только на выражение «свободное государство»: конечно, для тех времен не так, как теперь, понятно, какая реальность за ним стоит, но и нашего пренебрежения оно не заслуживает. Для римлян II века задача была не столько в том, чтобы приумножать, разнообразить и углублять свои свободы, сколько в том, чтобы сохранить и гарантировать уже имеющиеся – ту Libertas, которая склонялась все еще лишь в единственном числе.
Вчитаемся в каждое слово похвалы Марка Аврелия из «каталога благодарностей» своему другу детства («брату») Клавдию Северу: «Любовь к ближним, истине, справедливости; и что благодаря ему я узнал о Тразее, Гельвидии, Катоне, Дионе, Бруте и возымел представление о государстве, которым правят в духе равенства и равного права на речь, с законом, равным для всех, также о единодержавии, которое более всего почитает свободу подданных» (I, 14). Перечисленные имена – сенаторы-стоики, противостоявшие тиранам прошлого века. Многие из них погибли, и их почитали как мучеников республиканской идеи. Само ли собой разумелось, что найдется император, хранящий эти имена в самой глубине души как высочайшие примеры политиков? «Государство, которым правят в духе равенства и равного права на речь», то есть демократии, – красивая формула, даже слишком. Так и видишь ее выбитой где-нибудь на фронтоне Капитолия нашего времени. Еще чуть-чуть удачи – и она могла бы появиться и на римском Капитолии, но все равно нашлись бы иконоборцы, уничтожившие ее ради теократического государства, основанного на одних только обязанностях граждан. Следует ли отсюда, что Марк Аврелий был утопистом? Он сам себе утопий не позволял: пожалуй, в конце концов он и вовсе лишился иллюзий. «Республики Платона не жди», – предупреждает он. Но для «демократического» государства «равное право на речь» и уважение к свободе подданных – совсем не утопия. При любом скептицизме мы имеем право поставить только один вопрос, а именно: в какой мере эти формулы во II веке были применимы к огромному неоднородному обществу, которое только еще шло к единству? И главное, имел ли Марк Аврелий в виду постепенно упразднить неравенство сословий и самые бесчеловечные установления общественного порядка?
На первый взгляд, те же события, которые еще до конца столетия поломали всю систему, заблокировали или затормозили этот опыт. На самом деле они даже ускорили или окольным путем ввели некоторые перемены к лучшему. Вскоре в Лионе у Септимия Севера родится сын Каракалла, который вдруг разом дарует римское гражданство всем свободным лицам мужского пола в Империи. Историки без конца спорят, что означал этот исторический акт непроходимого тупицы: демагогический расчет, приступ мистической лихорадки, фискальную уловку или административный восторг? В тот момент – все сразу. Но в более глубокой исторической перспективе здесь видится последнее перевоплощение гуманизма Антонинов. Всем известно, что политику Северов оформляли и двигали три бессмертных юриста: Папиниан, Павел и Ульпиан, а они были воспитаны в школе все тех же Гая и Сцеволы. Именно они настолько справедливо, насколько могли при тоталитарном режиме, создали кодекс законов юридического государства, основанного на равенстве прав, которое начала создавать предшествующая династия. Прогрессирующая анархия на их глазах опорочила их дело, а сами они заплатили жизнью за упорное стремление гуманизировать и гармонизировать гражданское право, но это уже другая история.
«Когда император не был занят войной, – сообщает Дион Кассий, – он занимался отправлением правосудия и наливал адвокатам клепсидру дополна, чтобы они могли произносить речи так долго, как считали нужным. Иногда он одиннадцать или двенадцать часов занимался одним делом, чтобы верно рассмотреть его». Эту черту связывают с природной дотошностью Марка Аврелия. Наверное, можно даже заподозрить, что он втайне любил следить за ораторскими распрями. Но прежде всего надо понять, что это была основная деталь механизма, регулировавшего римское общество, находившееся в поиске твердых основ для себя. И система Антонинов, как никакая другая в истории, по праву заслуживает почетное наименование «империи судей».
Мы и теперь каждый день можем наблюдать, как из малых споров происходят важные судебные решения: самые знаменитые постановления наших верховных судов обычно носят имена ничем не примечательных граждан, иски которых внезапно вскрывали показательные, общезначимые проблемы. Можно представить себе, что и в Риме апелляция к императору обладала двойной значимостью: освящала систему правосудия, зависевшую от принцепса (афинский гражданин, пострадавший от Герода Аттика, мог быть вызван на суд к самому императору), и в то же время фиксировала общие правила, связанные с частными делами. Плиний сохранил для нас соломоновы решения Траяна, разбиравшего на вилле в Центумцелле (может быть, под любимым дубом) мелкие имущественные тяжбы супругов. Как ни парадоксально, в Риме именно дурные императоры самоустранялись от исправления судейской должности. Тиберию легко было притворяться, будто он уважает независимость суда: он знал, что верховный сенатский суд поспешит предупредить его самое произвольное желание. Траян, Антонин, Марк Аврелий не заботились о разделении властей, и никто не требовал от них не вмешиваться в дела правосудия – как раз наоборот. «У Марка Аврелия, – пишет Капитолин, – было в обычае за все преступления смягчать наказания против определенных законом, хотя иногда к тем, кто совершил тяжкие преступления, он и не проявлял снисхождения. Уголовные дела, возбужденные против заслуженных лиц, он брал на собственное рассмотрение и проявлял при этом величайшее правосудие: часто он даже упрекал претора в чрезмерно скором следствии и велел пересмотреть дело. Он говорил, что человеческое достоинство требует, чтобы те, кто судит от имени народа, как следует выслушивали обвиняемых».
Биограф несколько раз возвращается к величайшей способности Марка Аврелия быть правосудным, как будто это и есть критерий его совершенства. Ничто другое не могло сделать образ государя таким популярным – тысячу лет спустя это вновь обнаружится при Святом Людовике. Первое должностное лицо должно быть гуманным к обвиняемым и строгим к своим подчиненным: «Он более всего боялся ненужных наказаний, но когда судья, даже претор, вел себя недостойно, имел обыкновение отстранять его от должности и передавать дела его коллегам». Но, признает Капитолин, он знал при этом границы: «Свои приговоры он выносил только на основании суждений префекта претория и под его ответственность. Чаще всего он советовался с юрисконсультом Сцеволой». В другом месте биограф замечает: «Многие дела, находившиеся в его компетенции, он передавал сенату». Иногда здесь видят признаки разделения властей, но это было всего лишь делегированием полномочий.
Империя жаждала разумного правосудия. Знаменитое римское право слишком часто закосневало в своих формальностях или же дорого обходилось из-за жадности римлян – извечных сутяг. При Республике судебные залы были трибунами для ораторов, стремившихся к славе и власти. Правила игры существовали, но ставки на кону были подменены. Чего добивался Цицерон, защищая Милона и обвиняя Клодия: торжества закона Республики или благосклонности одного клана и разгрома другого? При Империи эта прихожая власти закрылась, но Тиберий, Клавдий, Нерон вновь открыли ее, превратив в преддверие смерти и предлог для конфискации крупных состояний. При Антониновом возрождении суды оказались затоплены частными тяжбами; сборники юрисконсультов, письма Плиния Младшего и Фронтона донесли до нас их ожесточение при довольно малой значимости. Но нам ли считать, что вопросы наследства, правоспособности замужних женщин, развода, опеки, усыновления не важны для правильного функционирования правового государства? Дело об ожерелье императорской тетки Матидии весьма показательно. Как мы видели, Фронтон возмущался щепетильностью Марка Аврелия, не решавшегося настоять на правах Фаустины на родовое имущество. Ведь в Риме состояние не создавалось из ничего, а переходило из рук в руки с естественной тенденцией к чрезмерной концентрации, а отсюда противоположная тенденция к насильственному или полудобровольному перераспределению: налогам на наследство, принудительному меценатству, завещаниям в пользу императора, а то и простой грубой конфискации. Все это давало адвокатам массу поводов манипулировать семейными делами, вмешиваться в споры при разводах и о наследстве, в управление опекой. Они получали весьма обширные привилегии, и поныне существующие у англосаксонских народов. Понятно, что такая профессия была распространенной и ее представители процветали. У Антонина был повод шутить, что «адвокатский потоп затопил весь Рим».








