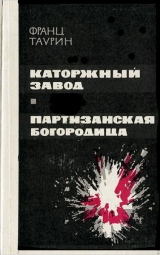
Текст книги "Каторжный завод"
Автор книги: Франц Таурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Настя вернулась из лесу поздно вечером. Молча выслушала прерываемый всхлипываниями рассказ Глафиры. Подошла, села у изголовья.
Иван открыл глаза, ласково потрепал ее по плечу.
– На одни муки я тебя удержала, – сказала Настя.
– Только ли на муки! – И он попытался весело подмигнуть ей.
– Было бы уйти сразу, как оздоровел ты, – так же глухо и скорбно говорила Настя. – Все проклятая бабья жадность, как дом свой бросить. Дом, сытую жизнь пожалела, а тебя па муки отдала… Неужто не нашлось бы нам угла на всем белом свете!..
Иван пригнул к себе ее голову, поцеловал грустные глаза.
– Полно тебе казниться, Настенька! Все я да я! А Иван что, чурка с глазами? Мне ведь тоже надоело варначить. Тоже лестно пожить, как люди живут. – Он гладил ее’ крутые плечи и даже щекотнул, чтобы развеселить, отогнать тяжелые мысли. – Ты в толк возьми, кто я теперь?.. Был беглый каторжник – Ванька, родства не помнящий. Ан был да нет! Последняя примета со шкурой сгорела. Полез в печь Ванька, а вылез из печи доменный подмастер Еремей Кузькин!.. Это тебе не фунт изюму!..
– Уедем отсюда, Ваня! – сказала Настя.
Были в ее голосе такая тревога, такая боль, что ухмылка сразу сбежала с лица Ивана.
– Куда? – сказал он мрачно. – Рабочему человеку везде одна сласть… Здесь хоть крыша над головой да кусок хлеба.
– Запорет он тебя! Запорет!
Иван пригнул к себе ее голову. Погладил, как ребенка.
– Везде, Настенька, нашего брата порют. Над каждым кнут висит. Кнут да плеть – самый главный инструмент. Куда ни ткнись, везде есть, кому пороть. На каторге – надзиратель, в заводе – управитель, а в деревне – исправник и становой. Повидал я на каторге людей со всех волостей, со всех концов матушки России… Везде одна корысть рабочему человеку… Здесь еще спокойнее. Здесь от Тирста защиту имею.
Настя вскинула на него глаза с удивлением и испугом.
– Этот зверь защитит! Ему человечья слеза в радость.
– Зверь он, это точно… Стою перед ним, от мяеа моего горелого дым идет, а он уставил гляделку, зубы ощерил. «Не ошибся, – говорит, – левым плечом прислонится» – Как не пришиб, я его на месте!.. Видно, сам бог спас… А все есть и над ним хозяин.
– Купец‑то? Поди‑ка, защитит!
Иван жестко усмехнулся.
– Не купец, а копейка купецкая! Тирст у хозяина в доле. Ему с каждого рубля копейка идет… Вот эта копейка меня и выручила… и еще не раз выручит.
– Нет, Ваня, – сказала Настя убежденно, – копейка, купецкая ли, Тирстова ли – плохая защита. Копейка, она копейка и есть, завсегда за рубль продать может… Не отступилась бы я от тебя сейчас, увела бы, куда глаза глядят увела бы… только от Тирста проклятого подале. Да страшно мне теперь… – Она как‑то виновато улыбнулась, спрятала лицо на груди Ивана и прошептала: – Понесла я, Ваня… Жди либо сынка, либо дочку…
Глава десятая
ЗОЛОТАЯ БОЧКА
1
Иван заработал право жить Еремеем Кузькиным.
Возвращенная им к жизни доменная печь снова заглатывала сизую руду, белый известняк, хрупкий древесный уголь и точно в положенный срок извергала огненно–жаркие густые струи чугуна. День и ночь гулко стучали молота в кричной фабрике, неумолчный лязг и скрежет доносился из плющильного цеха.
Литейщики и кузнецы, формовщики и токари вернулись из тайги, сдали на склад топоры, разошлись по цехам и мастерским. Огненная заводская работа в душных запорченных корпусах была куда тяжелее, нежели валка леса и выжиг угля под высокой крышей летнего неба, но зато они вновь стали мастеровыми людьми и тугое несговорчивое железо послушно повиновалось их умелым рукам.
По окрестным селам и деревням прошлись Тирстовы вербовщики, посулили прибавку по копейке с воза, и с рудных забоев и угольных куреней потянулись в завод обозы С углом и рудою.
Колонну каторжан, подметавших цепями опостылевшую в конец дорогу, встретила между Красноярском и Нижнеудинском генерал–губернаторская эстафета и заставала свернуть с Московского тракта на Тулунский, дав направление следовать вместо Иркутской пересыльной тюрьмы прямо в Николаевский завод.
Железное дело в приангарской тайге вновь разворачивалось, набирало силу.
Мало–помалу начали заполняться заводские амбары, и Тирст уже подсчитывал копейки, которые, прорастая рублями, принесут ему вожделенные барыши.
Иван Соловьев оказался весьма полезен заводу.
Тирст уже не один раз нахваливал себя, что перекрестил его в Еремея Кузькина.
Однако ж бумагу, присланную из Петровского завода, не уничтожил, а лишь припрятал подальше от чужих глаз.
Начальнику конвойной команды, казачьему вахмистру Запрягаеву, был отдан приказ иметь особое наблюдение за Еремеем Кузькиным, дабы этот знающий дело мастеровой не подался в армию генерала Кукушкина.
Севастьян Лукич, пристально уставясь на управляющего своими выпуклыми, как пуговицы на его мундире, глазами, внимательно выслушал приказание, подумал и сказал ленивым баском:
– А я его в казарму поселю, Иван Христианыч. Там завсегда на глазах будет.
Тирст едко усмехнулся:
– Вижу, Севастьян Лукич, у тебя ума палата. Куда как хитро придумал! А еще бы надежнее в кандалы! – И, когда вахмистр потупил свои бычьи глаза, сказал строго: – Надзор учредить надобно так, чтобы сам Еремей Кузькин и догадаться не мог о том. Однако ж из виду его не упускать. Постигаешь, в чем суть?
– Постигаю, – ответил вахмистр, уже чувствуя неприязнь к этому Еремею Кузькину, с которым, непонятно почему, надо обращаться с такой канительной осторожностью.
2
В тот же день Запрягаев посетил жилище Еремея Кузькина.
Он хотел направиться туда прямо из заводской конторы, но не смог сразу подыскать повода, который бы не насторожил поднадзорного.
Изрядно поломав голову, Севастьян Лукич решил сказать, что присматривает чистую горницу для хорунжего, который должен вскорости прибыть в завод и провести смотр казачьей конвойной команде.
Все это было шито белыми нитками – хорунжий приезжал в завод не первых! раз и всегда останавливался в господском доме, но ничего лучшего вахмистр придумать не смог.
Настя кормила кур, когда Запрягаев, распахнув настежь калитку, уверенной хозяйской походкой прошел во двор.
Увидев Настю, вахмистр приосанился и, казалось, позабыл даже, зачем пришел. Рука его сама потянулась к усам, и на сытой красной физиономии расплылась 1пирокая улыбка.
Настю он приметил давно и при каждой встрече посылал ей вдогонку изучающий взгляд («Хороша растет девка!»), но такой красивой никогда еще не видал ее.
«Беда сушит, а счастье красит», – говорится в народе. Настя была счастлива первой зрелой любовью и вся словно лучилась красотой. Под большими, широко расставленными глазами пролегли тени и углубили их синеву. Смелее и ярче стали губы. И в каждом повороте сильного и гибкого тела сказывалась уверенность женщины, знающей свою красоту и стать.
Настя, казалось, не удивилась нисколько появлению Запрягаева. (Жена Ивана Соловьева научилась не выдавать при чужом своих переживаний.)
– Милости просим, господин вахмистр! – сказала она и, поставив лукошко с кормом на землю, поклонилась.
Куры тут же бросились к лукошку и, оттирая одна другую, торопливо накинулись на овес. И только голенастый пестрый петух, то ли выказывая степенность, присущую родоначальнику, то ли завороженный блестящими пуговпцамп на мундире пришельца, стоял в стороне, вытянув длинную шею.
– Здорова будь, Настасья, не упомню, как по батюшке, – поздоровался вахмистр, не спуская с Насти подобревших глаз.
– Куда уж нам с отчеством, ни но годам, ни по званыо, – отшутилась Настя и снова поклонилась, сама нетерпеливо ожидая, когда же соизволит объявить нежданный и незваный гость, зачем принесла его нелегкая.
Дело, вишь ты, у меня имеется казенное, – покашливая для важности, начал Запрягаев.
~ Да уж известно дело при такой вашей должности, – с готовностью подтвердила Настя.
Да, дело… – повторил Запрягаев, незаметно оглядываясь по сторонам, – а, правду сказать, к такой красотке но грех и без дела заглянуть, – и, многозначительно подмигнув, придвинулся поближе.
И что же это я вас на дворе держу! – словно спохватилась Настя и, подойдя к открытым сенцам, крикнула: – Вставай, хозяин, принимай гостей: господин вахмистр пришли.
«Чтоб тебя черти задрали! – от всей души пожелал вахмистр столь некстати оказавшемуся дома хозяину. – И что это Тирст распустил своих людишек. Наместо работы но домам отираются!»
Иван вышел на крылечко босой, в расстегнутой рубахе. Кинул короткий взгляд на вахмистра.
«Одни. Стало быть, пока опасности нет».
“ Здравия желаем, господин вахмистр! Проходите в избу. Хоть и не ждали гостей, угостим, чем бог послал.
Запрягаев прошел в избу, истово перекрестился на образ Ннколая–чудотворца с потемневшей от времени серебряной ризой и, провожаемый испуганным взглядом Глафиры, уселся в красный угол.
– Глафира Митревна, что есть в печи, все на стол мечи! – приказал Иван.
Старуха поспешила в кладовую и быстро вернулась, неся на широком блюде холодную жареную утку. Иван тем временем достал из‑под лавки полуштоф пенника и ловко, одним ударом по донышку, выбил пробку.
«Видать, не пьяница, коли в доме водка живет, – подумал, удивись, Запрягаев. – Однако с бутылкой обращаться может!..»
Настя принесла в тазу десятка два белогубых, поблескивающих мокрыми боками огурцов. Глафира подала на сто л порезанную на длинные ломти ковригу хлеба, поставила стопки, протянула Ивану острый охотничий нож.
Иван в несколько взмахов распластал утиную тушку на куски, наполнил стопки.
Не надо мпе… Еремушка, – Настя через силу выго–верила непривычное имя, – сам знаешь… негоже мне…
– Не обижай гоегя. Первую за его здоровье! – Иван размашисто чокнулся с вахмистром, первый выпил и степенно огладил тыльной стороной ладони усы и бороду.
Гость исправно ел и пил, принимая, как должное, оказываемые ему знаки уважения, и внимательно оглядывал горницу, словно запоминая, сколько в ней окон и дверей и куда они выходят. А когда Глафира полезла в подполье достать к чаю смородинового варенья, то даже приподнялся, как бы вознамерившись спуститься туда вместе с нею.
Но о цели своего посещения не заговаривал, и бедная Глафира, вымученно улыбаясь, ходила по горнице нетвердой походкой лунатика. Да и у Насти на душе было тревожно, но она скрывала это довольно умело.
Один лишь Иван, войдя в роль гостеприимного хозяина, ни о чем вроде и не думал, кроме как уважить дорогого гостя. И не стой он поперек дороги вахмистру как муж весьма прельстившей его Настасьи, Севастьян Лукич почувствовал бы к нему самое искреннее расположение.
Во всяком случае, предосторожность Тпрста, приказавшего строго наблюдать, дабы мастеровой Еремей Кузькин не сбежал с завода, казалась теперь вахмистру совершенно излишней.
«Живет в хозяйстве. Дом – полная чаша, – размышлял вахмистр, попивая чаек с вареньем и, оглядывая статную молодую хозяйку, находил самый сильный довод: – Нетто от такой бабы побежишь!»
Когда утроба нс могла уже принять больше ни еды, ни питья, нн водки и ни чаю, – Севастьян Лукич вспомнил, что не обмолвился и словом, зачем приходил.
– Благодарствуйте за угощение. Премного доволен. Постояльца хотел определить к вам. Да вижу, места лишнего у вас нет. Поищу в другом месте.
Хозяева не стали допытываться, кого хотел он к ним определить, и вахмистр, откланявшись и покровительственно потрепав Настасью по крутому плечу, удалился.
Иван проводил его до калитки и сказал с поклоном:
– Не забывайте нас, Севастьян Лукич! Мы хорошим людям всегда рады! —но в горницу вернулся уже без улыбки, хмурый и задумчивый.
– Господи помилуй! На все твоя воля! —причитала Глафира, крестясь трясущейся рукой, – Пошто аспид‑то заходил?
– Зазря не зайдет! – отозвался Иван.
– Ой, Ванюшка, боюсь я его! —припадая к мужу, сказала Настя.
– Бояться не его надо, – хмуро возразил Иван. – Он что? Шавка! На кого скажут, на того и кинется!
– За другое, Вапя, опасаюсь! —зашептала Настя. – Знаешь, он какой… ни одной бабы не пропустит… Не отстанет он теперь от меня!.. Еще одна беда на нашу голову…
– Пусть остережется… Не сносит головы, усатый боров!
3
У каждой медали, кроме лицевой стороны, – оборотная.
В первые дни и недели своего полновластного хозяйствования Тирст видел только лицевую. Освобожденный от стеснительных пут казенной сметы, избавленный от необходимости по каждому вопросу испрашивать разрешение высшего начальства, Тирст повел дело смело, энергично, сРазмахом. Не жалел копейки, если – обращенная в дело – сулила она принести гривну.
Повысил оплату за подвоз руды, флюсов и угля – и отвалы на рудном дворе и угольном складе стали расти на глазах, хотя прожорливая доменная печь более уже не останавливалась.
Ввел задельную оплату на добыче руды, валке леса и выяшге угля – и мужики братские, вороновские и иных окрестных деревень вместо золотых приисков потянулись в контору завода.
Накинул по копейке с пуда литья и по полушке с пуда железа сортового и листового – и заводские амбары стали заполняться с небывалой прежде быстротой.
Выписал новые станки и поставил рабочих на кладку стен нового механического цеха.
Замахнулся было приобрести паровую машину, чтобы иметь надежный резерв двигательной силы, поскольку река Долоновка зимой давала мало воды и водяное колесо часто бездействовало.
Но бухгалтер завода Мельников, оглаживая бороду, сказал:
– Не по карману, Иван Христианыч. И так поистратились знатно. Едва достанет денег рабочих расчесть.
На складах железа две тыщи пудов, – возразил Тирст, – Да еще литье.
– Есть и железо, и литье, – согласился Мельников. – Да ведь не продано. Сено не в копнах, а в стогу. Деньги не в амбаре, а в кассе, – и пояснил: – Дело к осени. Всего, что в амбарах, не вывезть. Добра половина останется лежать до весны.
– Выдадим вексель, – не уступал Тирст.
– Право па выдачу векселей не представлено заводской конторе. И это специально оговорено в доверенности, выданной вам владельцем завода, – напомнил Мельников. – Так что с покупкой машины придется повременить до весны. Тревожусь о другом, Иван Христианин. Чем буду рабочих рассчитывать. На эту выплату достанет, а как в следующую субботу… в толк не возьму.
Тирст задумался и наконец сказал, недовольно поморщась:
– Придется поклониться господину Лазебнякову. Пусть ссудит под запасы железа и литья.
Мельников с усмешкой покачал головою.
– Не надейтесь, Иван Христианыч. Денег нам господин Лазебников выделил в оборот даже более того, что мы просили, но, если не запамятовали, предупредил: больше не просить. А у него слово – кремень… Упреждал я вас, не торопитесь закупать станки…
Тирст вынужден был признать про себя, что упустил из виду оборотную сторону медали.
В тот же час написал он письмо стряпчему Ярыгину с просьбой убедить Лазебникова в необходимости помочь заводу. Отослал письмо с нарочным и стал ждать ответа.
Вместо ответа на третий день к вечеру в завод приехал сам доверенный Лазебникова стряпчий Ярыгин.
4
Лукавить с Ярыгиным не имело смысла, и Тирст раскрыл ему все карты. Начал он с того, что провел стряпчего по заводу.
Ярыгнн был не сведущ в железном деле, но все же мог заключить, что в заводе произошли большие перемены.
Везде, где ни проходили они, работа спорилась. Совсем не то наблюдал Ярыгин в прошлый свой приезд. Людей стало больше. Все были при деле. И даже самый воздух стал другим, горьковато–терпким от горнового дыма и пронизанным лязгом, звоном и скрежетом металла.
Возле пышащей жаром доменной печи Тирст остановил высокого мастерового с не по годам окладистой черной бородой.
– Как, Еремей, выполнит твоя печь месячный урок?
– Все как есть по уроку, ваше благородие, – ответил чернобородый, – остатнюю плавку в ночь выдадим.
– Придем посмотрим, – пообещал Тирст. – Вот Ефим Лаврентьевич не видывал огненного чугуна. Смотри не осрамись, Еремей!
– У нас осечки не бывает, ваше благородие.
День был ясный, погожий, и, войдя со свету в плющильный цех, Ярыгин остановился у входа, пережидая, пока приобвыкнет глаз к дымному полумраку.
Широкое и длинное помещение плющильного цеха было несоразмерно низким, и закопченный потолок, подпираемый несколькими рядами сложенных из кирпича квадратных столбов, висел над самой головой. Небольшие окна в массивных, возведенных из дикого камня стенах напоминали крепостные бойницы. В дальнем конце цеха стояли три печи для разогрева металла. Длинные языки пламени вырывались из смотровых щелей. Возле печей суетились люди, черные, закопченые, как и все, что находилось в этом мрачном цехе.
Дышать было трудно. В горле першило от едкого чада.
И даже Ярыгин, начисто лишенный всякой сентиментальности, подумал, что работать здесь изо дня в день – собачья доля.
Середину цеха занимали прокатные станы.
Тирст подвел Ярыгина к одному из них. Из‑под валков вырвалась светящаяся полоса и метнулась в их сторону. Стряпчий испуганно попятился. Но невысокий, по ширине плеч казавшийся квадратным мастеровой, вооруженный длинными клещами, ловким движением перехватил полосу и снова загнал ее под валки.
Ярыгин не сводил глаз с кряжистого вальцовщика, удивляясь и проворству движений, какое трудно было предположить, глядя на его грузную фигуру, и необычной его внешности: при черной, как уголь, бороде длинные, прямые, подстриженные горшком волосы были белы, как у столетнего старика. Огненная змея опять бросилась на мастерового, и он, зажав ей голову клещами, снова укротил ее.
Ярыгин опасливо отодвинулся еще подальше и спросил:
– и ежели промахнется?
– Бывает. – равнодушно ответил Тирст. – В этом цехе наиболее часты смертные случаи. Посему из вольнонаемных охотников мало находится. Употребляем в работы каторжных.
– И этот каторжный? – указал Ярыгин на белоголового вальцовщика.
– Этот – уральский мастеровой Никон Мукосеев, – ответил Тирст. – Привезен сюда при учреждении завода, – и, чтобы показать свою осведомленность во всех сторонах заводской жизни, добавил: – Умелый работник и примерный семьянин. И, сверх того, отличный садовод и огородник. Яблони выращивает. И первые огурцы в слободе всегда у него.
– И сколько же он лет на этой работе?
– Без малого два десятка лет.
Ярыгин, казалось, был разочарован:
– Выходит, не столь уж опасна эта работа?
– Как сказать, —усмехнулся Тирст. – В цехе он один старожил.
После цехов и мастерских Тирст показал Ярыгину заводские амбары и с удовольствием заметил, что тесно сложенные штабеля и бунты разносортного железа произвели на лазебнпковского доверенного должное впечатление. Тем более что, проходя вдоль штабелей и бунтов, Тирст, щеголяя памятью, называл, сколько и на какую сумму здесь товара.
За обедом опять подавалась мадера, запомнившаяся Ярыгину еще с прошлого посещения завода, и у Тнрс–та были все основания полагать, что трудный разговор с доверенным хозяина подготовлен с необходимой тщательностью.
Тирст приказал принести в свой домашний кабинет все бухгалтерские книги и, излагая Ярыгину состояние заводских финансов, то и дело прибегал к ним, подтверждая свои заключения той или иной книжной записью.
Ярыгин, плотно усевшись в глубокое кресло, слушал внимательно, не опуская глаз и пе перебивая, хотя не гРУДно было заметить, что его сильно клонило ко сну. Видимо, радушный хозяин переусердствовал, потчуя гостя выдержанной мадерой.
Но Тирст или не мог разглядеть состояния собеседника единственным своим глазом, или же полагал, что в подпитии доверенный будет покладистее.
– Полагаю, Ефим Лаврентьевич, теперь сами можете вы заключить, сколь основательно было решение мое произвести сии значительные расходы, – подвел итог сказанному Иван Христиановнч. – Соблаговолите, сударь мой, принять во внимание главную их цель: увеличение прибыльности завода. Затраты сии таковы, что каждая копейка не только окупится в самом скором времени, но и принесет немалый процент.
Массивная голова Ярыгина устало качнулась, но Тирст посчитал это за утвердительный жест.
– Посему и позволяю себе, сударь мой, через ваше посредничество, утруждать просьбою господина Лазебннкова.
– Какою просьбою? —через силу, отгоняя одолевавший его сон, спросил Ярыгин.
– Да вы что, батюшка Ефим Лаврентьевич, – изумился Тирст, – разве не получили письма моего? Или недостаточно вразумительно изложил я свою просьбу?
Но Ярыгин уже отряхнул сонное оцепенение.
– Денег?! Нет, Иван Христианыч, нет! – И Ярыгин весь расцвел в улыбке, словно сообщая Тирсту что‑то очень для того приятное. – Господин коммерции советник Лазебников денег давать не любят. Они деньги получать любят. Вот кабы вы, Иван Христианыч, сообщили мне, что имеете от прибылей завода внести в кассу фирмы некоторую сумму, тут я бы немедля доложил его степенству. А чтобы, напротив того, из кассы?.. Нет!.. Невозможно!
Тирст даже опешил, встретив столь категорический отказ.
– Но как же, батюшка Ефим Лаврентьевич… Ведь это неразумно!.. Вложить столь значительную сумму в заводское дело и теперь… приостановить из‑за пустяка в сущности… Это все равно, что подрубить сук, на коем сидишь…
– Полно, Иван Христианыч, какой там сук! – отмахнулся с усмешкой Ярыгин. – Лука Семенович так сказали: «Завод на ходу. Коли барыш от него будет, хорошо! Не будет, тоже не беда! За ту цену, что купил, я его завсегда продам. Еще с руками оторвут!» Вам‑то, Иван Христианыч, лучше кого другого известно, что завод куплен за бесценок. Так что свои деньги Лука Семенович всегда вернут. И в накладе не останутся.
– Завод может давать огромные барыши! —почти с отчаянием воскликнул Тирст.
– Вот вы этот барыш и покажите, Иван Христианыч, дайте пощупать, – ухмыльнулся Ярыгин и, подмигнув, добавил: – А вы, наместо того, еще денег просите! Лука Семенович копейку сегодня не в пример дороже ценят, чем копейку завтра.
На некоторое время в кабинете установилось тяжелое молчание. Тирст, казалось, был уничтожен доводами стряпчего. Подперев голову рукой, он шарил беспокойным оком по разложенным на столе книгам, как бы ища в них помощи и спасения.
Ярыгин исподлобья наблюдал за ним.
– Да что вас, Иван Христианыч, так приспичило? Сами же говорите – запасы руды и угля есть. Все цехи и мастерские работают. Мастеровых и чернорабочих в достатке…
– Вот то‑то, что в достатке! —со злостью отозвался Тирст. – Рабочим платить надо. Для того и просил денег.
– Ну, батенька мой! —развел руками Ярыгин, – Испортила вас казенная служба. Привыкли чуть что к гу бернскому казначею руку тянуть. Эко диво, рабочих расчесть! Много ли на это денег потребно?
– В заводской кассе, – сообщил Тирст, – едва достанет на очередную выплату. В следующую субботу платить нечем.
– Подождут, – небрежно бросил Ярыгин.
– Со дня основания завода не было случая подобной несостоятельности заводской конторы, – возразил Тирст.
– Избаловали людишек! —назидательно укорил Ярыгин. – Ясное дело, в государевой казне денег богаче, чем в кассе господина Лазебнпкова. – Он помолчал и, как бы снисходя к промашке Тирста, добавил: – Конечно, враз людишек к новым порядкам не приучишь. Расчет надобно произвести.
Тирст насторожился, и Ярыгин это заметил.
– Нет, насчет денег и не помышляйте… А рассчитать рабочих надобно… Заводская лавка вином торгует?
– И вином, и провиантом, и прочими товарами.
– Хотя бы и прочими. В заводской лавке вино – главный товар… А кроме заводской, есть еще лавки в слободе?
– Мещанин Шавкунов держит лавку.
И он вином торгует?
– Имеет разрешение.
– Так вот, Иван Христианыч. Рабочих мы ублаготворим. И денег у господина Лазебникова просить не станем.
Ярыгин произнес это со всей важностью, какую мог из себя выдавить. Заметно было, что ему доставляет огромное удовольствие учить уму–разуму самого Тирста, о хитрости и изворотливости которого с превеликим уважением отзывался даже правитель генерал–губернаторской канцелярии.
– Перво–наперво, – поучал стряпчий, – надобно закупить у Шавкунова все вино, сколько у того имеется…
– Ефим Лаврентьевич! —не выдержал Тирст.
Но Ярыгин остановил его не терпящим возражений жестом и, не обращая внимания на изумление хозяина, продолжал:
– Затем надобно прекратить продажу вина и в заводской лавке…
Единственное око Ивана Христиановича раскрылось до предела, дозволенного ему природою.
Ярыгин, воровски оглянувшись по сторонам, поманил к себе Тирста. Когда Иван Христианович, придвинув кресло, уселся рядом, стряпчий склонился к самому его уху и принялся нашептывать что‑то, видимо, весьма занятное, потому что сосредоточенно угрюмое лицо Тирста мало–помалу утрачивало свою угрюмую настороженность и под конец даже покривилось хитренькой улыбочкой.
– Улавливаете? – спросил Ярыгин и, довольный собою, даже потрепал Тирста по сухому колену.
– Улавливаю, —ответил Тирст, делая вид, что не заметил фамильярности стряпчего.
Ярыгин с неожиданной при его дородности прытью вскочил, присел к столу, написал несколько строк, припечатал бумагу своей печаткою и протянул Тирсту.
– Распоряжение управляющему Балаганского винокуренного завода выдать в расчет с главного конторой фирмы пять бочек спирту. Снаряжайте немедля обоз, Р1ваи Христианыч!
5
Эту неделю смена Еремея Кузькина работала в ночь, Иван пришел домой на рассвете, помылся горячей водой (Глафира с вечера наливала полный ушат кипятку и укутывала его старым стеганым одеялом), поел разогретых щей и улегся в сенцах на топчане, чтобы не потревожить утренний, самый сладкий сон жены. С тех пор как Настя посулила ему сына, Иван относился к ней особо бережно.
Но самому ему сегодня отдохнуть не удалось.
Часу в девятом утра прибежал встрепанный Тришка.
Глафира не сразу пустила его в дом. Спит хозяин, токо–токо лег. В ночную работал.
– Анне знаю! —отмахнулся Тришка. – Чай, вместях мы робим с вашим хозяином. Вместях при печи состоим. Я вот и вовсе не ложился. Дело, вишь, такое, шибко срочное…
Глафира поняла так, что опять что‑то стряслось на проклятой печи, и, ворча про себя, пропустила Тришку в сени.
Иван, огромный, казалось, во сне он еще у кого‑то призанял росту, лежал навзничь, закинув за голову крепкие жилистые руки. В полутьме сенцев бородатое лицо Ивана выглядело угрожающе сердитым, и Тришка не сразу решился прервать его сон.
– Вишь ты, такое дело вот… – словно оправдываясь перед кем‑то, пробормотал он и боязливо тронул Ивана за плечи.
Иван сразу открыл глаза. Узнав Тришку, успокоение потянулся, тряхнул головой, сбивая сон, и спросил:
– Чего тебе?
– Еремей Федотыч! —торопливо зашептал Тришка, и Иван усмехнулся про себя: наконец‑то он узнал свое отчество! (В паспорте Еремея Кузькина оно не было прописано г– каторжным и ссыльным отчество не положено, а спросить у Еремея перед смертью к слову не пришлось.).
– …Еремей Федотыч! В заводской лавке вином торгуют!
– И что с того? – Иван не мог взять в толк Тришкиного волнения.
– Вина‑то втору неделю нет в слободе! – захлебываясь в торопливости, пояснял Тришка. – В заводской лавке нет и у Шавкунова нет. А тут, вишь, продают! Только что расточали бочку… Слышь, Еремей Федотыч?.. Одолжи полтиной до обеда!.. Вот те крест, в обед принесу!
– Тьфу ты, балаболка! —рассердился Иван. —Сна решил. Одолжить тебя по шее!
– Еремей Федотыч! —взмолился Тришка. —Ударь хошь раз, хошь два. Токо выручи. Одна ведь бочка вина‑то. Разберут…
Иван спустил с топчана босые ноги в белых холщовых портках и хотел уже было окликнуть Глафиру, но вспомнил:
– У тебя что, Трифон, память с радости отшибло? Поди, мимо конторы бег. Сегодня суббота.
Тришка только рукой махнул.
– Был, Еремей Федотыч, был. Тамо сейчас кузнецов рассчитывают. А на дворе бумага висит. Осип, который из поляков, прочитал и, значит, объяснил: расписано каждому цеху, когда за получкой приходить. Кричному с восьми – они уже получили, все возле бочки стоят, – литейщикам с девяти, потом слесарям, а нам аж к обеду. А ить вина‑то не достанет. Одна бочка. Еремей Федотыч, яви таку милость. – И Тришка пошел с последнего козыря: – Уважь земляка!
Иван резко выбросил руку, сгреб Тришку за грудки и подтянул к себе, как котенка.
– Земляка, говоришь!
Вороватые Тришкины глаза побелели от страха. Он дернулся бйло, но куда там… а поднять руку, чтобы хотя заслониться, не посмел. И, глупо улыбаясь, что никак не вязалось с перепуганными глазами, забормотал:
– Дык, известно, кто, значит, из Расеи сюды попал, все, значит, земляки… А как же, конешно, земляки…
Но Ивану уже стал смешон собственный приступ гнева. Он отпустил Тришку и легоньким толчком усадил его на топчан.
– Глафира Митревна, поди‑ка сюда! —и, когда старуха выглянула в сенцы, сказал с усмешкой: – Выручай землячка, вынеси ему полтину. А то не доживет до обеда, на нашей душе грех.
Глафира, не прекословя, вынесла деньги, по, передавая их задергавшемуся от радости Тришке, так глянула на него, что понятно было, будь ее воля, не видать бы ему от нее ни единой полушки.
Тришка ссыпал деньги в карман холщовых портков, поклонился сперва Ивану, потом Глафире, открыл задом дверь и, напялив рваную шапчонку, припустил что было мочи.
– Пропойца несчастный! —сказала Глафира с сердцем.
– Не серчай, Митревна, сегодня суббота, – вступился за Тришку Иван.
– Знать Феклу но рылу мокру! – возразила старуха, – У такого на все дни праздников хватит. Седнп Саввы – завтра Варвары. И что за мужская порода такая, – со вздохом продолжала Глафира, – только бы им нахлестаться да рога в землю… Прости, господи, мое прегрешение…
Она мелко перекрестилась и пошла в горницу.
Иван окликнул ее:
– Митревна! А у нас, однако, запасу тоже нет?
– Нету, – подтвердила Глафира. – Остатний полштоф аспид усатый высосал… Сходить, подп, взять для всякого случаю?
– Не пробиться тебе, Митревна, – остановил ее Иван. – Коли одна бочка, там сейчас дым коромыслом. Сам схожу.
6
Дверь заводской лавки распахнута настежь.
Но внутрь лавки никто не проходит. У самой двери пузатая сорокаведерная бочка. Возле боики рябая мордастая баба – сидельцева жена с мерным, полуштофной емкости, черпаком в руках. Сам сиделец, длинный и тощий, тут же. Принимает деньги. Правый глаз у него с бельмом и, взяв в ладонь медяки, он пересчитывает их, склонив голову по–куриному набок.
К дверям лавки вереница жаждущих. Кто с бутылью, кто с котелком, кто с ведерком. Очередь соблюдается строго: попробуй сунься не в свой черед – голову оторвут! И нетерпение ожидающих выражается только криками и бранью, направленной к сидельцу и медлительной жене его.
– Шевелись веселей!
– Аль сама захмелела у бочки!
– Не объездили тебя смолоду!
Все зти возгласы и попреки мало тревожат сидельца и флегматичную его половину.
– Распалило вас, дьяволов… – лениво растягивая слова, словно через силу, произносит она. – Успеете зенки налить, – и так же неторопливо спрашивает стоящего головным кряжистого мастерового: – Сколько тебе?
– На все! —отвечает мастеровой и тянет сидельцу пригоршню медяков.






