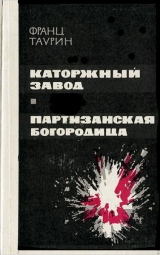
Текст книги "Каторжный завод"
Автор книги: Франц Таурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Теперь и на господский двор относили куда больше дичи, и на свой чугунок оставалось: то утка, то тетерка, то заяц, а зимой, случалось, и косуля.
Дед Евстигней, став домоседом, быстро одряхлел и только в теплые летние дни спускался с печи на крылечко погреть на солнце старые кости. Так протянул он еще два года и отдал богу душу. Настя похоронила его рядом с могилами отца и матери и в шестнадцать лет стала хозяйкой в доме и кормилицей тетки Глафиры.
Охотничий промысел пошел ей в пользу. Здоровьем она с детских лет не была обижена, теперь же, исхаживая каждый день в лесу по десятку и более верст, летом – пешком, зимою – на лыжах, – и вовсе окрепла, выровнялась и налилась силой.
И собою стала очень хороша – румяная и круглолицая. Любуясь, как заплетает Настя густую длинную до колен косу, тетка Глафира потихоньку вздыхала, вспоминая свою безрадостную молодость.
Но красота Настина и стать не столько радовали Глафиру, сколько тревожили. Здесь в каторжной слободе и порядки каторжные. Да и то: баб и девок мало, а уж такие пригожие – и вовсе наперечет.
И Глафира то и дело поучала Настю:
– Ходи с оглядкой. С парнями дружбу не води. Начин сладок, а конец завсегда один. Пуще всего не верь мужикам, все они жеребячьей породы.
А соседская Варька – разбитная полногрудая деваха, года на два постарше Насти, – звала с собой: либо на посиделки, либо хороводы играть.
– Пойдем, Настюха! Не слушай ты ее, старую каргу. Была нужда красоту свою хоронить!
Пошла Настя с Варькой на берег пруда. Там, на широкой поляне, среди березнячка, заветное место хороводы водить.
Но недолго пробыла Настя в хороводе. И не только потому, что нахальны и прилипчивы были парни, особенно казаки из конвойной команды. Настя знала, что сможет за себя постоять. Не по сердцу пришлось ей, как вели себя сами девки.
Ущипнет девку парень – визгу на весь лес. А как сгребет в охапку и поволокет в березняк – глянь и замолчала. А уж из березняка идут – сама на нем виснет.
Как только начало смеркаться и стали разжигать па поляне костры, Настя убежала домой.
– Так а будешь одна за печкой сидеть? – насмешливо щуря круглые цыгановатые глаза, сказала ей на другой день Варька.
– Так и буду.
– Гляди. Просидишь время, йотом спохватишься. Перестарки‑то не больно кому нужны.
Тогда Настя отмахнулась от Барышных наставлений. А все же нет–нет да и приходили на память ее слова. И вызывали на раздумье.
Жизнь‑то впереди… Одной вековать ее – даже в мыслях не в радость… Живое сердце к живому и льнет… А где оно, живое‑то сердце, чтобы отозвалось?..
Заглянули было в душу ей синие глаза… Да ведь барские… подпоручиковы...
Глава третья
ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК ТИРСТ
1
После обильного обеда Иван Христнанович на английский манер потчевал гостя отличной мадерою. Гость – стряпчий Ярыгин, доверенное лпцо иркутского первой гильдии купца Лазебникова, – с превеликой охотою угостился отменным вином. Затем, когда с мадерою было покончено, хозяин пригласил гостя в свой домашний кабинет, настрого приказав, чтобы никто не мешал их разговору.
Ярыгин осторожно протиснулся в дверь (открыта была только одна ее створка: сухопарому хозяину д этого было за глаза) и, высмотрев в углу достаточно вместительное кресло, погрузился в него. На крупном мясистом, словно вспухшем, лице его утвердилось благодушное выражение послеобеденной сытой усталости.
Тирст, напротив, имел вид деловито сосредоточенный, и правый зрячий глаз его неотступно следил за каждым движением гостя.
– Я вас, любезнейший Ефим Лаврентьевич, ожидал, по письму вашему, не ранее начала августа, сказал Тирст, положив иа столик возле гостя коробку красного дерева с трубками и табаком и усаживаясь в кресло напротив. – Как вы писали, решение Сибирского Комитета о продаже завода следует ожидать в конце сего месяца.
– Буде оно состоится, – возразил гость.
Говорил он сиповатым басом, медленно, будто в натуре выжимал из себя каждое слово.
– Не уяснил себе суть замечания вашего, – сказал Тирст, пытаясь заглянуть в глаза собеседнику и вызывая его на дальнейшие пояснения.
Но тот, словно не расслышав Тирста, сосредоточенно посапывая, набивал трубку желтым волокнистым табаком.
– Я полагал, что мнение о преимуществах частного способа хозяйствования не вызывает сомнения ни в Иркутске, ни в Петербурге, – продолжал Тирст.
Гость, наконец, раскурил трубку и ответил;
– Его превосходительство главный горный ревизор препятствует. Есть слух, писал рапорт министру финансов.
Петр Антонович? – Тирст пошевелил сухими губами. – Сне понятно. Он строитель сего завода. И не только строитель. Ему поручено было в свое время обоснование дать целесообразности учреждения железоделательного завода в сих местах. Он предусматривал немалую выгоду казне от деятельности завода.
– А выгоды‑то нет! – с неожиданной живостью возразил Ярыгин. – Так, что ли, Иван Христианыч?
– Выгоды ожидаемой не удалось получить, – спокойно подтвердил Тирст, делая вид, что не заметил странною оживления гостя. – Напротив того, год минувший сведен был с убытком.
– По этой причине и послан сюда подпоручик Дубравки?
– Истинная цель приезда его для меня остается неизвестною, – осторожно возразил Тирст, – но полагаю, что и сия сторона деятельности завода не безразлична ему, как лицу ревизующему.
– Главная причина командирования подпоручика Дубравина, это… – Ярыгин оглянулся и понизил голос, – за стенами ушей нет?
Тирст жестом успокоил его.
…Главная причина – это письмо горного урядника Могутшша, о коем я сообщал вам, узнав от надежного человека в канцелярии генерал–губернатора. От него же узнал содержание письма. Для того и приехал, чтобы предварить вас.
Чуть заметная усмешка скользнула по губам Тирста. Он подошел к дубовому на точеных ножках письменному столу, на котором громоздились два литых бронзовых канделябра, изображавших один Диану, другой – Марса, и, отомкнув средний ящик стола, достал оттуда форматный лист бумаги.
– Вот копия письма Могуткпна, – сказал он, подавая бумагу непритворно удивленному стряпчему.
Ярыгин только крякнул, что, по–видимому, должно было означать: «Да! Тебе, брат, пальца в рот не клади!», и принялся, посапывая, вполголоса читать врученную ему бумагу, время от временп прерывая чтение то насмешливыми, то озабоченными восклицаниями:
– «Его Высокопревосходительству генерал–губернатору Восточной Сибири господину Корсакову…» Ишь ты!.. Все титулы помянул… не иначе, кто из ппсцов заводских руку приложил.
– Сам писал, – сказал Тирст. – Грамотей был и книжки читать охотник.
– «…господину Корсакову, в собственные руки… (гм!., в собственные руки). Надзирателя рудного двора Николаевского железоделательного завода, урядника первой статьи Якова Могуткипа секретное донесение… Совесть моя и забота о казенном достоянии побуждает меня писать Вам, Ваше Высокопревосходительство, минуя начальников своих… (ишь ты!.. Совесть… скажп на милость!). С того времени, как отбыл из завода управляющий оным капитан Трескин и начальствование перешло к помощнику его – титулярному советнику Тпрсту, работы как по железному производству и по плющильному, равно и по добыче руды и прочих припасов пришли в упадок. Железа кричного и полосового и листового, равно литейных изделий вполовину изготовлено против того, что делалось ранее…» Иван Христианович, письмо сие мимо бухгалтера не прошло!
– Не думаю так, —отверг его предположения Тирст. – Бухгалтер Мельников человек разумный.
– Так ведь и написано разумно, – возразил Ярыгин, прищурясь, отчего маленькие глазки совсем скрылись между безбровым лбом и пухлыми щеками.
– Разумный человек на начальника своего не замахивается, – строго сказал Тирст, давая попять гостю, что иронию в настоящем случае считает явно неуместной.
– «…Чрезмерною суровостью и жестоким обращением с рабочими людьми, равно несправедливыми нападками на мастеровых и нпжних чинов ныне управляющий заводом титулярный советник Тирст вызвал общее неудовольствие и отбил охоту к добропорядочному исполнению своих обязанностей!..» Э!.. да у того радетеля о казенном интересе мыслишки самые бунтарские!
Но Тирот ничем не откликнулся на замечание, и Ярыгин снова обратился к письму и прочитал его до конца, не отрываясь.
– «…Ссыльнокаторжный Роман Часовитшт в протяжении одного месяца трижды бит плетьми токмо за то, что лучший горновой при доменной печи. После третьей экзекуции Часовитин, будучи положен на лазаретную койку в острог, порвал рубаху на полосы, сделал петлю и удавился. Вскорости после его смерти при плавке чугуна в доменной печи учинился козел. По останову доменной нечи прекратилось кричное и плющильное производство. Многие рабочие люди из каторжных, ниже того мастеровые, привезенные с уральских заводов, находятся в бегах. По причине нехватки рабочих рук руды добыто мало, а добытая не просеяна. Ныне управляющий заводом Тирст приказал возить руду к печам непросеянную с землей и пустой породою. От сего и впредь будут помехи при расплавлении оной руды. Угля было выжжено и флюсов заготовлено много менее потребного количества. Чтобы не допустить разорения завода и великого убытка казне, надобно незамедлительно послать в завод знающего железное дело офицера, коему многое можно еще и изустно сказать. А что написано здесь, все истинная правда, что инод присягою повторить можно. К сему урядник первой статьи Яков Могуткии…»
Ярыгин отложил бумагу в сторону и некоторое время сидел в глубоком раздумье, посасывая пухлую верхнюю губу:
– Не повредит ли делу это письмо? – сказал он хмурясь. – И особенно могущие быть изустные пояснения?
– Не должно повредить, – жестко сказал Тирст, – по той прежде всего причине, что сей Могуткин, уразумев тяжесть своей провинности – я имею в виду поклеп, возведенный на начальника, – почел за благо удариться в бега.
Ярыгин вздохнул облегченно.
– Это хорошо, – произнес он так, словно похвалил Тирста. – Но… могут поймать?
Тирст опять чуть приметно усмехнулся, но тон его ответа был по–прежнему сухим, даже жестким:
– Полагаю, за это время так далеко убежал, что поймать его не в силах человеческих.
– Очень хорошо, – повторил Ярыгин, пристально уставясь на Тирста маленькими заплывшими глазками, – своевременное бегство Могуткина нашему козырю в масть, А когда должен возвратиться капитан Трескпн?
– Отпуск капитану Трескину предоставлен по первое сентября сего года.
– Надобно закончить дело до его возвращения.
Тирст как‑то неопределенно пожал плечами: это можно было истолковать и так, что он согласен с мнением собеседника о необходимости быстрее закончить дело, и в то же время так, что сие от него менее всего зависит.
– Остается одна помеха – подпоручик Дубравин, – сказал Ярыгин.
Тирст снова промолчал.
– Орешек этот ему не по зубам, – продолжал стряпчий, – но будет копаться, время тянуть. Надо ускорить его отъезд.
– Я всемерно, поскольку в моих это силах, способствую наиболее скорейшему выполнению подпоручиком возложенного на него поручения. Мною дан приказ бухгалтеру, казначею и прочим должностным лицам безоговорочно и немедля представлять господину Дубравину все потребные ему сведения и документы.
– В них он и утонет. Но это и хорошо, и плохо… А что, Иван Христиаиович, ежели мне с ним переговорить по душам?.. А?
Тирст ответил не сразу.
– О намерении вашем переговорить с господином Дубравиньга. а также и о самом разговоре с ним мне ничего не известно.
2
Иван Христиаиович Тирст попал в далекие сибирские края яе по своей охоте.
Фортуна не проявила к нему особой благосклонности на заре его жизни.
Иван Христианович не получил в наследство ни богатых поместий, ни достаточных капиталов, ни громкого родового имени.
Отец его, остзейский немец, начав свой жизненный путь писцом в канцелярии Курляндского губернатора, выслужил трудами классный чин и дворянское звание. По служебному положению представился ему случай оказать важные услуги нескольким именитым окрестным баронам, ц это способствовало тому, что сын его Иоганн был принят в их домах.
Возможность вращаться среди блестящей титулованной молодежи, потомков древних рыцарских родов и наследников вполне современных доходных имений, с одной стороны, льстила молодому Иоганну Тирсту, а с другой– наглядно показывала, сколь он обделен судьбою.
Единственное, что ему оставалось, – это вспомнить старую мудрую пословицу: «Всяк своего счастья кузнец».
Иоганн Тирст принялся осторожно, но настойчиво ковать свое счастье. Как со временем выяснилось, настойчивости у него оказалось более, нежели осторожности.
Юные отпрыски баронских семей вздумали поиграть в высокую политику. В чем состоят задачи и цели затеянного ими «Союза юных и смелых немцев», никто из них ясно себе не представлял. На сборищах, которые проводились под видом охотничьих прогулок, много говорилось о древней тевтонской доблести и об исторических заслугах Ливонского ордена, о Балтийском море – как внутреннем, море Немецкой нации, и о великой Германии – владычице Европы.
Все сходились на одном: Прибалтика должна быть немецкой. Не успели только решить: будет ли она суверенным государством или же войдет в состав этой самой великой Германии.
Молодой Тирст был непременным участником всех сборищ. И даже активным. Звонкий голос и несомненная начитанность способствовали проявлению ораторских способностей, а каллиграфический почерк и всегдашняя готовность услужить своим родовитым покровителям и принять на себя наиболее скучные обязанности превратили его в неофициального секретаря еще не организованного союза.
Власти предержащие, в. лице местного жандармского ротмистра, знали обо всех этих «невинных забавах» ти–тулованных хлыщей. Но смотрели на них сквозь пальцы. Отцы их и деды многократно и убедительно доказали свою приверженность трону, и невозможно было представить, что в их баронских и графских замках гнездится опасйая для империи крамола.
Однако декабрьские события на Сенатской площади положили конец всякому благодушию. И хотя в петушином задоре юных тевтонов не было ничего, даже отдаленно напоминающего вольнолюбивые идеи тайных Северного и Южного обществ, – карающая десница протянулась и… настигла.
И тут ниспровергателю основ Иоганну Тирсту пришлось выступить в самой неблагодарной роли – козла отпущения.
Остальные соучастники укрылись за графскими и баронскими гербами, за генеральскими, камергерскими й иными чинами и званиями своих отцов. А родитель Иоганна Тирста уже окончил свое бренное земное существование. Да и будь он в наличии, мало чем мог бы помочь своему незадачливому отпрыску.
Иоганн, всячески стараясь смягчить удар карающей десницы, на первом же допросе выразил чистосердечное раскаяние и полную готовность показать все, что было, а если надо – чего и не было, но это запоздалое рвение мало ему помогло.
Он был лишен столь тяжкими трудами добытого его родителем дворянского звания и сослан в Сибирь на Нерчинские государевы заводы.
Правда, униженное его раскание и, прежде всего, явственно выраженная готовность искупить вину свою любым способом произвели должное впечатление на жандармского ротмистра, и вслед Тирсту в Нерчинск была послана бумага. В ней значилось, что «…оный Иоганн Тирст показания дал самые откровенные, вину свою полностью осознал и выказал намерение дальнейшими действиями своими вину свою перед государем и отечеством полностью. искупить…»
Сей негласный аттестат послужил своеобразной охранной грамотой государственному преступнику Тирсту. И по прибытии в Нерчинск он был определен учителем местного горного училища, получил полную свободу передвижения в пределах горного округа и был принят в местном обществе.
Тирст, ожидавший худшего, приободрился и, похвалив сам себя за правильно избранную линию поведения, твердо решил неукоснительно придерживаться ее и в дальнейшем.
В числе воспитанников горного училшДа было немало детей ссыльных. Тирсту поручено было особое наблюдение за поведением этих учеников, имея в виду, что, наблюдая за детьми, можно узнать многое о родителях.
Видимо, Тирст хорошо справлялся с порученными обязанностями. Через два года ему была объявлена благодарность в приказе по Нерчинокому горному управлению.
Такое поощрение по отношению к государственному преступнику применялось впервые. Теперь Тирст окончательно утвердился в мысли, что порядок, установленный русским царем в своей империи, весьма разумен, что он сам хоть и не столбовой, но все же дворянин по рождению и в качестве такового предназначен служить опорою трона, а посему раскаяние его подобно возвращению блудного сына в лоно отцовской семьи.
Служить верой и правдой русскому царю было не в пример выгоднее, и Иван Хрнстианович Тирст стал усердно выслуживаться, не щадя никого.
Усердие не осталось незамеченным.
Еще через три года по высочайшему повелению, последовавшему на докладную записку господина министра финансов «в уважение хорошего поведения и восчувствование всей важности содеянного им преступления, произведен в коллежские регистраторы, с употреблением при Нерчинскпх заводах, к занятиям коим окажется более способным».
Администрация горного округа была достаточно высокого мнения о способностях нового чиновника, и он был определен приставом Култуминского серебро–свинцового рудника.
Теперь перед Иваном Хрпстиановичем открылась торная дорога.
Тирст принялся хозяйствовать с немецкой педантичной деловитостью, усугубленной яростным стремлением выбиться в люди. Каждому работнику был установлен твердый дневной урок, значительно превосходящий прежнюю дневную выработку. Если кто не вырабатывал урока, не отпускалась с работы вся артель. Таким образом, сами каторжные оказались вынужденными следить за работою друг друга, и ото, в свою очередь, было куда более действенным, чем окрик или даже плеть казачьего урядника.
Многие жили на руднике семьями. Дети каторжан мужского пола с двенадцати лет брались на работы но разборке руды. Тирст снизил рабочий возраст до десяти лет и приказал выгонять на работы также баб и девок.
Эти и подобные им меры, соединенные с неумолимой строгостью в отношении всех ему подчиненных, помогли Тирсту за короткий срок удвоить добычу ценной серебро–свинцовой руды.
Годы управления Тирста Култуминским рудником ознаменовались не только ростом добычи руд, но и повышенной смертностью среди ссыльнокаторжного люда.
Но, по сравнению с первым, второе имело в глазах начальства куда меньшее значение.
Старания Тирста не прошли впустую и получили всестороннюю оценку.
Начальство горного округа, за время пребывания Тир ста в должности пристава Култуминского серебро–свинцового рудника, отмечало его и благодарностями, и денежными наградами. Дважды представлялся он к производству в следующий чин, и оба раза представленпе было удовлетворено.
Подвластные же ему каторжные рабочие люди имели по поводу заслуг Ивана Христиановича свое мнение, которое решительно расходилось с мнением окружного начальства.
Свое отношение к деятельности пристава Тирста они выразили весьма энергичным и недвусмысленным способом, подорвав начиненный двойным зарядом шурф в то время, когда Иван Христианович проходил мимо. Намерения были самые «гуманные»: отправить Ивана Христиановича на тот свет мгновенно, по возможности безболезненно и в разобранном виде, не утруждая родственников похоронами.
Цели не удалось достигнуть: то ли заряд был мал, то ли порох отсырел. Тирст отделался поломкою двух ребер и лишился левого глаза.
На рудник прискакала казачья конвойная команда. Перепороли каждого третьего. А Тирст подал рапорт с просьбой переменить ему место службы.
Просьба была уважена, и он получил по выздоровлению новое назначение, свидетельствовавшее о высокой оценке его служебного рвения.
В формуляре его появилась следующая запись: «Командирован на предполагаемый к устройству в Нинами удияском округе Иркутской губернии на реке Додоновой новый железоделательный завод для предуготовительных заготовлений припасов и материалов на разные заводские постройки».
На Николаевском железоделательном заводе Тирст на ходилен уже двенадцатый год. Сперва в должности смотрителя материальных и провиантских запасов, а последние восемь лет помощником управляющего заводом.
После култуминского фейерверка характер Тирста не улучшился. Соответственно и отношение его к подчиненным. Сдерживал его рвение капитан Треекин, человек нрава мягкого и покладистого. Иван Хрнстианович в спор с начальником не вступал, но за спиной его действовал ло–своему. Сам капитан Треекин занимался преимущественно технической частью, а все остальные дела препоручил помощнику. В ведении Тирста находились все артели рабочих, заводская полиция, казачья команда. Непосредственно ему подчинялись бухгалтер завода и смотритель провиантских и материальных запасов. Таким образом, Тирст ведал нарядами на работы, расчетами с рабочими и выдачею им провианта, то есть судьба каждого работающего, особенно из ссыльнокаторжных, была в его руках.
Сверх того, Тирст ведал закупками провианта и при пасов, а также продажею готовых изделий завода и, производя эти операции, свел тесное знакомство с многими иркутскими и нерчпнекими купцами.
Вот кому Тирст завидовал. Это были люди! Они ворочали сотнями тысяч, а некоторые – и миллионами!.
С годами честолюбие, которое когда‑то было главной страстью Тирста, уступило место стяжательству и корыстолюбию. Он понял наконец, что главная сила – деньги. На торговых операциях, кои вел он, можно было погреть руки. Если бы не помеха в лице капитана Трескана, – помимо мягкосердечия, он отличался еще и неподкупной честностью.
В мыслях своих Тирст возносился до положения управляющего заводом. Но сам понимал, что сие мало веро ятио: управлять казенным заводом мог только офицер корпуса горных инженеров. И поскольку завод является собственностью казны, в кресле управляющего ему не сидеть.
Но тут одно к одному произошли два события. Капитан Трескин почти лишился зрения. Он и раньше жаловался на глаза: сказывалась многолетняя служба на огнедействующих предприятиях. Теперь же зрение его настолько ухудшилось, что потребовало срочного лечения. Капитан Трескин исхлопотал себе длительный отпуск и уехал лечиться в Петербург.
Вскоре после его отъезда стало известно, что в Иркутске, в горном отделении, ведутся разговоры о продаже Николаевского завода в частное владение. Главным доводом к продаже была обременительность содержания завода для казны, поскольку завод не давал ожидаемых прибылей. Но были и влиятельные противники продажи завода. Среди них главный горный ревизор Восточной Сибири генерал–майор Бароцци де Эльс.
Вопрос решался в Сибирском Комитете в Петербурге. Решение зависело, в конечном счете, от результатов текущей деятельности завода. А результаты эти, в немалой степени, – от хозяйствования Тирста.
Сам же Тирст был кровно заинтересован в продаже Николаевского завода.
Доверенный иркутскою первой гильдии купца Лазебникова, наиболее вероятного покупателя завода, твердо пообещал Ивану Христиановичу должность управляющего.
3
Утром, встав из‑за стола, Тирст сказал жене:
– К обеду будет Ефим Лаврентьевич. Надобно послать за свежей рыбой.
– Пошлю, батюшка Иван Христпановпч, – послушно ответила жена, но не ушла сразу же в кухню распорядиться, а стояла у стола, нерешительно глядя на мужа.
– Ну, что еще? – с неудовольствием спросил Тирст.
(Нарушался установленный раз навсегда распорядок: о домашних делах только вечером. «С утра надобно иметь свежую голову для дел казенных».)
– Видела Марью Антоновну, говорит, сам скоро вернется и сразу же уедет отсюда. Не будет Василий Прокофьич служить в заводе…
Она говорила торопливо, спеша высказать все, что ей хотелось, пока муж слушал ее.
– И что с того? – ворчливо перебил ее Тирст, хоти известие о том, что капитан Трескпн намеревается оставить службу в заводе, его весьма заинтересовало.
– Батюшка, Иван Христианович! – она протянула к нему руки. – И нам бы… с нпми бы и поехали… не век же в этой каторжной слободе оставаться.
– Вы в своем уме, Лизавета Ивановна? – произнес Тирст с раздражением.
«Вы» и «Лизавета Ивановна» свидетельствовали, что Тирст весьма недоволен женою. Обычно он обращался к ней, – не называя по имени. В редкие же минуты благодушного настроения или супружеской нежности звал жену на немецкий манер – «Лизхен».
Лизавета Ивановна еще больше оробела. Блеклое лицо, на котором трудно было угадать следы былой привлекательности, побледнело столь сильно, что темные брови выделились как нарисованные. Вся она сжалась, и уже не заметно было, что ростом она выше грозного своего супруга. Но, очевидно, тревога, заставлявшая ее говорить, была сильнее, нежели страх перед мужем.
– Вчера встретила Маланью, не поклонилась даже. Мало того, вслед крикнула: «Отольются вам наши слезы! Будет и на вас управа!»
– Что за Маланья?
– Якова Могуткина вдова.
– Что значит вдова? Что ты мелешь! – прикрикнул Тирст.
– Да ведь все так говорят, батюшка…
– Кто еще все? Да ты что, с ума спятила! – закричал Тирст, в бешенстве топая ногами.
В столовую вошла старшая дочь Аглая.
– И что вы, право, папенька, с утра!
Она единственная в семье не трепетала перед отцом. И сейчас она подошла и встала, словно заслоняя мать. Она была тоже высока ростом и стройна, разве чуточку полна для своих лет. Лицом очень похожа на мать, и каждый, взглянув на нее, мог представить, как хороша была собою Лизавета Ивановна в молодости.
– Неуместно вмешиваться в разговоры старших, – строго, но уже негромко сказал Тирст.
– Вы так, папенька, кричали, что у Аргуновых во флигеле слышно. И ведь маменька права. Уж нам‑то вовсе не след здесь оставаться. И вы лучше всех знаете, почему!
Ворот враз стал тесен Ивану Хрнстиановичу. Все его длинное угреватое лицо от массивного подбородка до кончиков мясистых ушей залилось густой краснотой. И только лишь левый вставной глаз поблескивал холодной голубизной.
От негодования и ярости он задыхался, словно рыба, выброшенная на песок.
– Не вашего ума дело! – выдавил он наконец и, круто поворотясь, хлопнул дверью.
От дома до конторы рукой подать, – Тирст не успел остыть.
Не ответив на приветствие вскочивших как по команде писца и рассыльного, Тирст прошел через приемную в кабинет управляющего и, не снимая полотняного картуза, уселся в кресло.
Истинно сказано: у бабы волос долог, а ум короток!.. Уехать сейчас, когда осталось – руку протянуть и сорвать золотое яблочко!.. Какая‑то Маланья на нее косо посмотрела. Только и беды!.. Сказать приставу, чтобы отодрал ее за дерзость… И ей и другим неповадно будет…
Тирст достал из дальнего ящика стола памятную тетрадочку в черной обложке и вппсал туда Маланью. Представил, как будет Маланья виниться и каяться со слезами и причитаниями, и успокоился.
Можно было обратиться к заводским делам.
Надо всерьез заняться ремонтом доменной печи. До сей поры не было смысла торопиться с печыо. Теперь же, поскольку капитан Трескин уходит, дело оборачивается другой стороной.
Не состоится продажа – придется сдавать завод новому начальнику. А если сторгует завод Лазебников – самому Тирсту начальником быть. Хоть так, хоть эдак, а печь надобно подготовить к действию.
Тирст позвонил в медный, с длинной ручкой, колокольчик и приказал подавать к крыльцу дрожки.
Но уехать не успел. Пришел бухгалтер Мельников, принес пакет, только что полученный с нарочным из Иркутска.
– Секретный, – сказал Мельников, – второй такой же на имя его благородия подпоручика Дубравина, – и остановился возле стола, поглаживая окладистую бороду, – Где же второй?
– Передал по назначению.
Тирст резко вскинул голову. Мельников спокойно встретил его взгляд.
– Ежели по вашей части что будет в сем пакете, уведомлю, – сказал Тирст.
Мельников усмехнулся и вышел.
Тирст торопливо вскрыл пакет, извлек бумагу. Какой‑то миг любовался искусным и ровным, буква к букве, почерком и, перевернув лист, взглянул на подпись. «Подписал: генерал–адъютант Корсаков, скрепил: столоначальник…» – подпись неразборчива.
Сперва читал без особого интереса. Судя по началу, предписание носило общий характер. Генерал–губернатор, обеспокоенный повсеместно участившимися побегами с казенных заводов и рудников, писал: «…Входя в причины сих побегов, я пе могу не вывести такого заключения, что нс только ссыльнокаторжные, но даже служители вынуждаются к побегам тяжестью работ, недостатком человеколюбия и попечительности со стороны управляющих и распорядителен, коп. могут и должны правильным употреблением на работы, заботами об экономическом заготовлении жизненных припасов, заведением огородов при казармах рабочих, равно и другими мерами, состоящими во власти местных чиновников, сделать положение рабочих удобным до степени обыкновенного работника и тем самым отвратить их от совершения побегов…»
«Нет, ваше высокопревосходительство, – возразил Тирст мысленно, – сколько волка ни корми, он все в лес смотрит».
Далее генерал–губернатор внушал:
«…Прошу вас предупредить всех, до кого это касается. что рабочий всегда доволен своим положением, когда у него есть необходимая пища и одежда, когда он не изнурен работами, когда с ним обратятся кротко и взыскивают за вины со строгой справедливостью. Особо прошу обратить внимание на прпохочнвание рабочих к бракам и домоводству, каковые меры помогают сделать не только из служителя, но из ссыльнокаторжного трудолюбивого и полезного для него и казны человека…»
– Эх, ваше высокопревосходительство! – укоризненно вздохнул Тирст. – Да разве это люди…
У него даже отпало желание читать дальше. Но заметав строкою ниже знакомую фамилию, Тирст понял, что написанное далее имеет к нему прямое отношение.
«…Мною получено донесение о нахождении в бегах урядника первой статьи Якова Могуткина, состоявшего в должности надзирателя рудного двора вверенного вам завода. Подобный беспримерный случай нарушения присяг» служителем унтер–офицерского звания свидетельствует либо о крайнем небрежении вашем к подбору лиц, ведающих отдельными производствами завода, скорее же о весьма стеснительных условиях существования и чрезмерно строгом обращении с подчиненными. Прошу незамедлительно донести рапортом о причинах увеличения числа побегов за последние месяцы, особо объяснения ваши о причинах, побудивших к побегу урядника Могуткина…»
– Проклятый подпоручик! – процедил сквозь зубы Тирст, дочитав предписание. – Ему обязан я сей припискою.
Теперь было не до ремонта печи.
Весь день ушел на составление рапорта.
Поставленный в необходимость оправдываться и тем самым как бы возражать его высокопревосходительству, Иван Христианович особое внимание уделил стилю своего сочинения и так начал свой рапорт:






