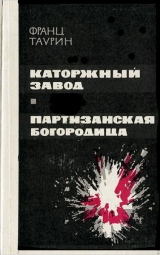
Текст книги "Каторжный завод"
Автор книги: Франц Таурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
«Имея счастие получить предписание Вашего Высокопревосходительства о принятии мер к предотвращению побегов ссыльнокаторжных, я, к прискорбию, в донесении своем по этому предмету должен доложить, что с начала майской трети бежало 217 человек, в том числе командированными мною казаками поймано четверо…»
Такое повальное бегство объяснить было нелегко. Ивану Христиановичу пришлось несколько раз переписывать эту часть рапорта.
«…Число бежавших в такой короткий срок весьма значительно, и причину побега, не зная настоящей, прямо должно было бы отнести к вине местной администрации. Не считая себя далеко виноватым в вынуждении рабочих к побегам тою незаботливостью, нечеловеколюбием, отягчением работами, о которых Ваше Высокопревосходительство изволили упомянуть в предписании Вашем, долгом поставляю почтительнейше доложить…»
Далее Иван Христианович подробно расписал все свои неустанные заботы о благе рабочих, находящихся в его подчинении: построена баня (не указав, однако, кому дозволено в ней мыться). Возделываются огороды (не указав, кем и кто пользуется овощами). Приобретен невод для рыбной ловли (не упомянув, что рыба расходится по начальству). Мясо из заводской лавки продается рабочим пониженною ценою (забыв сказать, что это солонина, протухшая от долгого хранения). Закончена постройкою церковь, и по праздникам и табельным дням свершается богослужение (здесь Тирст ни в чем не отступил от истины).
После всего этого следовал вывод:
«Причина побегов заключается в страсти к побегам и бродяжничеству».
И указывались меры пресечения:
«Одно только средство удержать каторжных вовсе от побега, это острог и оковы».
Труднее было объяснить причины побега урядника Могуткина, и эту часть рапорта Тирст не успел закончить до прихода стряпчего Ярыгина. Оставил па следующий день, уповая, что утро вечера мудренее.
Ярыгин запыхался, словно за ним гнались.
– Жарко летом в наших таежных краях, – сказал Тирст сочувственно.
– Черт бы их не видал! – со злостью отозвался Ярыгин, утирая платком лицо и шею.
Тирст с удивлением посмотрел на него.
Накануне виделись они, и Ярыгин был в отменно добром настроении.
– Нет, каков мерзавец! – возмущался Ярыгин. – Я к нему как к человеку со всем уважением…
Тирст понял, что речь о подпоручике Дубравине, и молчал, ожидая, пока Ярыгин отойдет и расскажет все более обстоятельно.
Но стряпчий никак не мог прийти в себя и, только пыхтя и отдуваясь, выражал свое возмущение отрывочными восклицаниями.
Обидная для его достоинства сцена врезалась в память во всех подробностях…
…Подпоручик собирался вздремнуть после обеда. Брошка стаскивал с него сапоги, когда в дверь комнаты для приезжающих, где квартировал Дубравин, иостучали.
– Да! – крикнул подпоручик, полагая, что там Перфильич.
Ярыгин вошел и учтиво поклонился.
Подпоручик вскочил. Сейчас он вовсе не походил на ревизора, прибывшего со специальным поручением: в одном сапоге, в расстегнутой рубахе, волосы взлохмачены… Крошка, не выпуская пз рук сапога, смотрел, разиня рот, на Ярыгина.
– Прошу прощения за беспокойство, – сказал Ярыгин и, снова поклонясь, представился: – Доверенный коммерции советника Дазебппкова, стряпчий Ярыгин.
Подпоручик выхватил у Ерошки сапог, быстро натянул на ногу.
– Корпуса горных инженеров подпоручик Дубравин. Прошу садиться!
Усадил нежданного гостя за маленький столик. Сам сел напротив.
Чем могу служить?
Ярыгин покосился иа Ерошку. Подпоручик кивком отослал денщика в прихожую.
– Дело имею к вам, господин Дубравин, важное и прошу выслушать со вниманием. – Он снял соломенную с широкими нолями шляпу, положил ее на стол и утер шею платком. – Сей Николаевский завод, учрежденный казною и состоящий в казенном управлении, становится в тягость казне. Вы, полагаю, убедились в том, ознакомлен с делами?
Подпоручик еще пе понял, куда клонит посетитель, и ответил неопределенным жестом.
– Само дело подтверждает ту непреложную истину, – продолжал Ярыгин, – что предприятия, состоящие в частном владении, более экономичны и значительно большую пользу приносят…
– Кому? – перебил подпоручик.
– Владельцу своему, – нимало не смутясь, ответил Ярыгин, – равно и государству. Ибо богатство граждан составляет и богатство державы. А посему…
– Не могу взять в толк, с какой целью вы мне сие разъясняете, – снова перебил его подпоручик, уже начиная догадываться о намерениях стряпчего.
Ярыгин пристально посмотрел на подпоручика, словно буравя его маленькими своими глазками.
– От вас весьма много зависит, господин Дубравин.
– Опять не возьму в толк, – возразил подпоручик.
– От заключения вашего, кое вы представите его превосходительству главному горному ревизору.
– То есть?
– Ежели усмотрите вы причину убытков завода в неразумном хозяйствовании управляющего оным – это дело одно. А ежели подтвердите, что все действия заводского начальства правильны и дело ведется рачительно в ревностной заботе об интересе казны – это дело другое. И таковое заключение ваше весьма желательно и полезно будет.
– Кому? – И подпоручик тоже в упор посмотрел на Ярыгина.
– Доверителю моему, господину коммерции советнику Лазебникову, – с достоинством ответил стряпчий.
– Ну, а если, предположим, – подпоручик откровенно усмехнулся, – не оправдаю я надежд ваших и господина Лазебникова?
Ярыгин оглянулся на дверь и, перегнувшись через стол к подпоручику, сказал тихо, но внятно:
– Пятьсот рублей серебром.
Подпоручик вскочил, как подброшенный пружиною. Стул с грохотом отлетел в один угол, столик, за которым они сидели, – в другой.
Ерошка, привлеченный шумом, с опаскою заглянул в комнату.
– Вон! – крикнул подпоручик, указывая на дверь. – Вон, сию минуту!
– Вы, сударь, но очень‑то… – бормотал Ярыгин, пятясь к двери, – мой доверитель вхож к его высокопревосходительству…
– Еще грозишь, негодяй! – И подпоручик влепил стряпчему полновесную пощечину.
Потом поднял валявшуюся в углу широкополую шляпу стряпчего и швырнул вслед ему.
Ярыгин подобрал шляпу и выбежал, провожаемый квакающим хохотом Ерошкп.
…Конечно, от передачи многих подробностей Ярыгин воздержался. Да в том и не было надобности. По виду его и состоянию Тирст понял, какой характер имела беседа стряпчего с подпоручиком.
– Все бы ничего, – сказал Ярыгин, отдышавшись, – да горяч больно… Может донести рапортом его высокопревосходительству о неосторожном предложении моем.
– Пустое, Ефим Лаврентьевич, – возразил Тирст. – Разговор без свидетелей. С такою же долею вероятности можете вы заявить, что он вымогал у вас означенную сумму.
– А денщик?
– Ерошка?.. – Иван Христианович пренебрежительно махнул рукой. – У него чердак без верху, одного стропильца не хватает. Дураку веры не будет.
Ярыгин успокоился и осмелел.
– Привлечь его за рукоприкладство!
Тирст усмехнулся.
– И сие нахожу невозможным, Ефим Лаврентьевич. По той же причине. Дураку веры не будет.
Ярыгин как бы не заметил насмешливой двусмысленности слов Тирста, и разговор обратился к наиболее интересовавшему обоих предмету: как обезвредить действия строптивого подпоручика Дубравина.
Глава четвертая
ВАНЬКА, НЕ ПОМНЯЩИЙ РОДСТВА
1
Крохотное оконце–продух выходило на солнечную сторону. Но всего несколько тонких, как вязальные спицы, лучиков пробивалось в землянку сквозь прикрывавшую продух пихтовую лапу. Не то шмель, не то шершень настырно зудел, пытаясь пробраться сквозь хвою. А Ивану, лежавшему навзничь на груде пахучих пихтовых ветвей, казалось, что это звенят, сталкиваясь, бесчисленные пылинки, которые, вспыхивая золотом, плясали и вздрагивали в солнечных лучах.
Ветер ли пошевелил пихтовую лапу, или заяц, пробегая по крыше землянки, стронул ее с места – золотой лучик словно переломился у оконца и кольнул в глаз.
Иван смежил веки и, опираясь обеими руками на прогибающиеся ветви, попытался передвинуть свое большое грузное тело. Но острая боль впилась в грудь и обессилила руки.
Иван отвернул голову к стене землянки, обшитой потемневшими от времени лиственничными плахами, и стал пережидать, пока солнце, убегая к закату, сдвинет лучик в сторону от изголовья.
Во рту пересохло, и распухший, неповоротливый язык задевал за шершавые десны.
Под оконцем, на толстом сосновом кряже стояла глиняная кружка с водой, покрытая куском лиственничной коры. Но дотянуться до нее было невмоготу… Придется потерпеть. Солнце у изголовья, стало быть, дело к полудню… Скоро его навестят…
Трудно лежать так, не шевелясь, целыми днями… Эх, Иван, Иван!.. Понесла тебя нелегкая к. этой слободе!.. Было бы плыть вниз по реке до самого Енисея… По хлебу, вишь, стосковался… А за хлеб‑то кровушкой расплачиваться пришлось…
Зацепила чужая пуля. На какого‑то Якова слита была. Когда затаился в чаще, истекая кровью, слышал глухие, как сквозь сон, голоса. Два голоса. Один окликал Якова, другой – Яшку…
Потом словно провалился в черную яму… Очнулся уже в землянке… Женщина какая‑то, лица не разглядеть, по голосу не старая еще, рану обмыла, перевязала… Положила руку на лоб, рука мягкая, прохладная, сказала: «Лежи спокойно. Утром приду»…
И не пришла…
Кто только не приходил?.. Все приходили: мать приходила, садилась в головах,, плакала, волосы седые на себе рвала… и Анютка, невеста несватаная, в сарафане цветастом прошлась перед ним павой, подбоченясь, и закружилась, закружилась, косы расплескались по ветру… и Кузькин Еремей, коротенький, вертлявый, скособочась, приплясывая в углу, верещал тоненько: «А не дам пачпорта, не дам!»…
Все приходили. Только женщина с ласковыми прохладными руками не шла…
Вчера пришла. Напоила, умыла лицо студеной водой, покормила из рук.
Спросил:
– Как звать?
Сказала:
– Придет время, узнаешь.
– Где я?
– Лежи сюжойно, никто не найдет. Завтра прйду опосля полудня.
– А когда полдепь‑то?
– Сейчас полдень. Вот примечай: как солнышко в глава заглянет, время к полудню.
– Разгородить бы оконце?
Нельзя. Нарочно лапником прикрыла. Хоть и глухое место, да вдруг кто забредет?
– А дверь?
– Уйду, сушняком завалю дверь. Не бойся, никто не найдет. Лежи спокойно.
И не лежал бы, да встать сил нет… Лежи да думай. Времени не занимать. Всю жизнь как есть передумать можно…
2
…Иван широко распахивает дверь из сеней на улицу. Злой осенний ветер швыряет в лицо хлопья мокрого снега. Иван хочет с силой захлопнуть дверь, не успевает. Руки, Анюткины желанные руки, хватают сзади за плечи, обнимают за шею…
Вашошка, милый! Хоть ты на меня не гневайся… Не могу я без тятенькинова благословения. Ведь проклянет…
– В купчихи, стало быть!
Такая у Ивана на сердце ярость, что не мила и Анютка, мокрым от слез лицом прижавшаяся к груди. Оторвать ее от сердца и швырнуть в студеную слякоть. Но тонкие девичьи руки как в замок взялись, не оторвешь.
– Ванюшка, погоди, послушай! Может, последний раз вижу тебя. Не пойду я с ним под венец. А силой поведут – в омут брошусь!.. Ванюшка, хоть ты пожалей меня!
Прикрыл ее полой кафтана, погладил по мокрым волосам.
– Плетью обуха не перешибешь… Чай, слышала батины слова: «За голытьбу беспортошную дочь не отдам. Ставь дом, заводи хозяйство – тогда сватай!»
– Ванюшка, родимый… а ты постарайся… Ведь ты мастер, золотые руки. Наживешь… А я ждать буду… сколь надо, буду ждать, Ванюшка! А то одна дорога, в омут...
…И вот у Ивана новые друзья–товарищи. Прежде на, одну колоду не сел бы, с ними рядом, а теперь друзья…
Плешивый Михеич, за, пьянство выгнанный из писцов заводской конторы, и голова всему делу – минский мещанин Иуда Каган, по указу Правительствующего Сената лишенный всех нрав состояния, битый плетьми и сосланный в Тагильский завод «за выпуск в народное обращение фальшивых кредитных билетов».
Не на доброе дело сгодились Ивановы золотые руки. Стал он клейма высекать Иуде Кагану для чеканки фальшивых целковиков.
Клейма были хороши. Каган крепко помнил, а спина его и того крепче, сколь опасна всякая небрежность в их прибыльном, но рисковом ремесле. Михеич каждый месяц ездил в Екатеринбург, где остались у него от лучших времен дружки. И после каждой его поездки Катай делил чистую выручку: себе половину, подручным своим по четверти.
Иван уже присмотрел себе дом пятистенный, железом крытый, с конюшней, сараем и прочими дворовыми постройками. Ко крещенью располагал обзавестись своим домом, а на масленой сыграть свадьбу. Ну, и, понятно, закинуть все свои клейма в заводской пруд и послать Иуду ко всем чертям.
Но как веревочка нм вьется, а конец недалек…
…Били и Ивана плетьми. Били на слободской площади. Палач дело знает. У него на свою работу тоже золотые руки. Сечет с протягом. После каждого удара душа от тела отрывается…
Но хоть до костей срывает мясо тяжелая плеть, того тяжелее было подумать: каково теперь Анютке?.. И куда ей пожелать пути: в постылые купеческие хоромы или в темный омут?..
Михеича и Кагана замертво в лазарет уволокли. Иван сам со скамьи поднялся. Выстоял, когда каленым клеймом пятнали ему левое плечо. И на своих ногах с площади ушел…
– Силен варнак! – удивился палач.
– Этот царю–батюшке сполна в рудниках отработает, – сказал, словно похвалил, командовавший экзекуцией пристав.
Хотел Иван выплюнуть ему свое проклятье, но, собрав всю силу, сдержался. И так не осталось живого мяса, на спине…
…Почитай, полгода пылил Иван по Московскому тракту. Далеко царь–батюшка облюбовал место для рудника своего каторжного. Всего насмотрелся Иван по дороге: и степей, и лесов, и гор. Одних рек больших и малых, поди, сотню переплыл и перебрел. Знал, что велика Россия, но чтобы столь места на белом свете заняла, не имел понятия… Шел и думал: почто же на таких‑то просторах, а жить человеку тесно?.. Сколь ни думал, ответа не сыскал. Видно, не по его уму загадка…
Как за Обь перевалили, пошли леса. Леса без конца и края. Фланговым в ряду идешь, ветки по плечу гладят. Стоит зеленая стена, в соблазны вводит. Один шаг в сторону… и нет тебя… Одна беда: дал бог вольный свет, а черт кандалы сковал. Далеко не убежишь.
До конца пути, до Благодатского рудника, что аж заБайкалом, добрел Иван один из трех. Михеич отдал богу грешную душу в Барабинских степях, а Каган остался в лазарете Иркутского острога… .
…Дневной урок – три пуда руды. Счет дням Иван потерял. Да и что их считать? День пройдет, ему на смену придет новый. И снова – три пуда руды…
Глухо стучат молота по камню, высекая искры. Звенят сломившие ноги кандалы. Чадит сальная плошка, освещая подземелье тусклым неверным светом. В забое в любую пору года душно, и спертый воздух теснит грудь…
Для Ивана три пуда – урок сходный. А Мирону Горюнову неподсильно. Не стар еще, да четыре года каторги надломили мужика, увели былую силу. А пыль от свинцовой руды насквозь все нутро прожгла. Перемогая стук молотов, рвется из груди его злой надрывный кашель. Молоток валится из усталых рук.
– Передохни, Мирон, – говорит Иван.
– В могиле наш отдых, – натужно отхаркиваясь, отвечает Мирон. – Урок не сполншнь, надзиратель рыло искровянит.
– Передохни. Подсоблю.
…Не легче и ночь в тюремной казарме. Теснота. Нары в два этажа. Подстилка – перепрелое сено. Вонь от него круто приправлена запахом мокрых портянок и давно немытых тел и дымным чадом самосада маньчжурки, который без останову курят три солдата и унтер, несущие внутренний караул в казарме.
На нарах вповалку каторжные. Кто храпит, кто хрипит, кто стонет…
В такие долгие тюремные ночи рассказывал Мирон Горюнов Ивану про жизнь свою на воде, про родные раздольные сибирские края.
– Черт бы ее не видал, вашу Сибпрь! – злобился Иван.
– Нет, паря, не знаешь ты нашей Сибири, – убеждал Горюнов. – Первое дело, всего вдосталь: и пашни, и покосу, и лесу. Опять же без бар жили, вольные хлебопашцы.
– То‑то вольно живешь.
– Грех да беда за кем не живет… Конечно, я у нас притеснение от казны… Да не вековечно же так, поди! Должна и нашему брату доля быть…
Иван в злобе только матерился.
– В нашем селе, – рассказывал Горюнов, – Урик село прозывается, двадцать верст от Иркутска, проживал на поселении барин один Михаил Сергеич. И фамилию знал я евоную, да запамятовал. Допрежь того каторгу отбывал он на рудниках. Может, вот в том самом забое, где мы с тобой.
– Как же это, барина да на каторгу?
– Из этих он, из государственных преступников. Слыхал, в Питере на Сенатской площади дело было?
– Не слыхал.
– Конечно, молод ты. Дело до твоего рождения было…
И долго рассказывал Горюнов, как подымались хорошие люди на царя, как хотели добыть волю народу.
Иван слушал нехотя, сказал:
– Барская затея. Что царь, что барин, что купец. Все на нашу голову.
– Так оно, – согласился Горюнов. – Однако и бары разные бывают. Вот Михаил Сергеич говаривал, покуль хоть один зуб во рту, и тем бы, говорит, загрыз всех супостатов, притеснителей народу…
– Что ты со своим Мнхал Сергеичем! – разъярился Иван. – Какая мне корысть, что он такой пригожий! Я‑то в кандалах! Да и ты тоже…
– Эх, Ванятка! – вразумлял Горюнов. – Ты другое в толк возьми. Кому жить хуже? Ему – барину, или мне – мужику? Дак по што же мы терпим?
– Плетью обуха не перешибешь. Ты вот, Мирон, не стерпел, а что толку?
– Один, Ванятка… А надо всем миром.
– Нет! – сказал Иван, как отрубил. – Всяк за себя, одни бог за всех. Я так, Мирон, решил. Тише воды, ниже травы буду. Надзирателю пятки лизать стану. Снимут кандалы – убегу!
…И убежал… Не скоро и не сразу. Выслужил доверие. Сняли кандалы. Перевели как мастерового в Петровский завод. Горновым к печам поставили. Жить бы там… Баба нашлась, пожалела. В дом брала…
Можно бы и в том дому остаться. Кабы не маячил перед глазами полукаменный с резными наличниками купецкий дом на Большой улице в Тагильской слободе.
Нет… пока жив да сила есть, добраться до того дома. Хоть и полукаменный, сгорит, однако, ежели подпалить со старанием… А если в том доме Анютка?.. Колн в том, Так уж по Анютка, а Апиа Тимофеевна, купчиха Заварзина. Стало быть, разошлись дорожки: одна в гору, другая в овраг.
…Через Байкал рыбаки перевезли. Врал что‑то им нескладно.
– А нам с тобой, прохожий, не робят крестить, –сказал седой кормчий, и по лицу его, продубленному солнцем и ветром, пробежала усмешка. – Чей ты и откудова, не наша забота. Не обробеешь волны, садись!
Крутую волну развело в ту ночь. Тучи заволокли все небо. И что вверху, что внизу – одна чернота. Старик велел весла убрать и лечь всем.
– Теперя, паря, держись за дно, – сказал он Ивану. – Да ежели не забыл, прочитай молитву. Всяко может быть…
…Иркутск обошел стороной. Побывал в Урике у Пелагеи Горюновой. Передал поклон от Мирона. Заплакала баба в голос. Не сладка жизнь одной с четырьмя. Подмоги ждать неоткуда. Кому охота с каторжанкой связываться. Высушило бабу, одни жилы вкруг костей обернуты.
Испекла ему Пелагея хлеба на дорогу. Парнишка старшой, весь в Мирона, носатенький, лодку где‑то раз добыл. Спустились с ним по речке Куде до Ангары. И там Иван один поплыл. Ночью плыл, днем в кустах но островам отсиживался.
И было бы плыть без останову…
…Шел лесом, не выходя на дорогу, с опаской, чтобы в темноте не провалиться в яму или не напороться на корягу.
Вдруг окрик:
– Эй, прохожий.
Остановился. Потом увидел в просвете над кустами казачьи фуражки и побежал что было силы и резвости. Забыл, что он не беглый каторжник Ванька, родства не помнящий, а вышедший на поселение мастеровой Еремей Кузькин.
Выстрел вдогонку. Другой… Третий… Словно лопатой плашмя хлестануло по заплечью… Упал и, как зверь в нору, пополз в густые заросли папоротника.
Рядом, едва не наступив на него, пробежали двое или трое.
– Яков, отзовись!
– Вылазь, Яшка, все одно найдем!
И, проваливаясь куда‑то в глубокую темноту, увидел снова: Еремей Кузькин, ощерясь, как загнанный в угол хорек, кричит, брызгая слюной: «Не дам пачпорта, варнак. Не дам!..»
Вот и все!.. Коротка же ты, жизнь!..
3
Солнце увело свои лучики от изголовья, и Иван опять смотрел на золотой хоровод пылинок, потихоньку, без натуги перебирая в памяти пережитое. Потом веки сами опустились, и он забылся в зыбком полусне, скорее полудремоте… Очнулся от негромкого шороха. Кто‑то ворошил хворост за дверью.
«Наверно, она?., а вдруг?..»
Большие Ивановы руки судорожно шарили по пихтовой подстилке. Ничего… ни ножа, ни палки, ни камня… А хоть бы и было что… Не боец он сейчас, а легкая добыча любому врагу… Хуже самой смерти такая вот подлая немощь!.. Как цыпленок перед коршуном.
Тихонько приоткрылась дверь. Она!..
Заглянула в землянку.
– Здравствуй, бородач!. Заждался, поди? – и тут же перебила сама себя: – Темно‑то как. Пойти свету пустить, – и скрылась за дверью.
Лучи с золотыми пылинками растаяли в посветлевшем воздухе. И дышать словно легче стало.
Вошла в землянку, тронула заботливой рукой потный лоб.
– Ну как, полегчало малость?
– Пить! – попросил Иван хриплым пересохшим голосом.
Она с недоумением оглянулась.
– Ох, и непутевая, куда я питье поставила!
Приподняла его голову, помогла напиться. Потом подкатила сутунок и села у изголовья.
– Есть хочешь?
Иван молча кивнул.
Она взяла узелок и развернула его на коленях. Вытащила из висевших на поясе ножен охотничий с костяной ручкой нож, ловко отсекла утиную ножку.
– Оставила бы мне нож? – попросил Иван.
– Сейчас тебе нож не защита, – возразила она. – На ноги встанешь, тогда подумаем, как тебя в дорогу снарядить.
Отломила от краюхи кусок хлеба, обтерла холстинкой огурец и протянула ему еду.
Иван попытался приподняться и скрипнул зубами от боли.
– Обожди!
Она выбежала и очень скоро вернулась с охапкой пихтового лапника. Осторожно приподняла его, обняв за плечи (Иван подивился: какая у девки сила!), подложила за спину охапку ветвей.
Пока Иван ел, не отрываясь смотрела на него.
И он ее разглядел. Раньше, как думал о девичьей красоте, всегда Анютка вставала перед глазами. А эта – рыжая, как лиса–огневка, – совсем на Анютку не похожа, а не уступит ей…
Так показалось Ивану, когда бросил первый взгляд на нее, а приглядевшись, подумал, что Анютка против этой большеглазой, что синичка против снегиря.
И обидно стало, что лежит он перед ней в грязных лохмотьях, немытый и нечесаный, а главное, беспомощный и жалкий.
– Что смотришь, хорош?..
– Уж больно зарос ты. Один нос да глаза, как из норы, глядят. А ведь не старый еще, поди!
Иван ничего не ответил, старательно обгладывал косточку. Доел, нить попросил.
Потом она сменила ему перевязку. Полотно пропиталось кровью, задубело, накрепко присохло к ране.
– Терпи, казак, – сказала и посмотрела прямо в глаза.
– Сама не пугайся, – ответил он, диковато усмехаясь.
И пока перевязывала она рану, не простонал, не охнул. Потом лежал не шевелясь, закрыв глаза.
А когда открыл их, она сказала:
– Теперь жить будешь. Пора и познакомиться. Настасьей меня зовут. А тебя как?
– Ива… – и вдруг, скрипнув зубами, словно выплюнул: – Еремей Кузькин.
– Непонятное у тебя имя, – спокойно, но строго сказала Настя.
– Какое есть, – усмехнулся он. – По паспорту…
Он схватился за полу своего кафтана, быстро ощупал ее и поднял на Настю бешеные глаза.
– Ты, девка, не балуй! Слышь, говорю!
Настя сухо усмехнулась. Склонилась над изголовьем, засунула руку под лапник, вытащила тряпицу, поржавевшую от засохшей крови.
– Держи! Еремей!..
– Не серчай. Разверни, да не порви.
Тряпица вместе с тем, что было в ней завернуто, пробита пулей, той же, что пробила грудь Ивану.
– По этой бумаге тебе любое имя сгодится, – сказала Настя и показала ему не бумагу, а ржавые лохмотья.
И опять увидел перед собою Иван Еремея Кузькина и услышал его истошное: «Не дам пачпорта, варнак! Не дам!»
– Вот гад ползучий!.. По его слову вышло…
– Кого это ты добром помянул?
– Еремея Кузькина… христопродавца.
– Тезку, стало быть?
Большие синие глаза ее смеялись, но Иван не испытывал ни обиды, ил злости.
– Ладно уж… Иваном звали меня… раньше… А теперь… теперь Ванька, родства не помнящий.
Мрачный огонь, который все время то тлел, то разгорался в глубоко запавших глазах его, потух. И голос стал мягче.
– Много ты зла на людей накопил, Иван, – сказала Настя задумчиво. – Тебе уж добро в диковину.
– Не много я добра от людей видел, – возразил он, но пе с сердцем, а скорее устало.
– А сам?
– Что сам?
– Добра‑то много людям показал?
Иван долго молчал. Ответил как будто через силу:
– Некому было.
И снова прорвалась, казалось, уже оставившая его злоба.
– Была же у тебя мать… жена… – сказала Настя после долгого молчания.
Иван угрюмо смотрел мимо ее лица.
– Бежишь сейчас от худой жизни, – снова заговорила Настя, —на хорошую надеешься. Добра хочешь найти…
– Добра! – Он резко приподнялся на локте, и Настя вздрогнула, будто сама почувствовала боль, которую должен был он испытать от крутого своего движения. – Добра! Не знаешь ты, Настасья, чего я ищу! Не знаешь, зачем иду! И не понять тебе того, не понять!
– Не горячи ты себя, Иван. Виновата я… Не ко времени этот разговор.
– Нет, колп зачала, слушай! – Он задыхался от нетерпения высказать все, что камнем лежало на груди. – Зла, говоришь, накопил много? А где оно, добро? Жену брюхатый купец отнял – это добро! Спину до костей плетьми рвали – добро! Каленым железом жгли – добро! – Его било, как в ознобе. – Нет, девка! Не за добром иду. Я, чтобы с каторги убечь, человека убил… не человека, гниду вот эту, – он взял в горсть рыжую порванную бумагу, бывший свой паспорт, смял ее и швырнул в сторону. – А добегу… добра от меня не увидят!
– И свою жизнь порешишь…
– На черта она мне такая!
Настя покачала головой.
– Нет, Ваня. Живой смерти не ищет.
Потому ли, что назвала его так ласково (сколь давно не слышал он ласкового слова) или просто понял, что перед ним человек, который его боль принял, как свою, но Иван сдержался.
Вместо грубого возражения усмехнулся добродушно;
– Умереть сегодня – страшно, а когда‑нибудь – ничего.
4
Возвращается Настя уже под вечер.
Каждый раз туда и обратно идет она иным путём, чтобы не натоптать тропки к зимовью, не показать дорогу чужим глазам.
Пригорок, в который врезана землянка, окружен мачтовым сосновым бором.
Сосны высокие, прямоствольные, почти до самой вершины без сучьев, и плотные свои кроны вознесли к самому небу. Кроны смыкаются одна с другой, образуя сплошной сводчатый кров, и в самый знойный день здесь внизу сумрачно и прохладно. На земле плотным ковром сухая серовато–бурая хвоя. Только меж узловатых, далеко от ствола разбежавшихся корневищ, прижимаясь к земле, стелется брусничник с темно–зелеными глянцевитыми жесткими листиками и белобокими, еще мелкими ягодами, да кое–где, пробившись сквозь сухую хвою, топорщатся редкие кустики костяники, пряча прозрачные красные ягоды под широкими зубчатыми листьями.
Вор оседлал пологий гребень невысокого горного кряжа и расселился по обоим склонам. Настя, стараясь ступать по корневищам и хворостинам, чтобы не оставить следа на рыхлой хвое, дошла по гребню до вершины распадка, сбегавшего в долину Долоновки.
В распадке звенел невидимый ручей. Он струился в расщелинах между серыми гранитными валунами, которые, громоздясь друг на друга, устлали круто убегающее вниз дно распадка почти по всей его длине.
– Черт, вишь, дорогу себе мостил, – сказал дед Евстигней, когда первый раз забрел сюда с Настёнкой, – да шибко бугриста удалась.
Попадались валуны, поросшие голубоватым мхом. Па них Настя ступала бережно, чтобы не сорвать пушистый покров, а то и обходила такую глыбу сбоку, продираясь через заросли черной смородины, заполнившей весь распадок. Под листьями вздрагивали грозди крупных, еще зеленых ягод.
«Покуда не соспеет, никто сюда не придет, – подумала Настя, – а к той поре он уже будет далеко».
Надо бы радоваться, что забота (да еще какая забота!.. и забота и тревога!) с плеч долой…
А вот не было этой радости…
Настя спустилась по камням почти до конца распадка. У приметной по затейливому изогнутому суку сосны свернула налево и, пройдя мелким густым осинником, вышла на свою охотничью тропку.
Теперь ноги сами вели по знакомой тропе. И хорошо, а то Настя так задумалась, что дорогу примечать некогда…
Было в этом страшном человеке (как он сказал про Еремея Кузькина: «убил, как гниду!») что‑то такое, что отличало его от каторжников–убийц.
Немало их видела Настя на веку своем…
Он не злой, он только озлобленный. Доведись хоть до кого такая жизнь… А он сильный… Вон как ломала жизнь, а на колени не поставила. Потому и говорит, добра не жду и не ищу, что обмануть себя боится. Станешь добра искать, а его нет… Сперва волком смотрел, потом оттаял малость… И хоть мало добра видал, а добро понимает и помнит… Как это он сказал: «Ты не бойся, Настасья. Ежели, неровен час, найдут здесь меня, я тебя в глаза не видал и ты меня тоже». Чудной!.. Разве за себя я берегусь?.. Ему‑то опять плети и каторга. Небось не поглядят, что токо–токо от смерти уполз…
Нет, никто не найдет… Вылечу, выхожу, на ноги поставлю… А там… путь–дорогу сам найдет…






