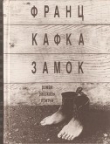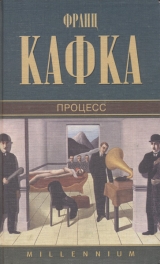
Текст книги "Собрание сочинений.Том 3."
Автор книги: Франц Кафка
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Еще во время своей речи он, приподнявшись на цыпочки, уже махал рукой какому-то автомобилю и теперь, выкрикивая водителю адрес, в то же время втаскивал К. за собой в машину.
– Мы едем сейчас к адвокату Пьета, – сказал дядя, – мы с ним однокашники. Ты, конечно, тоже слыхал это имя? Нет? Это очень странно. Он же широко известен как адвокат и защитник бедных. Но у меня к нему, в особенности как к человеку, большое доверие.
– Я согласен со всем, что ты предпримешь, – сказал К., хотя поспешность и порывистость, с которыми дядя взялся за это дело, вызывали у него неприятное чувство.
Ехать в качестве обвиняемого к адвокату для бедных – это была не такая уж большая радость.
– Не знаю, – сказал он, – можно ли вообще к такому делу привлекать адвоката.
– Естественно, можно, – сказал дядя, – это же само собой разумеется. Почему же нет? А теперь расскажи мне, чтобы у меня были точные сведения обо всем, что случилось до сих пор.
К. сразу же начал рассказывать, ничего не скрывая; его полная откровенность была тем единственным протестом, который К. мог себе позволить, против мнения дяди об этом процессе как о каком-то огромном позоре. Имя фрейлейн Бюрстнер он упомянул лишь однажды, и то вскользь, но это не вредило откровенности, поскольку фрейлейн Бюрстнер никакого отношения к процессу не имела. Глядя по ходу рассказа в окно, он заметил, что они приближаются как раз к тому предместью, где находились канцелярии суда; он обратил на это внимание дяди, который, однако, не слишком удивился такому совпадению. Машина остановилась перед каким-то мрачным домом. Дядя сразу позвонил в первую же дверь на первом этаже; пока они ждали, он оскалил в ухмылке свои крупные зубы и прошептал:
– Восемь часов, необычное время для визитов. Но на меня Пьета не обидится.
В смотровом окошечке двери появились два больших черных глаза; некоторое время они смотрели на гостей, затем исчезли, но дверь так и не открылась. Дядя и К. обоюдно подтвердили друг другу тот факт, что они видели эти глаза.
– Новая служанка, боится чужих, – сказал дядя и постучал еще раз.
Вновь появились те же глаза, теперь они могли показаться почти печальными, но, возможно, это был просто обман зрения, вызванный огнем газового светильника, который с сильным шипением горел прямо над их головами, но света давал мало.
– Откройте! – крикнул дядя и стукнул кулаком в дверь, – это друзья господина адвоката!
– Господин адвокат болен, – прошептал голос у них за спиной.
В дверях на другой стороне узкого проезда стоял какой-то господин в шлафроке, который и сделал чрезвычайно тихим голосом это сообщение. Дядя, уже разъяренный долгим ожиданием, рывком обернулся и закричал:
– Болен? Вы говорите, он болен? – и почти угрожающе, словно этот господин и был болезнью, двинулся на него.
– Уже открыли, – сказал господин, указал на дверь адвоката, запахнулся в свой шлафрок и исчез.
Дверь действительно была открыта, молодая девушка в длинном белом переднике – К. узнал эти темные, немного навыкате глаза – стояла в передней со свечой в руке.
– В следующий раз открывайте поживее! – сказал дядя вместо приветствия, в то время как девушка делала маленький книксен. – Идем, Йозеф, – сказал он затем К., который медленно проходил мимо девушки.
– Господин адвокат болен, – сказала девушка, поскольку дядя, не задерживаясь, устремился к следующей двери.
К. все еще смотрел, раскрыв глаза, на девушку, которая в это время уже повернулась спиной, запирая входную дверь; у нее было кукольно-круглое лицо, округлыми были не только бледные щеки и подбородок, но и виски, и очертания лба.
– Йозеф! – снова крикнул дядя, а девушку спросил: – Что-то с сердцем?
– По-моему, да, – сказала девушка, успевшая пройти со свечой вперед и открыть дверь в комнату.
В дальнем углу комнаты, которого еще не достиг свет свечи, над кроватью поднялось лицо с длинной бородой.
– Лени, кто это пришел? – спросил адвокат; ослепленный светом, он не узнавал гостей.
– Это Альберт, твой старый друг, – сказал дядя.
– Ах, Альберт, – сказал адвокат и расслабленно упал на подушки так, словно при этом посещении ему ничего не нужно было изображать.
– Что, действительно так плохо? – спросил дядя и уселся на край кровати. – А я в это не верю. Это просто один из твоих сердечных приступов, пройдет, как и прошлые.
– Может быть, – тихо сказал адвокат, – но такого тяжелого, как этот, еще не было. Дышать трудно, не сплю совсем, и с каждым днем силы уходят.
– Н-да, – сказал дядя и своей большой рукой крепко придавил на колене панаму. – Это плохие новости. За тобой, кстати, уход-то – как надо? И как-то печально здесь, темно как-то. Много уж времени прошло с тех пор, как я последний раз тут был, тогда мне казалось, тут поприветливее было. Да и эта твоя маленькая фрейлейн, кажется, не очень-то веселая – или притворяется?
Девушка все еще стояла со свечой у двери; насколько можно было судить по ее неопределенному взгляду, смотрела она – даже и теперь, когда дядя говорил о ней, – скорее на К., чем на дядю. К. стоял, прислонясь к креслу, которое передвинул ближе к девушке.
– Когда так болеешь, как я, – сказал адвокат, – нуждаешься в покое. Для меня здесь ничего печального нет, – и после небольшой паузы добавил: – И Лени хорошо за мной ухаживает, она молодец. [11]11
Вычеркнуто автором:
И на эту похвалу девушка никак не отреагировала, более того, на нее, кажется, не произвело сколько-нибудь существенного впечатления даже то, что дядя в ответ сказал:
– Может быть. Тем не менее я, если получится, сегодня же пришлю тебе сестру милосердия. Если она тебе не подойдет, ты сможешь ее отослать, но сделай мне одолжение, попробуй ее взять. А то в этом окружении и покое, в котором ты тут живешь, можно вообще все запустить.
– Тут не всегда так спокойно, как теперь, – сказал адвокат. – Твою сестру милосердия я возьму, только если мне это будет необходимо.
– Тебе это необходимо, – сказал дядя.
[Закрыть]
Но дядю это убедить не могло, он был явно предубежден против сиделки; если он и не возражал больному, то взгляд его, когда он смотрел, как эта сиделка идет к кровати, ставит свечу на ночной столик, наклоняется над больным и, поправляя ему подушки, шепчется с ним, был суров. Он почти забыл про уважение к больному, встал и начал ходить взад-вперед за спиной сиделки; К. не удивился бы, если бы дядя схватил ее сзади за юбки и оттащил от кровати. Сам К. смотрел на все это спокойно, болезнь адвоката была ему даже не совсем неприятна: ведь ретивости, которую дядя проявлял в его деле, он противостоять не мог, и то, что теперь, без его участия, эта ретивость чем-то умерялась, он воспринимал с удовлетворением. Тут дядя, возможно, лишь для того, чтобы уязвить сиделку, сказал:
– Вы, фрейлейн, пожалуйста, оставьте нас на некоторое время, мне с моим другом надо обсудить одно личное дело.
Сиделка, которая как раз в этот момент, перегнувшись через больного, расправляла простыню у стены, только повернула голову и очень спокойно – контраст с прерывавшейся от ярости и затем вновь клокотавшей речью дяди был разителен – сказала:
– Вы же видите, господин так болен, что не может обсуждать никаких дел.
Она, по-видимому, повторила слова дяди просто ради удобства, тем не менее даже непричастный мог воспринять это как насмешку, дядя же, разумеется, взвился как ужаленный.
– Ах ты, проклятая… – пробурлил он в первом порыве возбуждения еще сравнительно неразборчиво; К., хотя и ожидал чего-то в этом роде, испугался и бросился к дяде с решительным намерением обеими руками закрыть ему рот.
Но, к счастью, за девушкой поднялся больной; дядя стал мрачен, словно проглотил что-то скверное, и потом сказал уже спокойнее:
– Мы, естественно, тоже еще в своем уме; если бы то, чего я требую, было невыполнимо, я бы этого не требовал. А теперь идите, пожалуйста!
Сиделка, выпрямившись и уже полностью повернувшись к дяде, стояла около кровати; К. показалось, что он заметил, как она поглаживает рукой руку адвоката.
– Ты можешь все говорить при Лени, – сказал больной безапелляционным тоном настоятельной просьбы.
– Это не меня касается, – сказал дядя, – это не моя тайна.
И он отвернулся, как бы показывая, что ни в какие переговоры больше вступать не намерен, но дает еще небольшое время на размышление.
– Кого же это касается? – спросил адвокат еле слышно и снова лег.
– Моего племянника, – сказал дядя, – вот, я привел его с собой, – и он представил К.: – Прокурист Йозеф К.
– О, – сказал больной значительно живее и вытянул в направлении К. руку, – простите, я вас не заметил. Иди, Лени, – сказал он затем сиделке, которая, впрочем, нисколько уже не сопротивлялась, и подал ей руку, словно они расставались надолго.
– Так ты, значит, – обратился он наконец к дяде, который, в свою очередь смягчившись, подошел ближе, – не больного навестить пришел, а по делу.
Он уже выглядел так бодро, что казалось, будто именно мысль, что его навестили по случаю болезни лишала его сил; он теперь полулежал, опираясь на локоть, что, несомненно, было довольно утомительно, и беспрерывно теребил прядь волос в гуще своей бороды.
– Вот стоило только этой ведьме вылететь отсюда, – сказал дядя, – и ты сразу стал куда здоровее выглядеть, – он прервал себя, прошептал: – Бьюсь об заклад, она подслушивает! – и кинулся к двери.
За дверью, однако, никого не оказалось, и дядя вернулся назад – не разубежденный, поскольку подозревал каверзу еще более злостную, – но несколько разочарованный.
– Ты недооцениваешь ее, – сказал адвокат, не стараясь больше защищать сиделку; может быть, он хотел этим подчеркнуть, что она не нуждается в защите.
Затем он продолжил значительно более заинтересованным тоном:
– Что же касается дела господина племянника, то мои перспективы я бы оценил как благоприятные, в том, конечно, случае, если моих сил хватит на эту чрезвычайно трудную задачу; я очень боюсь, что их не хватит, но, как бы то ни было, я испробую все средства, если же меня на это не хватит, то ведь можно будет привлечь и еще кого-нибудь. Откровенно говоря, это дело слишком сильно меня интересует, чтобы я мог заставить себя отказаться от всякого участия в нем. И если мое сердце этого не выдержит, то, по крайней мере, здесь для него найдется достойный повод полностью отказать.
К. из всей этой речи не понял, кажется, ни слова; он смотрел на дядю, ища у него объяснения, но тот сидел со свечой в руке на ночном столике, с которого уже скатилась на ковер склянка какого-то лекарства, кивал на все, что говорил адвокат, был со всем согласен и время от времени бросал взгляд на К., приглашая и его к такому же одобрению. Может быть, дядя уже раньше рассказал адвокату об этом процессе? Но это было невозможно, это противоречило всему предшествующему. Поэтому К. сказал:
– Я не понимаю…
– Так и я, может быть, неправильно вас понял? – спросил адвокат так же удивленно и растерянно, как и К. – Я, может быть, поторопился. Но о чем же вы хотели со мной говорить? Я думал, речь идет о вашем процессе?
– Естественно, – сказал дядя и потом спросил К.: – Ты чего-то хотел?
– Нет, но откуда же вы вообще знаете обо мне и о моем процессе?
– Ах, вот оно что, – сказал адвокат, усмехаясь. – Так ведь я же адвокат, я имею связи в судебных кругах, где говорят о разных процессах, и наиболее громкие, в особенности когда дело касается племянника твоего друга, задерживаются в памяти. Так что тут нет ничего особенного.
– Ты чего-то хотел? – снова спросил дядя у К. – Ты какой-то беспокойный.
– Вы имеете связи в этих кругах? – спросил К.
– Да, – сказал адвокат.
– Ты спрашиваешь, как ребенок, – сказал дядя.
– Где же мне еще иметь связи, как не среди людей одинаковых со мной интересов? – прибавил адвокат.
Это прозвучало настолько убедительно, что К. даже ничего не ответил. «Но вы же работаете в том суде, который во Дворце правосудия, а не в том, который на чердаке», – хотел он сказать, но не смог заставить себя произнести это вслух.
– Вы же должны отдавать себе отчет, – продолжал адвокат таким тоном, словно мимоходом объяснял что-то само собой разумеющееся, и это объяснение было излишним, – вы же должны отдавать себе отчет в том, что из такого рода связей я в то же время извлекаю и большие преимущества для моих клиентов, причем в отношениях весьма различного характера, но об этом не всегда можно говорить. По естественным причинам, вследствие болезни, мои возможности сейчас несколько ограниченны, но тем не менее я принимаю визиты моих добрых друзей из суда и кое-что от них получаю. И получаю, может быть, больше, чем многие из тех, кто в полном здравии целые дни проводят в суде. Чтобы недалеко ходить, как раз сейчас у меня здесь один приятный визитер.
И он указал в темный угол комнаты.
– Где это? – в полном изумлении почти грубо спросил К.
Он неуверенно огляделся по сторонам; свет маленькой свечи далеко не достигал до противоположной стены, но, действительно, там, в углу, что-то такое зашевелилось. Дядя поднял свечу повыше, и теперь в ее свете стало видно, что там за маленьким столиком сидит какой-то пожилой господин. Он должен был до этого вообще не дышать, чтобы так долго оставаться незамеченным. Теперь он медленно поднимался, очевидно, недовольный тем, что на него обратили внимание. Казалось, словно он хотел руками, которыми он взмахивал, как короткими крыльями, отклонить всякие представления и приветствия, словно он ни в коем случае не хотел своим присутствием помешать остальным и настоятельно просил погрузить его снова в темноту и забыть о его присутствии. Но такого удовлетворения ему уже не могли предоставить.
– Вы ведь нас захватили врасплох, – сказал адвокат в объяснение, при этом он подбадривающими кивками приглашал господина подойти поближе, что тот и сделал, медленными шагами, неуверенно оглядываясь, но все же и с известным достоинством, – вот, господин директор канцелярий – ах, да, прошу прощения, я же не представил вас: это мой друг Альберт К., это его племянник прокурист Йозеф К., а это господин директор канцелярий; так вот, господин директор канцелярий был столь любезен, что посетил меня. Оценить подобное посещение по достоинству может, вообще говоря, только посвященный, знающий, как господин директор канцелярий перегружен работой. Но несмотря на это он пришел, и мы мирно развлекали друг друга, насколько позволяла моя слабость, причем мы даже не запретили Лени принимать посетителей, поскольку их не предполагалось, но обоюдно рассчитывали, что останемся наедине, однако затем раздались эти твои удары кулаком, Альберт, и господин директор канцелярий отодвинулся с креслом и столом в угол, а теперь вот оказывается, что у нас – разумеется, предположительно, при наличии соответствующего желания – появляется общий предмет и очень хорошая возможность нового сближения. Господин директор канцелярий, – наклонив голову и заискивающе улыбаясь, он указал на кресло недалеко от кровати.
– Я, к сожалению, могу задержаться еще только на несколько минут, – любезно сказал директор канцелярий, с удобством расположился в кресле и посмотрел на часы, – дела зовут. Но в любом случае я не могу упустить возможность сближения с другом моего друга.
Он слегка наклонил голову в сторону дяди, который, казалось, был весьма польщен таким новым знакомством, но, в силу своей натуры, не мог выразить признательность и слова директора канцелярий встретил смущенным, но громким смехом. Гнусное зрелище! К. мог спокойно за всем этим наблюдать, так как на него никто не обращал внимания; директор канцелярий, очевидно, следуя привычке, взял, поскольку его все равно уже вытащили на свет, нить разговора в свои руки; адвокат, чья изначальная слабость, по-видимому, была вызвана лишь желанием удалить новых визитеров, внимательно слушал, держа руку около уха; дядя в роли подсвечника – он балансировал свечой на своем бедре, на что адвокат временами поглядывал с озабоченностью, – вскоре избавился от чувства неловкости и не выражал уже ничего, кроме полного восторга как манерой речи директора канцелярий, так и теми мягкими волнообразными движениями, которыми он ее сопровождал. К., прислонившегося к спинке кровати, директор канцелярий полностью игнорировал, возможно, даже намеренно, он служил этому пожилому господину только в качестве слушателя. Впрочем, К. почти не понимал, о чем шла речь; он то думал о сиделке и о том, как плохо дядя с ней обошелся, то вспоминал, где он мог уже видеть этого директора канцелярий, – не на том ли собрании во время первого допроса? Но если даже он, может быть, и ошибался, то все равно этот директор канцелярий был как нельзя более похож на тех, из первых рядов, господ с редкими бородами.
Шум в передней, словно от разбившегося фарфора, заставил всех насторожиться.
– Я посмотрю, что там случилось, – сказал К. и медленно пошел из комнаты, как бы оставляя другим возможность его удержать. Едва только он вышел в переднюю и попытался сориентироваться в темноте, как на его руку, еще придерживавшую дверь, легла какая-то маленькая рука, много меньше, чем его, и тихонько прикрыла дверь. Это была сиделка, которая ждала в передней.
– Ничего не случилось, – прошептала она, – просто я тарелку об стену разбила, чтобы вас вытащить.
В замешательстве К. сказал:
– Я тоже о вас думал.
– Тем лучше, – сказала сиделка, – идемте.
Через несколько шагов они подошли к какой-то двери с матовым стеклом, которую сиделка открыла перед К.
– Входите же, – сказала она.
Это, несомненно, был рабочий кабинет адвоката; насколько можно было различить в лунном свете, освещавшем сейчас лишь маленькие четырехугольники пола возле каждого из трех больших окон, кабинет был обставлен тяжелой старинной мебелью.
– Сюда, – сказала сиделка и указала на какой-то темный сундук-скамью с резной деревянной спинкой.
Усевшись, К. осмотрелся; это была большая комната с высоким потолком, доверители адвоката для бедных должны были чувствовать себя здесь потерянными. [12]12
Вычеркнуто автором:
Письменный стол, почти перегораживавший комнату от стены до стены, стоял недалеко от окон, он был расположен так, что адвокат сидел спиной к двери, и посетитель, поистине как незваный гость, должен был промерить шагами всю ширину комнаты, чтобы предстать перед лицом адвоката, если тот был не настолько любезен, чтобы обернуться к посетителю.
[Закрыть]К., казалось, видел те мелкие шажки, которыми посетители приближались к этому величественному письменному столу. Но затем он забыл об этом и уже видел только сиделку, которая села совсем близко к нему и почти прижала его к боковой спинке.
– Я думала, – сказала она, – вы сами ко мне выйдете, а не только после того, как мне пришлось вас вызывать. Это все-таки странно. Сначала вы смотрите на меня, не отрываясь, прямо с порога, а потом заставляете меня ждать. И называйте меня просто Лени, – прибавила она неожиданно и так поспешно, словно боялась упустить хоть одно мгновение этой фразы.
– С удовольствием, – сказал К. – А что касается этой странности, то она просто объясняется. Во-первых, я же должен был слушать болтовню этих старых джентльменов и не мог сбежать без причины, а во-вторых, я не дерзкий, я скорее робкий, да и вы, Лени, совсем не выглядели так, будто вас можно взять наскоком.
– Это не так, – сказала Лени, положила руку на спинку и посмотрела на К., – просто я вам не понравилась и, по-видимому, не нравлюсь и сейчас тоже.
– Ну, понравиться – это еще не все, – сказал К. уклончиво.
– О-о! – сказала она, смеясь; это замечание К. и ее маленькое восклицание обеспечивали ей определенное превосходство.
Из-за этого К. некоторое время молчал. Поскольку он уже привык к темноте в комнате, он мог теперь различить отдельные детали обстановки. Особенно привлек его внимание большой портрет, висевший справа от двери; он наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть его. Портрет представлял мужчину в судейской мантии, мужчина сидел на высоком троне, многие части которого выделялись своей позолотой. Необычным было то, что в позе судьи не было спокойного достоинства; левой рукой он крепко упирался в подлокотник и спинку, а пальцами ничем не занятой правой обхватил другой подлокотник, словно собирался в следующее же мгновение со страстным и, может быть, гневным поворотом вскочить, чтобы сказать что-то решающее или даже объявить приговор. Обвиняемого следовало, очевидно, предполагать на ступенях у подножия – самые верхние из них, покрытые желтым ковром, еще можно было рассмотреть на картине.
– Возможно, это мой судья, – сказал К. и указал пальцем на портрет.
– Я его знаю, – сказала Лени и тоже посмотрела на портрет, – он часто сюда приходит. Это портрет еще времен его молодости, но он даже и похожим на него никогда не мог быть, потому что он маленький, почти как клоп. И несмотря на это заставил вот так вытянуть себя в длину на портрете, потому что он безумно тщеславен, как все здесь. Но и я тоже тщеславна и очень недовольна, что совсем вам не нравлюсь.
На последнее замечание К. ответил лишь тем, что обнял Лени и прижал к себе – она тихо склонила голову на его плечо, – но по поводу остального он спросил:
– И в каком он там чине?
– Он там следователь, – сказала она, теребя руку, которой он ее обнимал, и играя его пальцами.
– Опять всего лишь следователь, – разочарованно сказал К., – а высшие чины прячутся. Но ведь он же сидит на троне.
– А это все выдумки, – сказала Лени, прижимаясь лицом к руке К., – на самом деле он сидит на кухонном кресле, накрытом старой попоной. А вы что же, все время должны о вашем процессе думать? – медленно прибавила она.
– Нет, совсем нет, – сказал К., – я, может быть, даже слишком мало о нем думаю.
– Ваша ошибка не в этом, – сказала Лени, – а в том, что вы слишком упрямы, так я слышала.
– Кто это сказал? – спросил К., он чувствовал ее тело на своей груди и смотрел вниз на густые темные волосы, стянутые в тугой узел.
– Я слишком много выдам, если я вам это скажу, – ответила Лени. – Не спрашивайте, пожалуйста, об именах, а лучше исправьте вашу ошибку, не будьте так упрямы, против этого суда ведь нет защиты, надо сделать признание. Вот вы и сделайте это признание при первом же удобном случае. Только тогда и появится возможность ускользнуть от них, только тогда. Правда, даже и это невозможно сделать без посторонней помощи, но насчет этой помощи вы не бойтесь, я сама вам ее окажу.
– Вы много знаете об этом суде и о тех уловках, которые здесь нужны, – сказал К. и, поскольку она уж совсем на него навалилась, посадил ее к себе на колени.
– Это уже лучше, – сказала она и, устраиваясь у него на коленях, разгладила юбку и оправила блузку.
Потом она обняла его обеими руками за шею, отклонилась назад и посмотрела на него долгим взглядом.
– А если я не сделаю это признание, вы не сможете мне помочь? – спросил К. в порядке эксперимента.
Я занимаюсь вербовкой помощниц, думал он почти с удивлением, сначала фрейлейн Бюрстнер, потом жена служителя суда и теперь, наконец, эта маленькая сиделка, которой я по непонятной причине, кажется, очень нужен. Как она сидит у меня на коленях, словно это место для нее и создано!
– Нет, – ответила Лени и медленно покачала головой, – тогда я не смогу вам помочь. Но вы же не хотите моей помощи, она вам не нужна, вы своевольны, вы не позволите себя уговорить, – и после небольшой паузы спросила: – У вас есть возлюбленная?
– Нет, – сказал К.
– Да есть, – сказала она.
– Да, действительно, – сказал К., – подумать только, я от нее отказываюсь, а между тем у меня даже фотография ее с собой.
В ответ на ее просьбу он показал ей фотографию Эльзы; съежившись у него на коленях, она рассматривала карточку. Это был моментальный снимок. Эльза была снята в момент окончания головокружительного танца, который она с удовольствием исполняла в кабачке, ее юбка еще летела вокруг нее, взвихренная пируэтом, руки она упирала в крепкие бедрa, шея была изогнута, она смотрела в сторону и смеялась; того, кому был адресован ее смех, на фотографии не было.
– Она сильно затянута, – сказала Лени и показала на фотографии место, где это, по ее мнению, было заметно. – Она мне не нравится, она неуклюжа и груба. Впрочем, возможно, с вами она нежна и ласкова, судя по фотографии, похоже на то. Такие большие, сильные девушки часто только и могут, что быть нежными и ласковыми. Но смогла бы она пожертвовать собой ради вас?
– Нет, – сказал К., – она не нежна и не ласкова и пожертвовать собой ради меня не смогла бы. Но я пока ни того, ни другого от нее не требовал. Я даже и эту фотографию не рассматривал так внимательно, как вы.
– Тогда она для вас вовсе не так много значит, – сказала Лени, – тогда она вам вовсе не возлюбленная.
– Нет, – сказал К., – я свое слово назад не беру.
– Но тогда, если даже она сейчас и ваша возлюбленная, – сказала Лени, – вы бы не стали очень уж жалеть, если бы ее потеряли или поменяли на какую-нибудь другую, к примеру, на меня.
– Конечно, – сказал К., усмехаясь, – это возможно, но у нее есть перед вами одно большое преимущество: она ничего не знает о моем процессе, и даже если бы она что-то о нем узнала, она бы не стала об этом думать. Она бы не пыталась уговорить меня не упрямиться.
– Это вовсе не преимущество, – сказала Лени. – И если у нее нет других преимуществ, то я не теряю надежды. У нее есть какой-нибудь физический недостаток?
– Физический недостаток? – переспросил К.
– Да, – сказала Лени, – потому что у меня есть один такой маленький недостаток, смотрите, – она раздвинула средний и безымянный пальцы своей правой руки, между ними была почти достигавшая крайних суставов коротких пальцев тоненькая перепонка.
К. в темноте не сразу понял, что она хочет ему показать, поэтому она сама поднесла его руку, чтобы он мог пощупать.
– Какая игра природы, – сказал К. и, осмотрев всю руку, прибавил: – Какая прелестная лапка!
С некоторой гордостью Лени смотрела, как К. с удивлением снова и снова раздвигал и сдвигал ее два пальца, в конце концов он быстро поцеловал их и отпустил.
– О! – тут же воскликнула она, – вы меня поцеловали!
Торопливо, с полураскрытым ртом, она вскарабкалась на него, встав коленками на его колени. К. почти ошеломленно смотрел на нее снизу вверх; теперь, когда она была так близко к нему, от нее исходил какой-то горький, возбуждающий, словно бы перечный, запах, она схватила его голову, наклонилась к нему и впилась зубами в его шею, целуя и кусая, она кусала даже его волосы.
– Вы поменялись на меня! – вскрикивала она время от времени, – видите, вы теперь поменялись на меня!
Вдруг одно ее колено соскользнуло; коротко вскрикнув, она почти упала на ковер, К. обхватил ее, пытаясь удержать, и его увлекло за ней вниз.
– Теперь ты принадлежишь мне, – сказала она.
– Вот тебе ключ от дома, приходи, когда захочешь, – были ее последние слова, и упустивший цель поцелуй попал ему, уже уходящему, в спину.
Когда он вышел из дверей дома, накрапывал мелкий дождик; он хотел отойти на середину улицы, чтобы, может быть, еще раз увидеть в окне Лени, но тут из какого-то автомобиля, которого К. в рассеянности даже не заметил, выскочил дядя, схватил его за руки и прижал к воротам дома, словно собирался тут его и распять.
– Мальчишка! – кричал он, – как ты мог это сделать! Так ужасно испортить все дело, когда оно уже было на ходу! Скрыться с этой маленькой грязной чертовкой, которая, кроме всего, явно любовница адвоката, и исчезнуть на целый час! Ты же даже никакого предлога не искал, не скрывал ничего, нет, совершенно открыто побежал к ней и с ней остался. А мы в это время сидим там всей компанией, дядя твой, который ради тебя старается, адвокат, который должен стать твоим, и, главное, директор канцелярий, большой человек, который на этом этапе попросту определяет, как пойдет твое дело. Мы хотим посоветоваться, как можно тебе помочь, я должен осторожно обхаживать адвоката, он, в свою очередь, директора канцелярий – так уж, кажется, у тебя все основания по крайней мере помогать мне. А ты вместо этого неизвестно где. В конце концов это уже становится невозможно не замечать; ну, они люди вежливые, находчивые, они об этом не говорят, они щадят меня, но вот уже и они не в силах ничего из себя выдавить и, поскольку говорить о деле не могут, умолкают. И мы сидим там молча минуту за минутой и прислушиваемся, не идешь ли ты уже наконец. Но напрасно. Наконец директор канцелярий, который и так уже просидел намного дольше, чем собирался вначале, встает, прощается, явно сожалея, смотрит на меня, не в силах ничего сделать, с непостижимой благосклонностью ждет еще некоторое время у двери, но потом уходит. Я, естественно, счастлив, что он ушел, и еле могу перевести дыхание, но каково пришлось больному адвокату, этот добрый малый даже говорить со мной не мог, когда я с ним прощался. Его полное бессилие тоже, может быть, отчасти твоя работа, ты ускоряешь этим смерть человека, а кем ты его заменишь? И меня, твоего дядю, ты заставляешь здесь, под дождем – ты пощупай только, как у меня все отсырело, – ждать часами, так что я от этих забот уже место не нахожу!