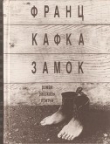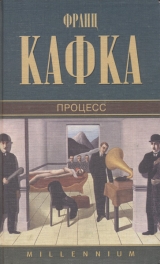
Текст книги "Собрание сочинений.Том 3."
Автор книги: Франц Кафка
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Поворот ключа в замке напомнил К. о том, что он не собирался тут задерживаться. Поэтому он вытащил из кармана письмо фабриканта, вручил его художнику и сказал:
– Я узнал о вас от этого господина, вашего знакомого, и пришел к вам по его совету.
Художник небрежно пробежал глазами письмо и бросил его на кровать. Если бы фабрикант не так уверенно говорил о Титорелли как о своем знакомом и как о бедном человеке, который не может обойтись без его подачек, то поистине можно было бы сейчас подумать, что Титорелли вообще не знает этого фабриканта или, во всяком случае, не припоминает такого. К тому же художник еще и спросил:
– Желаете купить картины или чтобы написали вас самих?
К. изумленно уставился на художника. Что там, собственно, было написано, в этом письме? К. считал само собой разумеющимся, что фабрикант в своем письме сообщал художнику о том, что К. желает навести справки о своем процессе – и только. Все-таки он слишком поспешно и необдуманно сюда прибежал! Но он должен был теперь что-то ответить этому художнику, и он сказал, взглянув на мольберт:
– Вы сейчас работаете над новой картиной?
– Да, – сказал художник, и рубашка, висевшая на мольберте, полетела на кровать вслед за письмом. – Это портрет. Хорошая работа, но еще не совсем закончена.
Случай благоприятствовал К.: он получал формальный повод завести речь о суде, поскольку перед ним был явно портрет какого-то судьи. Он, кстати, поразительно напоминал портрет в рабочем кабинете адвоката. Правда, здесь был изображен другой судья – толстый мужчина с широкой черной взъерошенной бородой, с боков высоко взбегавшей на щеки, к тому же тот портрет был написан маслом, а этот слабо и нечетко набросан пастельными красками. Но все остальное было похоже, потому что и здесь судья как раз собирался угрожающе подняться со своего трона, уцепившись за подлокотники. «Так это же судья», – хотел сразу сказать К., но пока что удержался и приблизился к картине, словно намерен был детально ее изучить. Посередине спинки трона стояла какая-то большая фигура, которой К. не находил объяснений, и он спросил о ней художника.
– Ее еще надо немного доработать, – ответил художник, взял со столика пастельный карандаш и слегка обвел им контуры фигуры, отчего она, однако, не стала для К. яснее.
– Это Правосудие, – сказал наконец художник.
– Да, теперь я узнаю ее, – сказал К., – вот повязка на глазах, а вот весы. Но вот это что же, у нее на пятках крылья, и она бежит?
– Да, – сказал художник, – заказано было так написать; это, собственно говоря, совмещенная богиня: Правосудие и Победа в одной фигуре.
– Не лучшее сочетание, – сказал К., усмехаясь, – Правосудию нужно спокойствие, иначе весы покачнутся и справедливый приговор станет невозможен.
– Тут я подчиняюсь моему заказчику, – сказал художник.
– Да, конечно, – сказал К., не желавший своим замечанием кого-то задеть. – Вы изобразили эту фигуру так, как она на самом деле стояла на этом троне?
– Нет, – сказал художник, – я в глаза не видел ни этой фигуры, ни этого трона, это все выдумки, но мне заказали так написать.
– Да? – спросил К., он намеренно делал вид, что не вполне понимает художника. – Значит, это судья в судейском кресле?
– Да, – сказал художник, – но он не высокого ранга судья и никогда на таком троне не сидел.
– И все-таки захотел, чтобы его изобразили в таком торжественном виде? Он же сидит тут, словно какой-нибудь верховный судья.
– Да, эти господа тщеславны, – сказал художник. – Но им дано разрешение свыше на то, чтобы их так изображали. Каждому точно предписано, как ему дозволяется выглядеть на портрете. Только, к сожалению, как раз по этому портрету о деталях облачения и сиденья нельзя судить: пастель для таких изображений не годится.
– Да, – сказал К., – это странно, что он написан пастелью.
– Судья так захотел, – сказал художник, – это для одной дамы.
Вид картины, казалось, пробудил в нем желание работать, он закатал рукава рубашки, взял в руку несколько карандашей – и на глазах у К. под дрожащими кончиками карандашей вокруг головы судьи возникли красноватые тени, расходившиеся лучами и исчезавшие у края картины. Постепенно игра этих теней охватила голову судьи, как какое-то украшение или знак какого-то высокого отличия. Но вокруг фигуры Правосудия все оставалось светлым, если не считать легкой, незаметной тонировки; на этом светлом фоне фигура особенно выделялась, она уже почти не напоминала богиню правосудия – и богиню победы тоже, она теперь, скорее, выглядела совершенно как богиня охоты. Эта работа художника увлекла К. больше, чем он того хотел, но наконец он все-таки упрекнул себя за то, что уже так долго здесь находится и еще ничего, в сущности, не предпринял по своему собственному делу.
– А как зовут этого судью? – неожиданно спросил он.
– Этого я вам не могу сказать, – ответил художник; он низко склонился к портрету, явно пренебрегая своим гостем, которого сам же вначале так почтительно приветствовал.
К. счел это за каприз и разозлился, что зря терял дорогое время.
– Вы, очевидно, доверенное лицо этого суда? – спросил он.
Художник тут же отложил в сторону карандаши, выпрямился, потер ладони одну о другую и с усмешкой посмотрел на К.
– Ну что, давайте начистоту, – сказал он. – Вы хотите узнать что-то о суде, как это и написано в вашем рекомендательном письме, но для начала заговорили о моих картинах, чтобы расположить меня к себе. Я не в претензии, вы же не могли знать, что со мной это ни к чему. О, пожалуйста! – воскликнул он, резко отметая попытку К. что-то возразить, и затем продолжил: – А вообще, это ваше замечание совершенно справедливо: я доверенное лицо суда.
Он сделал паузу, словно хотел дать К. время освоиться с этим фактом. Теперь снова стала слышна возня девчонок за дверью. Они, по всей видимости, толпились у замочной скважины, хотя заглядывать в комнату, вероятно, можно было и через щели. К. оставил всякие попытки извинений, поскольку не хотел отвлекать художника, но не стоило и позволять художнику слишком уж заноситься, чтобы тот не стал по-своему недоступным, поэтому он сказал:
– Это ваше положение официально признано?
– Нет, – коротко ответил художник и замолчал, словно от сказанного лишился дара речи.
Но К. не собирался затыкать ему рот и сказал:
– Ну, часто влияние неофициального положения такого рода сильнее, чем официального.
– Это как раз мой случай, – сказал художник и кивнул, сморщив лоб. – Я разговаривал вчера с этим фабрикантом о вашем деле, он спросил меня, не могу ли я вам помочь, я ответил: «Он мог бы как-нибудь зайти ко мне» – и я рад так скоро увидеть вас здесь. Похоже, вы действительно очень переживаете за это дело, что меня, естественно, нисколько не удивляет. Может быть, желаете для начала снять ваше пальто?
Хотя К. и собирался пробыть здесь лишь самое короткое время, но это предложение художника пришлось как нельзя более кстати. В этой каморке ему постепенно становилось все труднее дышать, он уже не раз с удивлением устремлял взгляд в угол, на маленькую, судя по всем признакам, не растопленную железную печку, – духота в комнатке была необъяснима. Пока он снимал пальто и заодно расстегивал сюртук, художник, извиняясь, говорил:
– Мне нужно, чтобы тут было тепло. Все-таки здесь очень приятно, правда? В этом смысле комната очень удобно расположена.
К. ничего на это не ответил; собственно, не по себе ему было не от жары, скорее виноват был спертый, почти не дававший вздохнуть воздух; комната, очевидно, уже давно не проветривалась. Эта неприятность была еще усугублена тем, что художник попросил К. пересесть на кровать, в то время как сам он уселся на единственный имевшийся в комнате стул у мольберта. К тому же художник, кажется, неверно понял, почему К. сел лишь на краешек кровати, он предложил К., напротив, расположиться поудобнее и, поскольку К. медлил, сам подошел к кровати и вдвинул К. глубоко в тюфяки и подушки. После этого он снова возвратился на свой стул и, наконец, задал первый деловой вопрос, заставивший К. забыть про все остальное.
– Вы невиновны? – спросил он.
– Да, – сказал К.
Ответ на этот вопрос доставил ему просто-таки радость, в особенности потому, что дан был частному лицу и, следовательно, не мог повлечь за собой никакой ответственности. Еще никто его так прямо не спрашивал, и, чтобы продлить наслаждение этой радостью, он прибавил:
– Я абсолютно невиновен.
– Так, – сказал художник, опустил голову и, казалось, погрузился в размышления.
Неожиданно он вновь поднял голову и сказал:
– Но ведь если вы невиновны, то дело очень просто.
Взгляд К. помрачнел; это якобы доверенное лицо суда говорило, как неразумное дитя.
– Моя невиновность не упрощает дела, – сказал К., невольно все же усмехнувшись, и медленно покачал головой. – Тут много закоулков, в которых плутает этот суд. А в конце из какого-нибудь угла, где поначалу вообще ничего не было, вылезает какая-то большая вина.
– Да-да, конечно, – сказал художник так, словно К. без необходимости прервал ход его мыслей. – Но вы все-таки невиновны?
– Ну да, – сказал К.
– Это главное, – сказал художник.
Контраргументы не могли на него повлиять, однако, несмотря на такую его твердость, было не ясно, от убежденности он так говорит или от равнодушия. К. прежде всего хотел выяснить это, поэтому он сказал:
– Конечно же, вы знаете этот суд куда лучше, чем я, – я знаю не намного больше того, что я о нем слышал, – правда, от совершенно разных людей. Но все они сходятся в том, что легкомысленных обвинений там не выдвигают и что суд, раз уж он выдвинул обвинение, твердо убежден в виновности обвиняемого, и очень трудно заставить его отказаться от этого убеждения.
– Трудно? – вопросил художник и вскинул одну руку вверх. – Суд никогда от этого не откажется. Если я вот тут напишу всех судей в ряд на одном холсте и вы станете защищаться перед этим холстом, то вы добьетесь большего успеха, чем перед их настоящим судом.
«Да», – сказал про себя К. и забыл, что хотел только прощупать художника.
Девочка за дверью снова принялась канючить:
– Титорелли, ну скоро он уйдет отсюда?
– Замолчите! – крикнул художник в сторону двери. – Вы что, не видите, что мы с господином разговариваем?
Но девочка, не удовлетворившись этим ответом, спросила:
– У тебя будет с ним сеанс? – и, поскольку художник ничего не ответил, прибавила: – Пожалуйста, не делай с ним сеанс, он такой урод.
Несколько одобрительных восклицаний, последовавших за этими словами, разобрать было трудно, поскольку они прозвучали одновременно. Художник подскочил к двери, чуть приоткрыл ее – было видно, как к этой щели протянулись умоляюще сложенные руки девочек – и сказал:
– Если вы не замолчите, я вас всех спущу с лестницы. Сядьте тут на ступеньках, и чтобы вас не было слышно!
По-видимому, они не сразу подчинились, потому что ему пришлось скомандовать еще раз:
– Вниз, на ступени!
Только после этого стало тихо.
– Извините, – сказал художник, вновь возвращаясь к К.
К. почти не повернул головы в сторону этой двери, полностью предоставив художнику решать, будет ли тот его защищать, и если да, то как именно. Почти не шелохнулся он и сейчас, когда художник склонился к нему и прошептал ему на ухо, чтобы не услышали за дверью:
– И эти девчонки тоже имеют отношение к суду.
– Как? – переспросил К., отклонил голову и посмотрел на художника.
Но тот снова уселся на свой стул и полушутя-полусерьезно сказал:
– Ведь все имеет отношение к суду.
– Этого я пока еще не заметил, – коротко сказал К.; широкое обобщение художника лишило его предшествующие слова о девочках их тревожного смысла.
Тем не менее К. некоторое время смотрел на дверь, за которой эти девочки тихо сидели теперь на ступеньках. Впрочем, одна из них просунула в щель между досками соломинку и медленно водила ею вверх и вниз.
– Вы, похоже, еще не составили себе общего представления об этом суде, – сказал художник; он сидел, широко расставив ноги, и постукивал пятками по полу. – Но поскольку вы невиновны, оно вам и не потребуется. Я и один вас вытащу.
– Как вы это сделаете? – спросил К. – Вы же сами только что сказали, что на этот суд никакие доводы не действуют.
– Не действуют только такие доводы, которые приводятся на суде, – сказал художник и поднял вверх указательный палец, как бы показывая этим, что К. не уловил тонкого различия. – Но совсем иначе обстоит в этом смысле с теми попытками, которые предпринимаются за рамками официальной судебной процедуры, то есть в совещательной комнате, в кулуарах или, к примеру, здесь, в этом ателье.
То, что художник сейчас говорил, казалось не столь уж неправдоподобным, более того, это в значительной мере совпадало с тем, что К. слышал от других людей. Да, это звучало даже очень обнадеживающе. В самом деле, если посредством личных отношений можно так легко управлять судьями, как это изображал адвокат, то тогда отношения художника с этими тщеславными судьями были особенно важны, и уж во всяком случае их никоим образом нельзя было недооценивать. Тогда этот художник очень хорошо впишется в штат помощников, который К. постепенно набирал себе. Когда-то он славился в банке своим организаторским талантом, и вот теперь, когда он должен был рассчитывать только на самого себя, представлялась хорошая возможность испытать этот талант в самом предельном случае. Художник некоторое время наблюдал за тем эффектом, который произвело его объяснение на К., и затем с некоторой озабоченностью сказал:
– Вас, может быть, удивляет, что я говорю почти как какой-нибудь юрист? Это на мне сказываются непрерывные контакты с господами из суда. Я, естественно, извлекаю из них немалые выгоды, но, правда, художнический пыл в значительной мере утратил.
– А как вы впервые вступили в эти отношения с судьями? – спросил К., он хотел завоевать доверие художника, перед тем как непосредственно привлечь его к себе на службу.
– Это было очень просто, – сказал художник, – я эти отношения получил по наследству. Ведь мой отец тоже был судебным художником. Это место всегда передается по наследству. Новые люди тут не годятся. Ведь для портретирования чиновников разных рангов установлены такие разные, такие многочисленные и, главное, такие секретные правила, что, кроме членов определенных семей, их вообще никто не знает. К примеру, там, в ящике стола, у меня лежат эскизы моего отца, которые я никому не показываю. Но тот, кто их не видел, писать судей уже не сможет. Впрочем, даже если я их и потеряю, у меня в голове останется еще столько правил, что за мое место со мной никто не сможет поспорить. Ведь каждый судья должен быть написан так, как были написаны прежние великие судьи, а это знаю только я.
– Вам можно позавидовать, – сказал К., думая о своем положении в банке. – Значит, вы за свое место не беспокоитесь?
– Да, я за него не беспокоюсь, – сказал художник и гордо расправил плечи. – Потому-то я и решаюсь иногда помочь какому-нибудь бедолаге, у которого начался процесс.
– И как вы это делаете? – спросил К. так, словно это не его художник только что назвал «каким-то бедолагой».
Но художник не собирался отклоняться от темы и продолжал:
– К примеру, в вашем случае, поскольку вы полностью невиновны, я собираюсь предпринять следующее.
Эти повторяющиеся упоминания о его невиновности уже надоели К. Ему порой даже казалось, что такими упоминаниями художник делает благоприятный исход его процесса какой-то предпосылкой своей помощи, которая в таком случае, естественно, сама собой обесценивалась. Но, несмотря на эти сомнения, К. сдерживался и не прерывал художника. Он твердо решил не отказываться от его помощи, к тому же эта помощь представлялась ему ничуть не более сомнительной, чем помощь адвоката. К. даже отдавал явное предпочтение этой помощи, поскольку та была не так безобидна и предлагалась не так открыто.
Художник придвинул свой стул ближе к кровати и продолжил, понизив голос:
– Я забыл вас с самого начала спросить, какого освобождения вы хотите? Тут есть три возможности: действительное оправдание, мнимое оправдание и затягивание процесса. Действительное оправдание, естественно, лучше всего, но на такое решение я никак повлиять не могу. И, по-моему, вообще не существует такого отдельно взятого человека, который мог бы поспособствовать действительному оправданию. Тут решает, по всей видимости, только невиновность обвиняемого. А поскольку вы невиновны, то вы действительно можете целиком положиться на эту вашу невиновность. Но тогда вам не нужен ни я, ни какой-то еще помощник.
Такая четкость изложения поначалу ошеломила К., но затем он – так же тихо, как и художник, – сказал:
– По-моему, вы сами себе противоречите.
– В чем же? – ласково спросил художник и с усмешкой откинулся на спинку стула.
От этой усмешки у К. возникло такое чувство, словно ему теперь предстояло обнаружить противоречия уже не в словах художника, а в самой судебной процедуре. Это, однако, его не остановило, и он сказал:
– Ранее вы заметили, что на этот суд доводы не действуют, потом вы ограничили ваше утверждение рамками официальной судебной процедуры, а теперь утверждаете даже, что невиновному никакой помощи в этом суде не требуется. Уже здесь имеется противоречие. Но, кроме того, ранее вы сказали, что на судей можно влиять посредством личных отношений, а теперь утверждаете, что на это действительное, как вы его называете, оправдание никто персонально повлиять не может. В этом заключается второе противоречие.
– Эти противоречия легко объяснить, – сказал художник. – Тут речь идет о двух разных вещах: о том, что написано в законе, и о том, что я лично знаю по своему опыту, – вы не должны их путать. В законе – я, впрочем, его не читал, – естественно, написано, что невиновный подлежит оправданию, но, с другой стороны, там не написано, что на судей можно повлиять. Ну, а я на своем опыте убедился как раз в обратном. Я не знаю ни одного случая действительного оправдания, но я очень хорошо знаю много случаев влияния на судей. Естественно, вполне возможно, что во всех известных мне случаях невиновность отсутствовала. Но ведь в это трудно поверить. Чтобы в таком количестве случаев не обнаружилось одной-единственной невиновности? Еще будучи ребенком, я внимательно слушал отца, когда он дома рассказывал о процессах, и судей, когда они, приходя к нему в ателье, рассказывали о суде, в наших кругах вообще ни о чем другом не говорили; сам я, едва получив возможность являться в суд, постоянно пользовался ею, присутствовал на важнейших стадиях несчетного числа процессов – и отслеживал их ход, пока они оставались в зоне видимости, но должен признаться, что на моей памяти не было ни одного действительного оправдания.
– Значит, ни одного действительного оправдания, – повторил К., словно разговаривал сам с собой и со своими надеждами. – Что, впрочем, подтверждает мнение, которое у меня уже сложилось об этом суде. Таким образом, и с этой стороны он тоже бесцелен. Весь этот суд мог бы заменить один-единственный палач.
– У вас нет оснований для подобных обобщений, – недовольно сказал художник, – я ведь говорил только о моем личном опыте.
– Довольно и этого, – сказал К., – или вы слышали об оправданиях, имевших место в прежние времена?
– Такие оправдания, конечно, должны были иметь место, – ответил художник. – Просто это очень трудно теперь установить. Окончательные решения суда не публикуются, они даже судьям недоступны, поэтому о старых судебных делах сохранились только легенды. А в легендах, конечно, есть и действительные оправдания, и даже много; в это можно верить, но это недоказуемо. Тем не менее ими нельзя совсем пренебрегать, какая-то доля правды в них, конечно, присутствует, к тому же они очень красивы, я сам написал несколько картин на сюжеты этих легенд.
– Одними легендами моего мнения не изменить, – сказал К., – ведь перед судом на эти легенды, по-видимому, нельзя будет сослаться?
– Да, это не пройдет, – сказал художник.
– Тогда не имеет смысла об этом и говорить, – сказал К.; он намерен был пока что принимать к сведению все высказывания художника, даже если они представлялись ему невероятными и противоречили другим сведениям.
У него сейчас не было времени проверять истинность всего, что говорил художник, или, тем более, возражать ему; самое большее, чего можно было сейчас достичь, это склонить художника к согласию каким-то, пусть даже не решающим образом помогать ему. Поэтому К. сказал:
– Значит, давайте забудем о действительном оправдании, но вы упомянули еще две возможности.
– Мнимое оправдание и затягивание, – напомнил художник. – Речь может идти только об этом. Но не хотите ли вы прежде, чем мы об этом поговорим, снять сюртук? Вам, по-моему, жарко.
– Да, – сказал К.; до этого момента он не обращал внимания ни на что, кроме объяснений художника, но теперь, когда ему напомнили о жаре, у него на лбу выступил обильный пот. – Это почти невыносимо.
Художник кивнул, как бы подтверждая, что неприятные ощущения К. ему очень хорошо понятны.
– Нельзя ли открыть это окно? – спросил К.
– Нет, – сказал художник. – Это же просто намертво вделанное стекло, оно не открывается.
Теперь К. понял, что все это время он надеялся на то, что художник – или он сам – вдруг подойдет к этому окну и распахнет его. Он был готов вдыхать, раскрыв рот, даже туман. Ощущение полной отрезанности от воздуха вызвало у него головокружение. Он слегка шлепнул ладонью по тюфяку, наползавшему на него сбоку, и слабым голосом произнес:
– Это в самом деле неприятно и нездорово.
– О нет, – сказал художник, защищая свое окно, – благодаря тому, что оно не открывается, этот простой лист стекла сохраняет здесь тепло лучше, чем любая двойная рама. А если я захочу проветрить, в чем не бывает особой необходимости, поскольку через щели между досками тут везде проходит воздух, я могу открыть одну из дверей или даже обе сразу.
К., немного успокоенный этим разъяснением, оглянулся по сторонам, пытаясь увидеть вторую дверь. Художник заметил это и сказал:
– Она за вами, мне пришлось заставить ее кроватью.
Только теперь К. заметил маленькую дверь в стене.
– Здесь ведь все слишком маленькое для ателье, – сказал художник, как бы предупреждая осуждение К. – Пришлось обустраиваться, как позволяло место. Естественно, кровать перед дверью – это очень неудобное расположение. К примеру, судья, которого я сейчас пишу, всегда приходит через дверь у кровати, я ему даже ключ дал от этой двери, чтобы он мог подождать здесь, в ателье, если не застанет меня дома. Но обычно он приходит рано утром, когда я еще сплю. И, естественно, всякий раз, когда рядом с кроватью открывается дверь, просыпаешься, хоть бы ты спал как убитый. Если бы вы услышали те проклятия, которыми я его встречаю, когда он ранним утром перелезает через мою кровать, вы бы потеряли всякое уважение к этому судье. Конечно, я мог бы отобрать у него ключ, но от этого возникли бы только лишние хлопоты. Здесь ведь достаточно самого легкого усилия, чтобы сорвать с петель любую дверь.
В продолжение всей этой речи К. размышлял о том, удобно ли будет снять сюртук, но в конце концов понял, что если он этого не сделает, то просто не сможет здесь больше находиться, поэтому сюртук он снял, однако оставил его у себя на коленях, чтобы сразу надеть его в случае, если обсуждение вдруг закончится. Но стоило ему снять сюртук, как одна из девочек закричала: «Он уже пиджак снял!» – и стало слышно, как все они затеснились у щелей, чтобы увидеть такое зрелище своими глазами.
– Это девочки подумали, – сказал художник, – что я вас сейчас буду писать и что вы для этого раздеваетесь.
– Понятно, – сказал К., не слишком этим позабавленный, поскольку, сидя теперь без сюртука, чувствовал себя не намного лучше, чем раньше; почти брюзгливо он спросил: – Как вы там назвали две другие возможности?
Он уже снова забыл эти выражения.
– Мнимое оправдание и затягивание процесса, – сказал художник. – Что из этого выбрать, решать вам. И то и другое с моей помощью достижимо, – естественно, не без усилий, – различие здесь состоит в том, что мнимое оправдание требует эпизодического концентрированного напряжения сил, а затягивание – значительно меньшего, но длительного. Ну, начнем с мнимого оправдания. Если вы выбираете этот вариант, я беру лист бумаги и пишу свидетельство о вашей невиновности. Текст этого свидетельства я получил от моего отца, и он совершенно неопровержим. И вот с этим свидетельством я совершаю обход знакомых мне судей. Начну я, скажем, с того, что положу это свидетельство перед судьей, которого я сейчас пишу, когда он сегодня вечером придет ко мне на сеанс. Итак, я кладу перед ним это свидетельство, заявляю ему, что вы невиновны, и лично ручаюсь в вашей невиновности. И это не какое-нибудь там формальное, а действительное, обязывающее ручательство.
Во взгляде художника читался как бы упрек за то, что К. хочет возложить на него груз подобного ручательства.
– Это было бы в самом деле очень любезно с вашей стороны, – сказал К. – Значит, судья вам поверил бы, но тем не менее действительного оправдания я бы не получил?
– Да, я это уже объяснял, – ответил художник. – К тому же нет никакой уверенности, что мне поверят все; некоторые судьи, к примеру, могут потребовать, чтобы я привел к ним вас самих. В таком случае вам придется идти со мной. Правда, при таком обороте дело уже можно считать наполовину выигранным, в частности, потому, что я, естественно, заранее подробно вас проинструктирую, как вам следует вести себя перед соответствующим судьей. Хуже обстоит с теми судьями, которые меня обрывают сходу, – случается и такое. От таких – после ряда попыток, когда уже будет сделано все, что можно, – нам придется отказаться, но мы можем себе это позволить, потому что отдельные судьи тут решающего значения не имеют. Ну и когда у меня набирается под этим свидетельством достаточное количество судейских подписей, я иду с ним к тому судье, который непосредственно ведет ваш процесс. При этом не исключено, что у меня уже есть и его подпись, в этом случае развитие событий идет еще немного быстрее, чем обычно. Но и в общем случае на этой стадии остается уже совсем немного препятствий, и для обвиняемого наступает время наивысшей уверенности. Как ни удивительно, но это правда, что люди в это время чувствуют себя увереннее, чем после оправдания. И теперь никаких особенных усилий уже больше не требуется. Ваш судья, имея в этом свидетельстве ручательства определенного числа судей, спокойно может объявить вас оправданным и – разумеется, после выполнения различных формальностей – без сомнений делает это, чтобы доставить удовольствие мне и другим своим знакомым. А вы выходите из-под суда и – свободны.
– И тогда, следовательно, я свободен, – медленно повторил К.
– Да, – подтвердил художник, – но только мнимо свободны или, лучше сказать, временно свободны. Ведь этим низовым судьям, к которым относятся все мои знакомые, не дано права окончательного оправдания, таким правом обладает только высший, для вас, для меня и для всех нас совершенно недоступный суд. И как все это выглядит там, мы не знаем, да и, по правде говоря, не хотим знать. Так что высшего права освобождать от обвинения наши судьи не имеют, но они имеют полное право освобождать обвиняемого. Это значит, что если вы оправданы таким образом, то на данный момент вы от обвинения ушли, но оно продолжает висеть над вами и дальше, и, как только сверху приходит соответствующее распоряжение, обвинение тут же приобретает законную силу. И поскольку я нахожусь с этим судом в таких хороших отношениях, то я могу вам даже сказать, как – чисто внешне – проявляется в предписаниях для судебных канцелярий это различие между действительным и мнимым оправданием. При действительном оправдании абсолютно все материалы процесса изымаются, они полностью выводятся из судебной машины; не только обвинение, но и само дело, и даже оправдательный приговор уничтожаются, – уничтожается все. При мнимом оправдании поступают иначе. С делом не происходит вообще никаких изменений, оно только дополняется этим свидетельством о невиновности, оправдательным приговором и обоснованием этого оправдательного приговора. В остальном же оно остается в судебной машине и, как того требует поддержание непрерывного бумагооборота между канцеляриями, пересылается дальше в суды высших инстанций, возвращается назад в суды низших, и вот так, с большими или меньшими отклонениями, с большими или меньшими задержками, плавает туда и обратно. И пути его неисповедимы. Непосвященному порой может показаться, что все давным-давно предано забвению, дело утеряно и оправдание – это полное оправдание. Но посвященный этому не поверит. Ни одно дело не утеряно, а что такое забвение, суд не знает. В один прекрасный день, когда никто этого уже не ожидает, какой-нибудь судья просматривает это дело внимательнее, чем обычно, замечает, что в данном случае обвинение еще жизнеспособно, и немедленно подписывает ордер на арест. Я все это излагаю в предположении, что между мнимым оправданием и новым арестом проходит достаточно большое время; это возможно, и мне такие случаи известны, но точно так же возможен и такой случай, когда оправданный приходит после суда домой, а там уже ждут уполномоченные, чтобы снова его арестовать. И на этом, естественно, свободная жизнь кончается.
– И процесс начинается заново? – почти не веря своим ушам, спросил К.
– Конечно, – сказал художник, – процесс начинается заново, но опять-таки есть возможность точно так же, как раньше, добиться мнимого оправдания. И для этого нужно снова собрать все силы, тут нельзя сдаваться.
Последние слова художника, по-видимому, объяснялись тем впечатлением, которое производил на него несколько обмякший К.
– Но добиться второго оправдания, – сказал К., словно пытаясь предупредить какое-то разоблачение художника, – не труднее ли, чем первого?
– В этом случае, – отозвался художник, – ничего определенного сказать нельзя. Вы, очевидно, имеете в виду, что этот второй арест может повлиять на мнение судей не в пользу обвиняемого? Это не так. Ведь судьи уже в момент оправдания предвидели этот арест. Так что подобное обстоятельство вряд ли окажет какое-то влияние. Но настроение судей – так же как и их правовая оценка данного случая – может измениться в силу бесчисленного количества других причин, и поэтому усилия по достижению второго оправдания должны прилагаться с учетом изменившихся обстоятельств и, вообще говоря, быть такими же энергичными, как те, которые прилагались к первому оправданию.