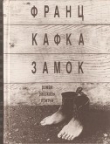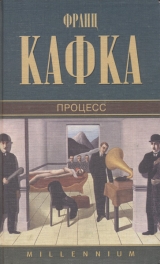
Текст книги "Собрание сочинений.Том 3."
Автор книги: Франц Кафка
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Глава десятая
ФИНАЛ
Накануне тридцать первого дня рождения К. – было около девяти часов вечера, время, когда на улицах затихает жизнь, – в его квартиру вошли два господина. Оба были бледные, тучные, в сюртуках и в цилиндрах, сидевших, казалось, непоколебимо. После выполнения маленьких церемоний, связанных с очередностью прохода в дверь квартиры, те же церемонии, но в большем объеме, были повторены и перед дверью К. Хотя его не предупреждали об их приходе, К., также в черном, сидел на стуле неподалеку от двери в позе ожидания гостей и медленно натягивал новые, сильно сжимавшие пальцы перчатки. Он сразу же встал и с любопытством посмотрел на господ.
– Значит, мне определены вы? – спросил он.
Господа кивнули, и каждый цилиндром, который держал в руке, указал на другого. К. признался себе в том, что он ждал другого визита. Он подошел к окну и еще раз взглянул на темную улицу. Почти все окна на другой стороне улицы тоже были уже темны, на многих были задернуты занавески. В одном освещенном окне его этажа за решеткой играли маленькие дети и, не способные еще сдвинуться с мест, на которые были посажены, цеплялись друг за друга ручонками. За мной прислали старых актеров из второго состава, сказал себе К. и оглянулся, чтобы еще раз в этом убедиться. Хотят разделаться со мной по дешевке. Неожиданно К. повернулся к ним и спросил:
– В каком театре вы служите?
– В театре? – недоуменно спросил один из господ (у него дрогнули уголки губ) у другого. Но этот другой жестикулировал, как заика, борющийся с непослушным организмом. Они не готовы к тому, что им могут задавать вопросы, сказал себе К. и пошел за своей шляпой.
Уже на лестнице господа хотели взять К. под руки, но К. сказал:
– Только когда выйдем, я не больной.
Но за дверью они сразу же повисли на нем; К. никогда еще ни с одним человеком так не ходил. Они прижимались сзади плечами к его плечам, при этом руки не сгибали, а обвивали ими руки К. по всей длине, вцепившись внизу в пальцы заученной, натренированной, мертвой хваткой. К. шел словно пригвожденный и распятый между ними; все трое они составляли теперь такое единство, что, если бы одного из них раскололи, раскололись бы все. Это было единство, которое могло составиться почти только в неживой природе.
Проходя под фонарями, К. пытался – как ни трудно это было осуществить при таком тесном контакте – рассмотреть своих конвоиров яснее, чем это было возможно в полумраке его квартиры. Может быть, они тенора, думал он, глядя на их тяжелые двойные подбородки. Его тошнило от гладкости их лиц. Он буквально видел руку в гигиенической перчатке, копошащуюся в уголках их глаз, пробегающую по верхней губе, выскабливающую складки у подбородка. [20]20
Вычеркнуто автором:
Брови у них были словно вставные и при ходьбе беспрерывно ездили вверх и вниз.
[Закрыть]
Представив это, К. остановился, из-за чего остановились и те; они стояли на краю широкой безлюдной площади, украшенной зелеными насаждениями.
– Почему послали именно вас? – не столько спросил, сколько выкрикнул К.
Господа, по-видимому, не знали ответа, они ждали, их свободные руки висели, как у санитаров, ожидающих, когда больной успокоится.
– Я дальше не пойду, – попробовал упереться К.
Господам не было необходимости отвечать, им было достаточно того, что они не ослабляли хватки, и они попытались сдвинуть К. с места, но К. сопротивлялся. Я должен теперь не прилагать большие усилия, думал он, я должен теперь употребить все. Перед его мысленным взором промелькнули мухи, которые, разрывая себе лапки, рвались с липучки. Господам придется очень потрудиться.
В этот момент перед ними возникла, поднявшись по маленькой лестнице с улочки, лежавшей ниже уровня площади, фрейлейн Бюрстнер. Полной уверенности в том, что это она, не было, однако сходство было велико. Но К. было даже не важно, точно ли это была фрейлейн Бюрстнер, просто до его сознания как-то вдруг дошла вся бесцельность этого его сопротивления. Не было ничего героического в том, что он сопротивлялся, в том, что создавал теперь этим господам трудности, в том, что пытался теперь в этой самозащите последний раз ощутить вкус жизни. Он пошел с ними, и что-то от той радости, которую он им этим доставил, перешло и на него самого. Они теперь соглашались с тем, что он выбирал направление движения, и он выбирал тот путь, которым шла эта фрейлейн впереди – не потому, что хотел ее догнать, и даже не потому, что хотел видеть ее как можно дольше, а просто чтобы не забыть то напоминание, которым она для него явилась. Единственное, что я могу теперь сделать, сказал он себе, и его шаги в ногу с шагами этих двоих подтвердили его мысли, – единственное, что я могу теперь сделать, это до конца сохранить спокойно анализирующий рассудок. Я всегда хотел запускать в мир двадцать рук, и к тому же с целью, которую нельзя одобрить. Это было неправильно. Так что же, теперь я покажу, что даже годичный процесс меня ничему не научил? И уйду как человек, который ничего не понял? И обо мне потом смогут сказать, что в начале процесса я хотел его закончить, а теперь, в его финале, хотел начать его сначала? Я не хочу, чтобы так говорили. Я благодарен за то, что в этот путь мне дали этих полунемых, неотзывчивых господ, и за то, что сказать все необходимые слова предоставили мне самому.
Фрейлейн тем временем свернула в какой-то переулок, но К. мог уже обойтись и без нее, он теперь целиком положился на своих конвоиров. Все трое в полном согласии взошли на освещенный лунным светом мост; эти господа теперь с готовностью повторяли каждое мелкое движение, которое делал К., и, когда он чуть повернулся к перилам, они тоже, всем фронтом, развернулись к ним. Сверкающая и дрожащая в лунном свете вода обтекала маленький островок, на котором, словно согнанные в одно место, теснились зеленые массы деревьев и кустарников. Под ними, невидимые сейчас, петляли посыпанные гравием дорожки с удобными скамейками, на которых К. просидел, вытянув ноги и раскинув руки, многие жаркие часы во многие лета.
– Да я совсем не хотел останавливаться, – сказал он своим конвоирам, смущенный их услужливостью.
Они, кажется, мягко упрекнули друг друга за спиной К. в непонимании, вызвавшем эту остановку, и затем двинулись дальше. [21]21
Вычеркнуто автором:
Они прошли несколькими идущими в гору улочками, на которых то здесь, то там стояли или прохаживались полицейские, иногда они маячили вдали, иногда оказывались совсем близко. Один, с пышными усами и рукой на эфесе доверенной ему государством сабли, как будто специально подошел поближе к этой несколько подозрительной группке.
– Государство предлагает мне свою помощь, – шепотом сказал К. на ухо одному из господ.
А что, если бы я переиграл этот процесс по официальным государственным законам? Тогда могло бы дойти до того, что мне пришлось бы защищать этих господ от государства!
[Закрыть]
Они прошли несколькими идущими в гору улочками, на которых кое-где стояли или прохаживались полицейские, иногда они маячили вдали, иногда оказывались совсем близко. Один, с пышными усами и рукой на эфесе сабли, как будто специально подошел поближе к этой несколько подозрительной группке. Господа замерли на месте, полицейский, казалось, уже открывал рот, но тут К. с силой потащил их дальше. Несколько раз К. осторожно оглядывался, проверяя, не идет ли полицейский за ними, и, когда угол дома закрыл их от его взгляда, К. побежал, заставляя и конвоиров бежать вместе с ним, несмотря на сильную одышку.
Так они быстро выбрались из города, к которому с этой стороны почти вплотную подступали поля. Недалеко от еще вполне городского дома была маленькая заброшенная и пустынная каменоломня. Здесь господа остановились; то ли это место с самого начала было местом их назначения, то ли они слишком выдохлись для того, чтобы бежать еще куда-то. Здесь они отпустили К., и он молча ждал, пока они снимали свои цилиндры и, оглядывая каменоломню, обтирали носовыми платками вспотевшие лбы. В лунном свете все было таким естественным и спокойным, каким не могло бы быть ни в каком ином свете.
После обмена церемонными фразами, касавшимися того, кто будет исполнителем в последующих эпизодах – господам, по-видимому, задавался порядок действий без распределения ролей, – один из них подошел к К. и снял с него сюртук, жилет и наконец рубашку. По телу К. непроизвольно пробежал озноб, и господин, успокаивая К., слегка хлопнул его по спине. Он аккуратно сложил одежду К., как складывают вещи, которые еще понадобятся, хотя, может быть, и не в самое ближайшее время. Затем, чтобы К. не стоял без движения во все-таки прохладном ночном воздухе, он взял К. под руку и немного походил с ним взад-вперед, в то время как другой господин осматривал каменоломню в поисках подходящего места; найдя его, он подал знак, и второй подвел туда К. Место было недалеко от края карьера, там лежал вырубленный из стены камень. Господа усадили К. на землю, прислонили его спиной к камню и пристроили на камне его голову. Однако несмотря на все их старания и несмотря на все то содействие, которое оказывал им К., его поза все-таки оставалась очень принужденной и неправдоподобной. Поэтому один из господ попросил другого дать ему некоторое время и предоставить ему одному уложить К., но и от этого лучше не стало. В конце концов они оставили К. в позе, которая даже не была лучшей из уже перепробованных. Затем один из господ расстегнул сюртук, вытащил из чехла, висевшего на ремне, надетом поверх жилета, длинный тонкий обоюдоострый мясницкий нож и высоко поднял его, проверяя заточку на свет. Снова начались отвратительные церемонии, первый передавал нож над телом К. второму, тот, вновь над телом К., возвращал его первому. К. теперь точно знал, что это был его долг, что этот нож, витавший над ним и переходивший из рук в руки, он должен был схватить и вонзить в себя сам. Но вместо того чтобы сделать это, он, поворачивая все еще свободную шею, оглядывался вокруг. Выдержать испытание до конца, взяв на себя всю работу этих органов, он не мог, и ответственность за это последнее его прегрешение лежала на том, кто лишил его остатка необходимых для этого сил. Взгляд К. упал на верхний этаж стоявшего вблизи каменоломни дома. Как вспыхивает в темноте свет, так распахнулись там створки одного окна, какой-то человек, слабый и тонкий на таком отдалении и возвышении, рывком наклонился далеко вперед – и еще дальше простер руки. Кто это был? Друг? Добрый человек? Он сочувствовал? Он хотел помочь? Только он один? Или все? Еще можно было помочь? [22]22
Первоначальный вариант окончания предпоследнего абзаца:
…Еще были такие апелляции, о которых забыли? Конечно, они были. Пусть логика непоколебима, но против человека, который хочет жить, она не устоит. Где тот судья? Где тот высокий суд? Я должен высказаться. Я воздеваю руки.
[Закрыть]Еще были такие апелляции, о которых забыли? Конечно, они были. Пусть логика непоколебима, но против человека, который хочет жить, она не устоит. Где тот судья, которого он так и не увидел? Где тот высокий суд, до которого он так и не дошел? Он воздел руки и растопырил пальцы.
Но уже легли на горло К. руки одного господина, в то время как второй вонзил ему нож глубоко в сердце и дважды повернул его там. Стекленеющие глаза К. еще увидели, как эти господа, близко наклонясь к его лицу и прижавшись друг к другу щеками, наблюдали за финалом.
– Как собака! – прошептал он так, словно его позору предстояло его пережить.
Приложения
Неоконченные главы
У Эльзы
В один из дней, перед самым концом работы, К. позвонили по телефону и предложили немедленно явиться в судебную канцелярию. Он был предупрежден о серьезных последствиях в случае неподчинения. Его неслыханные высказывания о том, что эти допросы никому не нужны, ничего не дают и ничего дать не могут, что он больше туда не пойдет, что на телефонные и письменные вызовы он и внимания обращать не будет, а посыльных будет выкидывать на улицу, – все эти высказывания запротоколированы и уже очень ему повредили. Да и почему он не хочет сотрудничать? Разве над его запутанным делом не работают, не считаясь ни с временем, ни с затратами, чтобы навести в нем порядок? Он что, собирается преднамеренно мешать этому и довести дело до насильственных мер, которых до сих пор, щадя его, к нему не применяли? Сегодняшний вызов – это последняя попытка. Он может поступать, как угодно, но пусть он учтет, что высокий суд шутить с собой никому не позволит.
Но именно на этот вечер у К. был назначен визит к Эльзе, и по этой причине он не мог явиться в суд; он был рад возможности такого оправдания своей неявки, хотя, естественно, никогда бы не прибегнул к подобному оправданию и почти наверняка не пошел бы в суд даже и в том случае, если бы не имел на этот вечер никаких иных обязательств. Чувствуя себя в своем праве, он тем не менее поинтересовался по телефону, что будет, если он не придет.
– Вас сумеют найти, – ответили ему.
– И я буду наказан за то, что не явился добровольно? – спросил К. и усмехнулся в ожидании того, что должен был услышать.
– Нет, – ответили ему.
– Превосходно, – сказал К., – но в таком случае какая же причина должна заставить меня последовать сегодняшнему приглашению?
– Обычно приглашенные стараются не навлекать на свою голову применения судебных средств принуждения, – отвечал постепенно ослабевавший и под конец совсем исчезнувший голос.
Не делать этого было бы очень неосторожно, думал К., уходя, но все-таки следует попытаться узнать, что же это за средства.
Он не колеблясь поехал к Эльзе. Уютно устроившись в углу пролетки и засунув руки в карманы плаща – уже становилось прохладно – он погрузился в уличную суету. С чувством некоторого удовлетворения он подумал о том, что если этот суд действительно функционирует, то К. ему доставляет немало хлопот. Он не сказал определенно, явится он в суд или нет, значит, следователь будет ждать, а может быть даже, они соберутся там все, и только К., к вящему разочарованию галерки, не появится. Он ехал туда, куда хотел ехать, и суд ему был не помеха. На какое-то мгновение у него возникло сомнение, не назвал ли он кучеру по рассеянности адрес суда, поэтому он громко крикнул ему адрес Эльзы; кучер кивнул, ему никакого другого адреса и не называли. С этого момента суд постепенно начал выходить из головы К., и его снова, как в прежние времена, целиком заполнили мысли о банке.
Поездка к матери
Во время обеда он вдруг вспомнил, что собирался навестить мать. Уже почти кончилась весна, и, значит, прошло уже три года с тех пор, как он в последний раз ее видел. Она его тогда попросила приехать к ней на его день рождения; несмотря на многочисленные препятствия, он собирался эту просьбу исполнить и даже дал ей обещание проводить у нее все свои дни рождения, однако это обещание он уже дважды не сдержал. Но зато теперь он намерен был поехать сразу, даже не дожидаясь дня рождения, хотя до него оставалось всего две недели. Впрочем, он сказал себе, что никакой особенной причины ехать именно сейчас нет, напротив, те известия, которые он регулярно каждые два месяца получал от своего кузена (имевшего в том городке торговое предприятие и распоряжавшегося деньгами, которые К. посылал для матери), были успокоительны, как никогда. Зрение мать, правда, почти потеряла, но для К., уже много лет знавшего приговор врачей, это не было неожиданностью, зато общее ее состояние улучшилось, всяческие возрастные недуги, вместо того чтобы усилиться, отступили, во всяком случае, жаловаться она стала меньше. По мнению кузена, это, возможно, было связано с тем, что она в последние годы – К. еще в тот свой приезд почти с отвращением заметил легкие признаки этого – сделалась непомерно набожной. В одном из писем кузен очень ярко изобразил, как эта старая женщина, прежде насилу таскавшая ноги, теперь, когда он по воскресеньям водит ее в церковь, просто заправски вышагивает, опираясь на его руку. А кузену К. мог доверять, поскольку тот, будучи человеком мнительным, в своих сообщениях склонен был преувеличивать скорее плохое, чем хорошее.
Но как бы там ни было, К. решил поехать теперь; в последнее время он, помимо прочих малоприятных вещей, обнаружил у себя какое-то слабодушие, какое-то почти неудержимое стремление потакать всем своим желаниям, – ну, что ж, по крайней мере в данном случае этот недостаток послужит благой цели.
Он подошел к окну, чтобы немного собраться с мыслями, потом сразу же приказал унести еду и отправил посыльного к фрау Грубах, чтобы тот сообщил о его отъезде и принес его саквояж, в который фрау Грубах должна была уложить то, что сочтет нужным; затем он дал господину Дерзье ряд деловых поручений на время своего отсутствия (в этот раз почти не рассердившись на уже ставшую привычной невежливую манеру господина Дерзье выслушивать поручения глядя в сторону, так, словно он и сам прекрасно знает, что он должен делать, и эту дачу поручений рассматривает только как церемонию) и, наконец, отправился к директору. Когда он попросил директора предоставить ему двухдневный отпуск, поскольку ему нужно съездить к матери, тот, естественно, спросил, не заболела ли мать К.
– Нет, – сказал К. без каких-либо дальнейших разъяснений.
Он стоял посреди кабинета, заложив руки за спину, и напряженно размышлял, наморщив лоб. Не слишком ли он поторопился с этими приготовлениями к отъезду? Не лучше ли было бы ему остаться здесь? Зачем он туда едет? Или он хочет поехать туда просто из сентиментальности? И из-за этой сентиментальности, может быть, упустит здесь что-то важное, какую-то возможность вмешаться, которая может представиться в любой день и в любой час, особенно теперь, когда процесс, похоже, уже неделями не движется и почти ничего определенного о нем не слышно? И не испугает ли он к тому же старую женщину, чего он, естественно, не желает, но что очень легко может произойти помимо его желания, поскольку сейчас многое происходит помимо его желания, а мать его вовсе не зовет? Раньше в письмах кузена регулярно повторялись настойчивые приглашения матери, а теперь – нет, и уже давно. То есть он ехал туда не ради матери, это было ясно. Но если он ехал туда ради каких-то собственных надежд, то тогда он полный дурак, и окончательное отчаяние будет ему там наградой за его глупость. Однако все эти сомнения были словно бы не его собственные, их словно бы пытались внушить ему какие-то посторонние люди, и, буквально очнувшись, он остался при своем решении ехать. Директор, который в это время случайно или, что было более вероятно, из особой деликатности по отношению к К. отвлекся, склонившись над газетой, теперь тоже поднял глаза, встал, подал К. руку и, не задавая более никаких вопросов, пожелал ему удачной поездки.
Затем К. еще подождал посыльного, расхаживая вдоль и поперек по кабинету, отделался от заместителя директора, почти ничего ему не отвечая, когда тот несколько раз заходил осведомляться о причине отъезда К., и, получив, наконец, свой саквояж, сразу же поспешил вниз к заранее вызванному экипажу. В последний момент, когда К. уже сбегал с лестницы, наверху появился клерк Покатульрих с недописанным письмом в руке, по поводу которого он, очевидно, хотел получить от К. какие-то указания. К. на ходу отмахнулся от него, но этот туго соображавший большеголовый блондинчик неверно истолковал жест К. и опасными для жизни прыжками помчался, взмахивая своим листком, вдогонку за К. Последний был настолько этим раздосадован, что когда Покатульрих уже на ступенях крыльца догнал его, К. отнял у него письмо и разорвал в клочки. Оглянувшись уже из пролетки, К. увидел, что Покатульрих, по-видимому, все еще не осознававший своей ошибки, стоял на том же месте и смотрел вслед отъезжающему экипажу, а рядом с ним швейцар натягивал, низко надвигая на лоб, фуражку. Это означало, что К. все еще был одним из высших чиновников банка, и если бы он захотел это отрицать, швейцар бы его опроверг. А мать, несмотря на все возражения, считала его даже директором банка, причем уже не один год. В ее глазах он не мог упасть, как бы много он ни потерял во мнении прочих. Быть может, это было хорошим предзнаменованием – как раз перед своим отбытием убедиться в том, что он все еще чиновник, который имеет связи даже с судом, и может отнять и без всяких объяснений разорвать письмо, и руки у него после этого не отсохнут. [23]23
С этого места – зачеркнуто.
[Закрыть]
…Впрочем, сделать то, что он больше всего хотел бы сделать, закатить этому Покатульриху пару звонких оплеух по его бледным круглым щекам – он не мог. Но с другой стороны, это было, конечно, очень хорошо, потому что К. ненавидел Покатульриха, и не только Покатульриха, но и Лобноместера, и Трубанера. Ему казалось, что он ненавидит их с давних пор; хотя впервые он обратил на них внимание при их появлении в комнате фрейлейн Бюрстнер, но его ненависть была старше. И в последнее время К. почти страдал от этой ненависти, потому что не мог ее удовлетворить; к ним было очень трудно подступиться, в данный момент они были самыми низшими чиновниками, причем совершенно ничтожными, не способными продвинуться по службе – а если и способными, то лишь механически, с течением лет, но и то медленнее, чем кто бы то ни было, – и поэтому ставить им палки в колеса было почти невозможно, никакая чужой рукой вставленная палка не повредила бы больше, чем глупость Покатульриха, лень Лобноместера и отвратительная лакейская скромность Трубанера. Единственное, что можно было против них предпринять, это организовать их увольнение; добиться этого было бы даже очень просто, нескольких слов К., сказанных директору, было бы достаточно, но на это К. не мог решиться. Может быть, он сделал бы это, если бы заместитель директора, отдававший явное или тайное предпочтение всему, что К. ненавидел, вступился за этих троих, но для данного случая заместитель директора, как ни странно, сделал исключение и хотел того же, что и К.
Прокурор
Несмотря на опытность и знание людей, которые К. приобрел за долгое время службы в банке, круг завсегдатаев его пивной по-прежнему казался ему необыкновенно избранным, и он никогда сам от себя не скрывал, что принадлежать к такому обществу было для него большой честью. Общество это состояло почти исключительно из судей, прокуроров и адвокатов; допущены в него были и совсем юные чиновники и помощники адвокатов, однако они сидели в самом конце стола, и им позволялось вмешиваться в дебаты, только когда к ним обращались с вопросами. Такие вопросы, однако, задавались, большей частью, лишь с целью повеселить общество, и в особенности любил таким образом позорить молодых людей прокурор Хастерер, обычно сидевший рядом с К. Стоило прокурору положить на середину стола свою большую, покрытую густыми волосами руку с растопыренными пальцами и повернуться к дальнему концу стола, как все уже навостряли уши. И когда затем какой-нибудь из этих дальних, застигнутый вопросом, не мог сразу в нем разобраться, или задумчиво устремлял взгляд в свою кружку, или, вместо того чтобы говорить, начинал вхолостую двигать челюстями, или даже – это было хуже всего – неудержимым потоком извергал неверные или неавторитетные мнения, – тогда солидные господа усмехались, удобнее устраивались на своих местах и, казалось, лишь теперь начинали чувствовать себя комфортно. По-настоящему серьезная, профессиональная дискуссия оставалась забронированной только за ними.
К. был введен в это общество одним адвокатом, юрисконсультом его банка. Одно время К. пришлось вести с этим адвокатом долгие обсуждения банковских дел; беседы затягивались до позднего вечера и естественным образом завершались совместным ужином в этом кругу; К. нашел общество приятным. Он встретил здесь исключительно ученых, уважаемых и, в известном смысле, могущественных господ, отдых которых заключался в том, что они, прилагая максимум усилий, пытались разрешить трудные вопросы, лишь отдаленно связанные с повседневной жизнью. И хотя его участие в этом, естественно, не могло быть очень значительным, но он тем не менее получал возможность узнать многие вещи, которые раньше или позже могли ему пригодиться в банке, и, кроме того, завязать личные отношения с судом, иметь которые всегда полезно. Да и общество, кажется, приняло его благосклонно. Его авторитет специалиста вскоре был признан, и мнение К. по вопросам его компетенции принималось в качестве неоспоримого, хотя, как водится, и не без некоторой сопутствующей иронии. Нередко случалось, что двое господ, по-разному смотревших на какой-то вопрос из области торгового права, хотели узнать точку зрения К. на фактическую сторону дела, и имя К. затем мелькало во всех аргументах и контраргументах и прикладывалось к абстрактнейшим умозаключениям, нить которых К. очень быстро терял. Однако, многое ему со временем стало понятнее, в особенности помог этому прокурор Хастерер, в котором К. нашел хорошего соседа, всегда готового дать добрый совет, да и просто настроенного на дружеское сближение человека. К. даже нередко провожал его вечером домой. Он только долго не мог привыкнуть идти под руку со здоровенным мужчиной, который мог совершенно незаметно спрятать его под своей крылаткой.
Но со временем они так притерлись друг к другу, что все образовательные, профессиональные и возрастные различия между ними сгладились. У них установились такие отношения, словно они знали друг друга с давних пор, и если внешне в этих отношениях кто-то и оказывался иногда выше другого, то это был не Хастерер, а К., поскольку в большинстве случаев сказывался его практический опыт, приобретенный в таких непосредственных сношениях с клиентами, возможность которых судейский стол просто исключал.
Эта дружба, естественно, скоро стала достоянием всего сообщества, все уже наполовину забыли, кто привел туда К., во всяком случае, теперь он перешел под покровительство прокурора, и если бы возник вопрос, на каком основании К. там сидит, он с полным правом мог бы указать на Хастерера. Но К. таким образом занял особенно удобную позицию, ибо Хастерера в той же степени уважали, в какой и боялись. Мощь и изворотливость его юридической мысли были достойны удивления, впрочем, в этом отношении многие господа ему по меньшей мере не уступали, но никто не мог сравниться с ним в свирепости, с которой он отстаивал свое мнение. У К. сложилось впечатление, что если Хастереру и не удавалось убедить своего оппонента, то ему все же удавалось, по крайней мере, привести его в трепет; многие отшатывались уже от одного выброшенного вперед указательного пальца Хастерера. В таких случаях оппонент, похоже, забывал, что находится в обществе добрых знакомых и коллег, что речь идет все-таки только о теоретических вопросах и что на самом деле с ним никоим образом ничего не может случиться, – оппонент умолкал, и его покачивание головой уже было проявлением мужества. Случалось, что оппонент сидел далеко, и когда Хастерер, понимая, что на таком удалении никакого настоящего контакта возникнуть не может, отодвигал от себя тарелку с едой и медленно поднимался, чтобы дойти непосредственно до того человека, на это было нелегко смотреть. Сидевшие поблизости тогда запрокидывали головы, чтобы наблюдать за его лицом. Впрочем, это были лишь редкие единичные случаи; вообще же его приводили в возбуждение почти исключительно вопросы права, причем, главным образом, те, что касались процессов, которые он сам вел в прошлом или настоящем. Если же о таких вопросах речь не шла, он был дружелюбен и спокоен, улыбка его была любезна, а страстность обращалась на еду и питье. Случалось даже, что он вообще переставал поддерживать общую беседу, поворачивался к К., облокачивался рукой на спинку его стула и расспрашивал его вполголоса о банке, а потом сам принимался рассказывать о своей работе или о своих знакомых дамах, которые отнимали у него не меньше сил, чем суд. Никто не видел, чтобы он подобным образом разговаривал с каким-либо иным членом этого сообщества, так что те, кто хотели о чем-то попросить Хастерера, – большей частью речь шла о попытках устроить примирение с каким-нибудь коллегой – зачастую вначале обращались к К. с просьбами о посредничестве, которые он всегда охотно и легко удовлетворял. Он вообще был очень вежлив и скромен со всеми, отнюдь не используя в этом плане своей связи с Хастерером, и, что было еще важнее, чем вежливость и скромность, умел правильно оценивать место господ в табели о рангах и обращаться с каждым в соответствии с его рангом. К тому же Хастерер постоянно давал ему надлежащие инструкции; это были заповеди, которых и Хастерер даже в самых возбужденных дискуссиях никогда не нарушал, в отличие от прочих. Поэтому и к тем юным господам на дальнем конце стола, которые еще не имели почти никакого ранга, он обращался всегда только с общими вопросами, словно там были не отдельные лица, а лишь сплошная сбившаяся в кучу масса. Но именно эти господа выказывали ему наибольшее почтение, и когда около одиннадцати часов он поднимался, чтобы идти домой, кто-нибудь из них всегда тут же оказывался рядом, помогая надеть тяжелый плащ, а какой-нибудь другой, низко склоняясь, открывал перед ним дверь и, естественно, держал ее до тех пор, пока вслед за Хастерером не покидал зал и К.
И если в первое время К. лишь провожал Хастерера – или тот провожал К., – то позднее такие вечера, как правило, заканчивались тем, что Хастерер просил К. зайти с ним к нему в квартиру и побыть немного у него. Там они и проводили еще добрый час за шнапсом и сигарами. Эти вечера так полюбились Хастереру, что он не хотел отказываться от них даже тогда, когда у него в течение нескольких недель проживала некая дама по имени Элен. Это была толстая молодящаяся женщина с желтоватой кожей и черными локонами вокруг лба. Поначалу К. видел ее только в постели, обычно она вполне бесстыдно валялась там, читала очередной выпуск романа с продолжением и никакого интереса к разговору господ не проявляла. Только когда уже становилось поздно, она начинала потягиваться, зевать и, если не могла обратить на себя внимание другим способом, швыряла в Хастерера выпуском своего романа. Тогда Хастерер, улыбаясь, вставал, и К. откланивался. Однако позднее, когда Хастерер начал уставать от этой Элен, она уже ощутимо мешала их контактам. Она теперь всякий раз ожидала господ вполне одетой, более того, она, как правило, надевала платье, которое, по-видимому, считала очень шикарным и изящным и которое в действительности было старым вычурным бальным платьем; особенно неприятное впечатление производили несколько рядов длинной бахромы, навешанной на него для украшения. Как в точности выглядит это платье, К. вообще не знал, он, в некотором роде, избегал на него смотреть и часами сидел там опустив глаза, в то время как она ходила враскачку по комнате или сидела поблизости от него. Позднее, из-за того, что ее положение становилось все более шатким, она по необходимости даже пыталась возбудить ревность Хастерера, оказывая предпочтение К. Лишь эта необходимость, а никак не злость заставляла ее налегать на стол, выгибать оголенную круглую жирную спину и приближать к К. свое лицо, пытаясь таким образом заставить его поднять глаза. Она добилась этим лишь того, что К. начал уклоняться от посещений Хастерера; когда же через некоторое время он все-таки снова к нему зашел, Элен была уже окончательно отправлена в отставку, которую К. принял как нечто само собой разумеющееся. В этот вечер их встреча особенно затянулась, по инициативе Хастерера они пили брудершафты, и К., возвращаясь домой, чувствовал себя несколько оглушенным от всего этого питья и куренья.