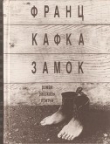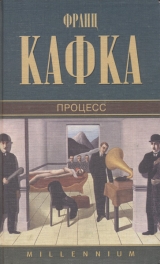
Текст книги "Собрание сочинений.Том 3."
Автор книги: Франц Кафка
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Войдя в главный неф, чтобы отыскать свое место, на котором он оставил альбом, К. заметил в одной из колонн, совсем рядом со скамьями певчих на хорах, маленькую боковую кафедру, очень скромную, из простого тусклого камня без резьбы. Она была столь мала, что издали походила на еще не заполненную нишу, предназначенную для статуи какого-нибудь святого. Проповеднику там наверняка и на один полный шаг нельзя было отступить от барьера. Кроме того, каменный свод кафедры был необычайно низким и, хоть и не имел украшений, но шел с таким изгибом, что человек среднего роста выпрямиться там не мог и должен был все время перегибаться вперед через барьер. Все это словно специально предназначалось для того, чтобы мучить проповедника, и было не понятно, зачем нужна эта кафедра, когда ведь имеется в распоряжении другая, большая и с таким искусством украшенная.
К. наверняка и не обратил бы внимания на эту маленькую кафедру, если бы там наверху не была прикреплена лампа, как это обычно делается незадолго перед началом проповеди. Так что же, сейчас, что ли, будет проповедь? В пустой церкви? К. опустил взгляд на лесенку, которая вела к кафедре, вжимаясь в колонну, и была так узка, словно должна была служить не человеку, а украшению колонны. Но внизу под кафедрой – К. даже улыбнулся от удивления – в самом деле стоял священник; положив руку на перила, уже готовый взойти, он смотрел на К. Затем он чуть заметно кивнул, К. в ответ перекрестился и поклонился, что, впрочем, ему следовало бы сделать раньше. Священник, предприняв маленький начальный рывок, стал быстрыми мелкими шажками всходить на кафедру. Что же, действительно сейчас будет проповедь? Так, может быть, и церковный сторож не совсем выжил из ума и старался подогнать К. поближе к проповеднику, что, разумеется, в пустой церкви было крайне необходимо? Кстати, ведь где-то тут перед каким-то образом Марии была еще одна старуха, ее тоже следовало пригнать. Но если уж будет проповедь, то ведь перед началом должен играть орган? Однако орган хранил молчание и только слабо мерцал во мраке своей огромной высоты.
К. подумал, не лучше ли ему сейчас как можно быстрее уйти отсюда; если он не сделает этого сейчас, то рассчитывать на то, что он сможет сделать это во время проповеди, уже не приходится, он тогда должен будет тут оставаться, пока она не кончится, и потеряет все это время для работы, а ждать итальянца он давно уже больше не обязан; он посмотрел на свои часы, было одиннадцать. Но может ли это быть, чтобы в самом деле стали читать проповедь? Может ли один К. представлять собой общину? А что, если бы он был какой-нибудь чужак, который хотел только осмотреть церковь? В сущности, ведь так оно и было. Сама мысль о том, что сейчас, в одиннадцать часов, в будний день, в такую отвратительнейшую погоду будут читать проповедь, казалась нелепой. Священник – а этот молодой человек с гладким смуглым лицом несомненно был священником – явно поднимался наверх только для того, чтобы погасить лампу, зажженную по ошибке.
Это, однако, было не так, напротив, священник проверил лампу и добавил еще немного света, затем медленно повернулся к барьеру и оперся обеими руками на его ребристый край. Некоторое время он стоял так и, не поворачивая головы, осматривался вокруг. К. отошел на приличное расстояние назад и оперся локтем на спинку передней скамьи. Размытым взглядом, не определявшим точного места, он заметил где-то согнутую, скрюченную фигуру церковного сторожа, выглядевшего удовлетворенным, как человек, который выполнил свою задачу. Какая тишина царила сейчас в соборе! Но К. должен был ее нарушить, он не намерен был здесь оставаться; если это был долг священника – читать в определенный час проповедь вне зависимости от обстоятельств, пусть читает, это у него получится и в отсутствие К., точно так же как присутствие К. определенно не усилит ее воздействия. И К. медленно, ощупью двинулся на цыпочках вдоль скамьи, затем выбрался в широкий главный проход и пошел по нему, так же совершенно беспрепятственно, разве что каменный пол откликался на самые легкие шаги и высокие своды слабо, но непрерывно отзывались многократным, неуклонно нарастающим эхом. Проходя в одиночестве меж рядов пустых скамеек, быть может, сопровождаемый взглядом священника, К. чувствовал себя как-то сиротливо, да и громада собора казалась ему чем-то лежащим уже на грани того, что еще способен вынести человек. Дойдя до своего прежнего места, он, не задерживаясь ни на миг, буквально кинулся на оставленный там альбом и схватил его. Он уже почти миновал зону скамеек и приближался к открытому пространству, отделявшему его от выхода, когда впервые раздался голос священника. Это был мощный, хорошо поставленный голос. Как он наполнял готовый к его восприятию собор! Но священник обратился совсем не к общине, это было совершенно ясно и не допускало никаких разночтений, – он выкрикнул: «Йозеф К.!»
К. замер на месте, глядя перед собой в пол. Он пока еще был свободен, он мог еще двинуться дальше и сквозь одну из трех маленьких темных деревянных дверей, которые были уже недалеко от него, выйти отсюда на волю. И это значило бы, что он просто не расслышал или что он хотя и расслышал, но не захотел обратить внимания. Но если он обернется, то тогда он уже задержан, потому что тогда он признается, что он все хорошо расслышал, что он действительно тот, кого окликнули, и что он готов подчиниться. Если бы священник крикнул во второй раз, К. точно бы ушел, но поскольку, пока К. ожидал, вокруг тоже было тихо, то он повернул немного голову, потому что хотел увидеть, что сейчас делает священник. Тот спокойно стоял на кафедре так же, как и раньше, но было ясно видно, что этот поворот головы К. он заметил. Если бы К. теперь не повернулся полностью, это было бы детской игрой в прятки. Он сделал это, и священник пригласил его подойти поближе, поманив пальцем. Поскольку теперь игра уже шла в открытую, К. побежал – он сделал это из любопытства, но также и для того, чтобы все быстрее закончилось, – длинными, летящими скачками он побежал к кафедре. У первого ряда скамеек К. остановился, но расстояние показалось священнику все еще слишком большим, он вытянул руку и опущенным круто вниз указательным пальцем указал на место прямо перед кафедрой. К. вновь подчинился; на этом месте ему уже приходилось далеко назад запрокидывать голову, чтобы увидеть священника.
– Ты Йозеф К., – сказал священник и поднял руку с барьера в каком-то неопределенном жесте.
– Да, – сказал К.; он думал о том, что раньше он всегда совершенно свободно называл свое имя, однако с некоторых пор оно стало для него обузой, а теперь вот его имя знают даже те люди, которых он впервые видит; как все-таки замечательно, когда ты сначала представляешься и только после этого становишься известен.
– Ты обвиняемый, – сказал священник, как-то по-особому понизив голос.
– Да, – сказал К., – меня об этом известили.
– Тогда ты тот, кого я ищу, – сказал священник. – Я тюремный капеллан.
– Ах, вот оно что, – сказал К.
– Я попросил вызвать тебя сюда, – сказал священник, – чтобы поговорить с тобой.
– Я этого не знал, – сказал К. – Я пришел сюда, чтобы показать собор одному итальянцу.
– Оставь суету, – сказал священник. – Что у тебя в руках? Это молитвенник?
– Нет, – ответил К. – Это альбом городских достопримечательностей.
– Освободи от него руки, – сказал священник.
К. так резко отшвырнул от себя альбом, что тот раскрылся в полете и потом заскользил, сминая страницы, по полу.
– Тебе известно, что твое дело складывается плохо? – спросил священник.
– Мне и самому так кажется, – сказал К. – Я старался, как только мог, но пока безуспешно. Правда, заявление у меня еще не готово.
– Как ты представляешь себе финал? – спросил священник.
– Раньше я думал, что все должно хорошо кончиться, – сказал К., – а теперь я иногда и сам в этом сомневаюсь. Я не знаю, как все закончится. А ты это знаешь?
– Нет, – сказал священник, – но я боюсь, что кончится это плохо. Тебя считают виновным. Твой процесс, возможно, даже не выйдет из нижних судебных инстанций. По крайней мере, на сегодняшний день твоя вина считается доказанной.
– Но я невиновен, – сказал К., – это ошибка. И как вообще один человек может быть виновен? А мы здесь все – люди, и все – как один.
– Это верно, – сказал священник, – но так обычно говорят виновные.
– Ты тоже предубежден против меня? – спросил К.
– У меня нет предубеждения против тебя, – сказал священник.
– Спасибо тебе, – сказал К., – но все остальные, кто участвует в процессе, предубеждены против меня. А они влияют и на тех, кто не участвует. И мое положение становится все тяжелее.
– Ты превратно толкуешь факты, – сказал священник, – приговор по делу возникает не вдруг, само производство по делу постепенно переходит в приговор.
– Вот, значит, как, – сказал К. и опустил голову.
– Что ты собираешься дальше предпринять по своему делу? – спросил священник.
– Я собираюсь еще искать помощи, – сказал К. и поднял голову, чтобы увидеть, как священник к этому отнесется. – Есть еще некоторые возможности, которые я пока не использовал.
– Слишком уж ты надеешься на чужую помощь, – неодобрительно сказал священник, – в особенности – на женскую. Разве ты не видишь, что это не настоящая помощь?
– В некоторых – и даже во многих случаях я бы с тобой согласился, – сказал К., – но не во всех. Женщины имеют большую власть. Если бы я смог нескольких женщин, которых я знаю, склонить к сотрудничеству со мной, это был бы прорыв. Особенно в этом суде, который почти целиком состоит из кобелей. Покажи этому следователю издалека какую-нибудь женщину, и он перескочит и через судейский стол, и через обвиняемого, лишь бы только успеть добежать вовремя.
Священник склонил голову к барьеру, казалось, что только теперь свод кафедры придавил его. Что же это за погода должна быть снаружи? Это был уже не просто хмурый день, это была глубокая ночь. Витражи высоких окон не могли бросить ни единого светлого блика на темные стены. И как раз в это время сторож начал гасить одну за другой свечи главного алтаря.
– Ты сердишься на меня? – спросил К. у священника. – Ты, может быть, и не знаешь, какому суду ты служишь.
Ответа не было.
– Я ведь это просто по своему опыту, – сказал К.
Наверху по-прежнему было тихо.
– Я не хотел тебя обидеть, – сказал К.
И тогда священник закричал на К. сверху:
– Ты что, на два шага вперед уже не видишь?
Это был крик гнева, но в то же время и такой, словно кричавший увидел, как падает человек, и, сам испугавшись, нерасчетливо, невольно закричал.
Оба долго молчали. Священник наверняка не мог отчетливо различить К. в царившей внизу темноте, в то же время К. ясно видел священника, освещенного маленькой лампой. Почему бы священнику не спуститься вниз? Ведь он не проповедь читает, а только сообщает К. сведения, которые, если отнестись к ним с полным вниманием, по всей вероятности, принесут К. больше вреда, чем пользы. Но в благих намерениях священника К. не сомневался, и, если бы тот спустился вниз, почему он не мог бы присоединиться к К.? В этом не было ничего невозможного. И почему К. не мог бы получить от него какой-то решающий совет, которому можно было бы последовать, который мог бы ему, например, указать даже не то, как воздействовать на процесс, а как вырваться из процесса, как обойти его, как вообще можно жить вне процесса? И в этом не было ничего невозможного, такая возможность должна была существовать. В последнее время К. не раз о ней думал. Но знал ли этот священник о такой возможности? рассказал бы он о ней, если его попросить? ведь он сам принадлежал к суду, ведь он, когда К. напал на этот суд, даже совершил насилие над своим мягким характером и наорал на К.
– Ты не хочешь спуститься? – спросил К. – Ведь никакой проповеди не будет. Спустись ко мне вниз.
– Теперь я уже могу спуститься, – сказал священник; возможно, он сожалел о том, что кричал, и, снимая лампу с крюка, сказал: – Мне нужно было сначала поговорить с тобой на расстоянии. А то я слишком легко поддаюсь влиянию и забываю о службе.
К. ждал его внизу у лестницы. Священник спускался и, еще находясь на одной из верхних ступенек, уже протягивал К. руку.
– Найдется у тебя немного времени для меня? – спросил К.
– Столько, сколько тебе нужно, – сказал священник и подал К. свою маленькую лампу, чтобы К. ее нес; некоторая торжественность его облика не исчезала даже вблизи.
– Ты очень любезен со мной, – сказал К.; они прогуливались в темном боковом приделе взад и вперед. – Ты исключение среди всех, принадлежащих к суду. Я тебе больше доверяю, чем любому из них, а я уже многих там знаю. С тобой я могу быть откровенным.
– Не заблуждайся, – сказал священник.
– В каком смысле я заблуждаюсь? – спросил К.
– В смысле суда ты заблуждаешься, – сказал священник. – Во введении к Закону об этом заблуждении сказано так. У врат Закона стоит страж. К этому стражу подходит человек из народа и просит допустить его к Закону. Но страж говорит, что сейчас допустить его не может. Человек задумывается и затем спрашивает, не допустят ли его, может быть, позже. «Это возможно, – говорит страж, – а сейчас – нет». Поскольку врата Закона, как всегда, открыты, а страж отошел в сторону, человек наклоняется, пытаясь сквозь врата заглянуть внутрь. Страж замечает это, смеется и говорит: «Если тебя уж так туда тянет, попробуй войти, переступив через мой запрет. Но учти: у меня длинные руки. И ведь я всего лишь младший страж. А там в каждом зале по стражу, и у каждого следующего руки длиннее, чем у предыдущего. Уже одного вида третьего даже я не могу вынести». Таких затруднений человек из народа не ожидал. Закон же должен быть доступен всем и всегда, думает он, но затем, повнимательнее присмотревшись к этому стражу в его шубе, с его крупным острым носом и его длинной редкой черной татарской бородой, все-таки решает, что лучше уж он подождет, когда ему предоставят допуск. Страж дает ему скамеечку и разрешение присесть сбоку перед вратами. Там сидит он дни и годы. Он делает много попыток получить допуск и утомляет стража своими просьбами. Страж периодически устраивает ему маленькие допросы, спрашивает, откуда он родом и многое другое, но задает все эти вопросы равнодушно – так задают вопросы важные господа – и в конце всякий раз говорит ему, что пока еще допустить его не может. Человек, много всего взявший с собой в дорогу, употребляет все, даже самое дорогое, для того, чтобы подкупить этого стража. А страж, хотя и принимает все, но при этом говорит: «Я беру это только для того, чтобы ты не думал, что ты что-то упустил». Долгие годы человек почти непрерывно наблюдает за стражем. Он забывает о других стражах, и этот первый кажется ему единственным препятствием для получения допуска к Закону. В первые годы он громко проклинает эти несчастные обстоятельства, потом, постарев, уже только ворчит себе под нос. Он впадает в детство, и поскольку за долгие годы изучения стража он узнал уже всех блох в воротнике его шубы, то он просит и их помочь ему и переубедить стража. В конце концов зрение его слабеет, и он уже не знает, действительно ли вокруг стало темней или это только глаза его обманывают. Зато теперь в темноте он различает немеркнущее сияние, которое исходит из врат Закона. Но жить ему остается уже недолго. И перед смертью все наблюдения, сделанные им за это время, выстраиваются в его голове в один вопрос, которого до сих пор он стражу еще не задавал. Он кивком подзывает его, поскольку уже не может распрямить свое коченеющее тело. Стражу приходится низко нагибаться к нему, так как разница в росте сильно изменилась не в пользу человека. «Что ты теперь еще хочешь узнать? – спрашивает страж. – Ты какой-то ненасытный». «Закон ведь нужен всем, – говорит человек, – как же так вышло, что за все эти долгие годы никто, кроме меня, не просил допустить его?» Страж видит, что человек уже угасает, и, чтобы слова еще достигли его закрывающегося слуха, ревет: «Здесь никого больше не допустили бы, потому что этот вход предназначался только для тебя. И сейчас я иду его закрывать».
– То есть страж обманул человека, – сразу же сказал К., которого эта история очень сильно заинтересовала.
– Не будь слишком поспешен, – сказал священник, – и не принимай чужих мнений, не проверив их. Я рассказал тебе эту историю дословно, так, как она написана. О каком-то обмане в ней ничего не говорится.
– Но это же ясно, – сказал К., – и твое первое толкование было совершенно правильным. Этот страж сделал свое спасительное сообщение, когда оно уже не могло помочь человеку.
– Его раньше не спрашивали, – сказал священник, – и учти, что он всего лишь страж и как таковой он исполнил свой долг.
– Почему ты считаешь, что он исполнил свой долг? – спросил К. – Он его не исполнил. Его долг, по-видимому, состоял в том, чтобы не допустить к Закону никого из чужих, но того человека, для которого этот вход предназначался, он должен был допустить.
– Ты недостаточно уважаешь букву Закона и переделываешь историю, – сказал священник. – История содержит два важных разъяснения стража о допуске к Закону, одно в начале и одно в конце. В одном случае он говорит, что сейчас допустить его не может, а в другом: этот вход предназначался только для тебя. Если бы между двумя этими разъяснениями имелось противоречие, тогда ты был бы прав, и страж обманул бы человека. Но противоречия нет. Напротив, первое разъяснение даже содержит намек на второе. Тут почти что можно было бы сказать, что страж, когда он говорит человеку о возможности допустить его впоследствии, выходит за рамки того, что предписывает ему долг. В тот момент его долг, как представляется, заключался лишь в том, чтобы не допустить человека к Закону; и действительно, многие комментаторы удивляются тому, что страж вообще делает этот намек, поскольку он, судя по всему, любит точность и строго блюдет свою службу. Он долгие годы не покидает свой пост и закрывает врата только в самом конце, он очень ясно осознает свое служебное значение, поскольку говорит: «У меня длинные руки», он уважает субординацию, поскольку говорит: «Я всего лишь младший страж», он не болтлив, поскольку вопросы, которые он задает все эти долгие годы, он, как сказано, задает «равнодушно», он не продажен, поскольку о подарке он говорит: «Я беру это только для того, чтобы ты не думал, что ты что-то упустил», когда речь идет об исполнении долга, его нельзя ни разжалобить, ни разозлить, поскольку о человеке сказано: «Он утомляет стража своими просьбами», наконец, и его внешность указывает на педантичный характер: крупный острый нос и длинная редкая черная татарская борода. Можно ли представить стража, более верного своему долгу? Однако в характере стража присутствуют еще и другие черты, наличие которых весьма благоприятно для просящего допуск и каким-то образом объясняет, как мог этот страж все-таки выйти за рамки своего долга в том намеке на некую будущую возможность. А именно не приходится отрицать, что страж Закона несколько ограничен и, в связи с этим, несколько чванлив. И даже если его высказывания о его длинных руках, и о длинных руках других стражей Закона, и об их даже для него невыносимом виде, – даже если все эти высказывания сами по себе и справедливы, то манера, в которой он делает эти высказывания, по-моему, все-таки показывает, что его ограниченность и надменность мешают ясности взгляда. Комментаторы по этому поводу говорят: «Верный взгляд на вещи и превратное понимание этих же вещей не являются полностью взаимоисключающими». Но, во всяком случае, нужно признать, что его ограниченность и надменность, даже если они, может быть, и очень слабо выражены, тем не менее ослабляют охрану входа и являются недостатками в характере стража. Сюда надо прибавить и то, что этот страж в силу наклонностей своей натуры выглядит дружелюбным и отнюдь не всегда выступает как должностное лицо. Буквально в первое же мгновение он начинает шутить шутки, предлагая человеку войти, переступив через остающийся в силе недвусмысленный запрет, далее, он не только не прогоняет его, но, как сказано, дает ему скамеечку и разрешение присесть сбоку перед вратами. Терпение, с которым он все эти годы переносит просьбы человека, маленькие допросы, принятие подарков, великодушие, с которым он допускает, что человек рядом с ним громко проклинает несчастные обстоятельства, поставившие здесь стража, – все это позволяет говорить о присущем ему чувстве сострадания. Не всякий страж вел бы себя таким образом. И, наконец, он же еще низко нагибается к человеку, откликаясь на его кивок и предоставляя ему возможность задать последний вопрос. Только когда он говорит: «Ты какой-то ненасытный», в его словах выражается легкое нетерпение, поскольку он ведь знает, что все уже кончено. В такого рода комментариях некоторые заходят и еще дальше, полагая, что слова «ты какой-то ненасытный» выражают своего рода дружеское восхищение, не свободное, впрочем, от снисходительности. Как бы там ни было, фигура стража выглядит здесь иначе, чем ты ее себе представляешь.
– Ты знаком с этой историей лучше и дольше, чем я, – сказал К.
Они немного помолчали. Потом К. сказал:
– Так ты, значит, считаешь, что человека не обманули?
– Не толкуй мои слова превратно, – сказал священник, – я только представил тебе мнения, которые существуют на этот счет. Ты не должен обращать слишком большое внимание на мнения. Буква Закона неизменна, и мнения зачастую – всего лишь выражения связанного с этим отчаяния. А по этому случаю есть даже такое мнение, что обманутым оказался как раз страж.
– Это какое-то отвлеченное мнение, – сказал К. – Чем оно обосновано?
– При его обосновании исходят из ограниченности стража, – сказал священник. – Он, как утверждают, не знает, что там, внутри Закона, а знает только ту дорожку, по которой он должен снова и снова проходить перед вратами. Его представления о внутреннем содержании Закона считают детскими и полагают, что того, чем он пытается запугать человека, он боится сам. Он даже боится этого больше, чем человек, так как тот хочет получить доступ к Закону даже тогда, когда узнаёт об ужасных внутренних стражах, страж же, напротив, не хочет получать доступ, по крайней мере, об этом ничего не известно. Кое-кто утверждает даже, что страж уже должен быть в Законе, потому что он ведь когда-то был принят и находится теперь на службе у Закона, а это могло произойти, только если он был в Законе. На это отвечают, что он ведь мог и просто по зову изнутри стать стражем и что, по крайней мере, глубоко внутрь Закона он проникнуть не мог, поскольку он ведь не может выносить вида уже третьего стража. А кроме того, нигде не сообщается, что за эти долгие годы он что-либо рассказывал о внутреннем содержании Закона, помимо замечания о стражах. Это могло быть ему запрещено, но и о таком запрещении он тоже не рассказывал. Из всего этого заключают, что о виде и значении внутреннего содержания Закона он ничего не знает и обманывается на этот счет. Но он, как считают, обманывается и на счет человека из народа, ибо он стоит ниже этого человека, но сам об этом не подозревает. То, что он обращается с человеком, как с нижестоящим, видно из многих эпизодов, которые ты еще должен помнить. Но и то, что на самом деле он является нижестоящим по отношению к человеку, согласно такому мнению, столь же очевидно. Прежде всего ясно, что свободный человек выше по положению, чем человек чем-то связанный. Ну, человек из народа в самом деле свободен, он может идти, куда хочет, только доступ к Закону для него закрыт, да и то лишь одним этим стражем. И если он садится на скамеечку сбоку перед вратами и сидит на ней всю свою жизнь, то он это делает добровольно, в истории ни о каком принуждении не упоминается. Напротив, страж привязан службой к своему посту, он не может далеко отойти, но, судя по всему, не может и зайти внутрь, даже если бы захотел. Кроме того, хоть он и на службе у Закона, но служит только этому входу, то есть опять-таки только тому человеку, для которого этот вход и предназначен. И по этой причине тоже он стоит ниже человека. Далее, надо полагать, что многие годы, занимающие целый период взросления человека, страж служит в каком-то смысле впустую, поскольку сказано, что приходит человек, это значит – некто взрослый, а это значит, что стражу приходится долго ждать исполнения своего предназначения, и причем ждать так долго, как заблагорассудится человеку, который приходит ведь добровольно. Но и окончание его службы, в свою очередь, определяется концом жизни человека, таким образом, страж остается нижестоящим по отношению к человеку до конца. И хотя постоянно подчеркивается, что страж обо всем этом, по-видимому, ничего не знает, в этом не видят ничего особенного, поскольку, согласно этому мнению, страж является жертвой еще и другого, куда более серьезного обмана, касающегося его службы. В самом деле, в конце он говорит о входе так: «И сейчас я иду его закрывать», но в начале сказано, что врата Закона «как всегда, открыты», то есть врата открыты всегда, а «всегда» – это значит независимо от срока жизни человека, для которого они предназначены, но тогда и этот страж не сможет их закрыть. На этот счет мнения расходятся: может быть, страж, объявляя, что он закроет врата, просто хотел что-то ответить, или подчеркнуть, что выполняет свой служебный долг, или успеть еще в последний момент погрузить человека в тоску и сожаления. Многие, однако, сходятся на том, что закрыть врата он не сможет. Мало того, они полагают, что он, по крайней мере в конце, даже по своим знаниям стоит ниже человека, поскольку тот видит сияние, исходящее из врат, тогда как этот, по всей видимости, стоит спиной ко входу и ни одним высказыванием не дает понять, что заметил какое-то изменение.
– Это хорошее обоснование, – сказал К., повторявший для себя вполголоса отдельные места из объяснения священника. – Это хорошее обоснование, и я теперь тоже думаю, что страж был обманут. Но я не отказываюсь и от моего прежнего мнения, потому что они оба частично совпадают. Трезво ли смотрит страж, или он обманывается, это ничего не решает. Я-то говорил о том, что обманут человек; если страж смотрит на вещи трезво, то в этом можно усомниться, но если страж обманывается, то его самообман неизбежно должен перейти и на человека. Страж в этом случае если и не лжив, то настолько наивен, что его следовало бы немедленно выгнать со службы. Ты ведь должен учесть, что самообман, в котором пребывает страж, ничем ему не вредит, но зато в тысячу раз сильнее вредит человеку.
– Здесь ты вступаешь в конфликт с противоположным мнением, – сказал священник. – А именно, многие говорят, что эта история никому не дает права судить о страже. Каким бы он нам ни казался, но он все-таки слуга Закона и, таким образом, от человеческого суда ускользает. А тогда уже нельзя и считать, что этот страж стоит ниже человека. Иметь служебную связь даже только со входом в Закон значит несравненно больше, чем жить свободным в свободном мире. Человек еще только приходит к Закону, а страж – уже там. Он призван на службу Законом, и сомневаться в его соответствии этому высокому призванию значило бы сомневаться в Законе.
– С этим мнением я не согласен, – сказал, покачав головой, К., – потому что, если к нему присоединиться, тогда нужно все, что говорит страж, принимать за истину. Но ты же сам подробно обосновал, что это невозможно.
– Нет, – сказал священник, – не нужно все принимать за истину, нужно только принимать это как необходимость.
– Неутешительное мнение, – сказал К. – Ложь становится основой миропорядка. [19]19
Вычеркнуто автором:
Он произнес это и осекся; ему пришло в голову, что он сейчас обсуждает и оценивает какую-то притчу, но он же совсем не знал того писания, из которого была взята эта притча, и точно так же неизвестны ему были и ее толкования. Он был втянут в совершенно неизвестный ему круг мыслей. Неужели этот священник был таким же, как все остальные, и собирался говорить о деле К. лишь намеками, и, может быть, сбить его этим с пути, и под конец замолчать? За этими размышлениями К. позабыл о лампе, она начала чадить, и К. заметил это лишь тогда, когда дым уже вился вокруг его подбородка. Он попытался теперь подкрутить фитилек пониже, и свет потух. К. стоял в полной темноте, он даже не знал, в каком месте собора он находится. Поскольку и вокруг него было тихо, он спросил:
– Где ты?
– Здесь, – сказал священник и взял К. за руку: – Зачем ты дал лампе погаснуть? Идем, я отведу тебя в ризницу, там есть свет.
К. был очень рад возможности уйти из зала собора; это высокое, широкое пространство, которое просматривалось лишь на самое короткое расстояние, угнетало его, он уже не раз, сознавая всю бесполезность этого, обращал взгляд вверх, и всякий раз со всех сторон ему навстречу буквально слетала темнота. Направляемый рукой священника, он торопливо пошел за ним.
Лампа, горевшая в ризнице, была еще меньше той, что нес К. К тому же висела она так низко, что освещала почти только пол ризницы, которая была узкой, но, по всей вероятности, такой же высокой, как и сам собор.
– Как темно везде, – сказал К. и прикрыл ладонью глаза, словно они болели от его напряженных попыток определить свое место.
[Закрыть]
К. произнес это как заключение, но это не был его окончательный приговор. Он был слишком утомлен, чтобы суметь охватить все выводы из этой истории, к тому же он сталкивался здесь с непривычными ходами мысли, с какими-то ирреальными вещами, больше подходившими для обсуждения в обществе судейских чиновников, чем здесь. Простая история превращалась во что-то бесформенное, хотелось стряхнуть ее с себя, и священник, проявив тут большой такт, стерпел это и принял высказывание К. молча, хотя оно наверняка не совпадало с его собственным мнением.
Они еще некоторое время шли молча, К. держался поближе к священнику, не ощущая, где находится. Лампа в его руке давно уже погасла. Серебряная статуя какого-то святого один раз блеснула прямо перед ним – именно блеском серебра – и тут же вновь растворилась в темноте. Чтобы не оставаться целиком зависимым от священника, К. спросил его:
– Мы сейчас не вблизи главного входа?
– Нет, – сказал священник, – мы сейчас вдали от него. Ты уже хочешь уходить?
Хотя именно сейчас К. об этом не думал, он сразу же сказал:
– Конечно, мне пора уходить. Я прокурист одного банка, меня ждут, я пришел сюда, только чтобы показать собор иностранному контрагенту.
– Что ж, – сказал священник и протянул К. руку, – тогда иди.
– Но один в темноте я не смогу сориентироваться, – сказал К.
– Иди налево, пока не упрешься в стену, – сказал священник, – потом вперед по стенке, не отрываясь от нее, и ты найдешь выход.
Священник отдалился всего на несколько шагов, но К. уже очень громко закричал:
– Пожалуйста, подожди еще.
– Я жду, – сказал священник.
– Тебе больше ничего от меня не нужно? – спросил К.
– Нет, – сказал священник.
– Ты раньше так по-дружески говорил со мной, – сказал К., – и все мне объяснял, а теперь отпускаешь меня, как будто я для тебя пустое место.
– Тебе же пора уходить, – сказал священник.
– Ну да, – сказал К., – ты ведь должен понять меня.
– Сначала ты должен понять, кто я, – сказал священник.
– Ты тюремный капеллан, – сказал К. и подошел ближе к священнику; его немедленное возвращение в банк не было так необходимо, как он это представлял, он вполне еще мог побыть здесь.
– Следовательно, я принадлежу к суду, – сказал священник. – Так почему мне должно быть что-то от тебя нужно? Суду от тебя ничего не нужно. Он принимает тебя, когда ты приходишь, и он отпускает тебя, когда ты уходишь.