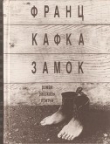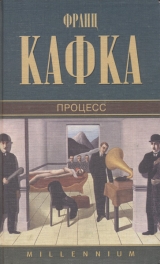
Текст книги "Собрание сочинений.Том 3."
Автор книги: Франц Кафка
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
5
Образы Кафки печальны и ущербны, таков его мир даже там, где видно желание подняться над ним, как, например, в «Оклахомском Открытом Натуртеатре» [63]63
«Америка», гл. 8.
[Закрыть](Кафка словно предвидел исход работников из своего государства) или в «Заботе отца семейства»; богатые подробностями, будто снятые со вспышкой кадры; меловая бледность монголоидных лиц мелких обывателей, словно вышедших из свадебной картины Анри Руссо; и запах – запах непроветренных перин, и цвет – красный цвет матрацев, с которых сняли и унесли чехлы; страх, который вызывает Кафка, это страх перед рвотой. И тем не менее главное в его творчестве – реакция на неограниченную власть. Беньямин называл эту власть – власть свирепствующих патриархов – паразитической: она пожирает ту жизнь, над которой тяготеет. Но момент паразитизма своеобразно смещен. В клопа превращается Грегор Замза, [64]64
Герой новеллы «Превращение».
[Закрыть]а не его отец. Липшими оказываются не власти предержащие, а бессильные герои; полезной для общества работы не выполняет ни один из них (в строку ставится даже то, что обвиняемый прокурист банка Йозеф К., целиком захваченный процессом, не способен сделать ничего стоящего). Они только ползают взад-вперед среди предметов давно изношенного реквизита, и их существование дается им лишь как подаяние, так как они продолжают существовать за пределами собственной жизни. В этой смещенности отражен идеологический навык прославлять воспроизводство жизни как акт благодеяния вершителя судеб, «работодателя». Она описывает некое целое, в котором те, кого оно охватывает и благодаря которым поддерживает себя, становятся излишни. Но убогое у Кафки этим не исчерпывается. Оно есть криптограмма на блескуче-зеркальной полировке поздней фазы капитализма, которого он умышленно не изображает, чтобы тем точнее определить его по его негативному изображению. Кафка сквозь увеличительное стекло показывает грязные отпечатки пальцев власти на страницах подарочного издания книги жизни. Ибо никакой мир не мог бы быть более унифицированным, чем мир подавления, который у Кафки силой страха маленького обывателя спрессован до тотальности, логически совершенно замкнутой и лишенной смысла, как всякая система. Все, что он рассказывает, принадлежит одному и тому же порядку вещей. Все его истории разыгрываются в одном и том же лишенном измерений «подпалубном» пространстве, где так тщательно законопачены все швы, что невольно вздрагиваешь, натыкаясь на упоминание о чем-то, чему там места нет, вроде Испании или Южной Франции в одном месте «Замка», – тогда как вся Америка вписывается в это пространство как имаго [65]65
Имаго ( лат.imago – образ, картина) – в аналитической психологии К.-Г. Юнга: бессознательный значимый образ.
[Закрыть]жилой палубы. Лабиринтоописания Кафки связаны друг с другом, как связаны между собой мифологии. Но для этого континуума низменное, путаное, порченое так же существенно, как коррупция и преступная асоциальность для тотального господства и как любовь к нечистотам для культа гигиены. Умозрительные и политические системы не терпят ничего непохожего на них. Однако чем больше они укрепляются, чем больше приводят существующее к единообразию, тем больше они его в то же время подавляют и тем больше удаляются от него. Именно поэтому самое малое «отклонение», угрожающее нарушить общий принцип, становится так же непереносимо, как непереносимы властям чужаки и шатуны-одиночки в произведениях Кафки. Интеграция есть дезинтеграция, и в ней мифологические чары сходятся с господствующей рациональностью. Так называемая проблема случайности, над которой бьются философские системы, порождена ими самими: только из-за их собственной непреклонности смертельным врагом для них становится все, что проскользнуло сквозь их сито, – подобно тому, как мифическая царица не может найти покоя, пока где-то за дальними горами жива соперница, превосходящая красотой ее, сказочную красавицу. Нет системы без осевшей гущи – по ней Кафка и предсказывает. Если все, что появляется в его насильственном мире в облике совершенно необходимого, комбинируется со свойственным убогости обликом совершенно случайного, то проклятый зашифрованный закон прочитывается в своем зеркальном изображении. Законченная неправда содержит противоречие в самой себе, поэтому нет необходимости явно ей противоречить. Кафка создает портрет монополизма из мусора, оставшегося от либеральной эры, ликвидированной монополизмом. Этот текущий момент истории, а не что-то вневременное, якобы просвечивающее сквозь историю, есть кристаллизация его метафизики, и вечность для него – не что иное, как раскрывшаяся в картинах вчерашнего дня вечность бесконечно повторяющейся жертвы. «Страшный суд отдален от нас только нашим понятием времени, а ведь это, собственно говоря, военно-полевой суд». [66]66
Афоризм № 40 из «Рассуждений о грехе…».
[Закрыть]От заклания нас всегда отделяет лишь один день: жертвоприношение свершилось вчера. Именно поэтому Кафка почти всегда избегает прямых указаний на предысторию (выезжающее верхом на ведре порождение угольной нужды – редкое исключение). Его произведения герметичны и по отношению к истории: [67]67
Адорно использует традиционное разделение понятия истории на «Historie» – «естественную», «природную» историю («сырой материал», по выражению Кьеркегора) и «Geschichte» – действенную историю, которая в качестве места деятельности Бога не подчиняется естественным законам и неподвластна времени.
[Закрыть]на это понятие наложено табу. Вечности исторического мгновения соответствует концепция разрушенности природы и инвариантности хода истории; это абсолютно преходящее равносильно вечности прехождения, вечности проклятия. Имя истории не должно быть названо, ибо то, что было бы историей, Другое еще не начало. «Верить в прогресс не значит верить в то, что какой-то прогресс уже произошел». [68]68
Первая фраза афоризма № 48 из «Рассуждений о грехе…». (Опущенная Адорно вторая фраза: «Это не было бы верой».)
[Закрыть]Историческое является у Кафки в статичной по виду, зачастую ремесленной или крестьянской обстановке, обстановке простого товарного хозяйства, и является только на суд, но на суд вызывается и сама эта обстановка. В его театре есть только устаревшие декорации; о «низком вытянутом здании», играющем роль школы, говорится, что в его облике «удивительным образом сочетались черты старинного строения и времянки». [69]69
«Замок», гл. 1.
[Закрыть]Едва ли не таковы же и люди. Устаревшее – это позорное клеймо на настоящем, и Кафка дает реестр таких знаков позора. Но в то же время – и такую картину, в которой детям, столкнувшимся с крушением вчерашнего мира, вообще впервые открывается историческое; он дает «детскую картину современности» и в ней – завещание надежды на то, что история когда-нибудь еще сможет быть. «Чувство человека, попавшего в беду – и приходит помощь, но он радуется не тому, что спасен – он вовсе и не спасен, – а тому, что пришли новые молодые люди, уверенные, готовые вступить в борьбу, и хотя они наивны в отношении того, что им предстоит, но наивность их такова, что она не вызывает у наблюдателя ощущения безнадежности, она вызывает у него восхищение, радость, слезы. Примешивается сюда и ненависть против тех, к кому относится борьба». [70]70
Фрагмент дневниковой записи Кафки от 13 марта 1922 года.
[Закрыть]А вот воззвание к этой борьбе. «В нашем доме, в этом чудовищном многоквартирном доходном доме, проросшем на окраине сквозь неразрушимую средневековую рутину, сегодня, туманным, промозглым зимним утром, было распространено следующее воззвание:
Ко всем моим товарищам по дому!
У меня есть пять игрушечных ружей. Они висят у меня в шкафу, каждое на отдельном крючке. Первое – мне, на остальные могут подавать заявки все желающие. Если заявителей окажется больше четырех, все лишние должны будут принести свои собственные ружья и депонировать их в мой шкаф. Потому что должно соблюдаться единообразие, без единообразия мы ничего не добьемся. Впрочем, у меня только такие ружья, которые для иного использования совершенно непригодны: механизмы испорчены, пробки оторваны, только курки пока что щелкают. Так что в случае необходимости нетрудно будет достать еще таких ружей. Мы, те, у кого есть ружья, в решительный момент возьмем безоружных в середину. Такой боевой порядок с успехом применялся первыми американскими фермерами против индейцев – отчего же ему не быть успешным и здесь, ведь обстоятельства аналогичны. Таким образом можно даже продолжительное время обходиться без ружей, и даже эти пять ружей не являются безусловно необходимыми, и только потому, что они уже есть, их и следует использовать. Если же вы не захотите нести четыре остальных, то вы должны оставить их там, где они находятся. Тогда, следовательно, только я понесу одно – как вождь. Но у нас не должно быть вождей, так что и я свое ружье сломаю или отставлю в сторону.
Это было первое воззвание. Читать или, тем более, обдумывать воззвания в нашем доме ни времени, ни желания нет. Вскоре эти маленькие бумажки плавали вместе с мусором в воздушном потоке, который, беря исток на чердаке и подпитываясь из всех коридоров, устремлялся вниз по лестнице и там боролся со встречным, восходящим потоком. Однако через неделю появилось второе воззвание:
Товарищи по дому!
До сих пор ко мне никто не явился. Я – поскольку этому не мешала необходимость зарабатывать себе на жизнь – все время был дома, а в мое отсутствие, во время которого дверь моей комнаты была постоянно открыта, на моем столе лежал лист, на котором каждый, кто хотел, мог записаться. Никто этого не сделал». [71]71
Адорно дает полный текст притчи «Der Aufruf» («Воззвание»).
[Закрыть]
Это – фигура революции в рассказах Кафки.
6
Клаус Манн [72]72
Манн,Клаус (1906–1949) – немецкий писатель, сын Томаса Манна, автор известного романа «Мефисто».
[Закрыть]настаивал на сходстве кафкианского миропорядка с германским «новым порядком». Прямой политический намек несомненно чужд произведениям, в которых «ненависть против тех, к кому относится борьба», слишком непримирима для того, чтобы подкреплять декоративный фасад даже самой малой уступкой какому бы то ни было эстетическому реализму, принимая декорацию в качестве того, что она изображает; тем не менее «материальное» содержание этих произведений заклинает скорее национал-социализм, чем скрытую власть господню. [73]73
Подразумевается выдвинутая М. Бродом и развитая Т. Манном религиозно-аллегорическая интерпретация Кафки (см., например: Манн Т.В честь поэта: Франц Кафка и его «Замок» // Кафка Ф. Замок. СПб.: Амфора, 1999. С. 398–405).
[Закрыть]Его попытка изгнания диалектической теологии [74]74
Диалектическая теология, или теология кризиса, «разрыва», абсолютно разъединяющего человека и несоизмеримого ему, «тотально иного» Бога, – течение в протестантской теологии, возникшее в 20-е годы нашего столетия благодаря усилиям в первую очередь швейцарского теолога Карла Барта (1886–1968), находившегося под влиянием заново «открытых» им в XX веке трудов Кьеркегора.
[Закрыть]не удается потому, что многозначность и непонятность приписываются отнюдь не только иному по природе, как в «Страхе и трепете», [75]75
Название работы Кьеркегора.
[Закрыть]но и людям и их отношениям (другая причина – мифический характер властей, о чем справедливо писал В. Беньямин). Именно то «бесконечное качественное различие», на котором настаивают Барт и Кьеркегор, нивелировано: между деревней и замком разницы, вообще говоря, нет. Метод Кафки был верифицирован, когда устарело-либеральные, взятые взаймы и преувеличенные им черты анархии товарного производства возвратились в политико-организационной форме самоопрокидывающейся экономики. Сбылись его пророчества террора и пыток – и не только эти: под лозунгом «Государство и партия» заседала на чердаках и буйствовала в трактирах, как Гитлер с Геббельсом в «Кайзерхофе», банда заговорщиков, ставших полицией: узурпация ими власти разоблачает узурпаторский миф власти. В «Замке» чиновники – как эсэсовцы – носят особую форму, которую не имеющий на нее права в крайнем случае может сам себе пошить, – такой же самозваной была и элита фашизма. Арест превращается в налет, суд – в акт насилия. С этой партией у ее потенциальных жертв постоянно идут некие сомнительные, извращенные сношения – как с кафковскими недосягаемыми инстанциями; формулу «превентивный арест» должен был бы изобрести он, не будь она в ходу уже в Первую мировую войну. Светловолосая учительница Гиза [76]76
Персонаж романа «Замок».
[Закрыть](кажется, единственная у Кафки красивая девушка), жестокая любительница животных, изображенная беспорочной и в своей суровости словно издевающейся над кафковскими пучинами, принадлежит к той доадамовой расе гитлеровских девственниц, которые ненавидели евреев еще до того, как те появились. Необузданное насилие творится креатурами подчиненными – унтер-офицерами, сверхсрочнослужащими, привратниками. Все они, подобно отцу Грегора Замзы, деклассированные элементы, которым при крушении организованного коллектива позволили выжить, подхватив их на лету. Как в эпоху ущербного капитализма, бремя вины перекладывается со сферы производства на посредников, или на тех, кто обслуживает, на коммивояжеров, банковских служащих, кельнеров. Безработные в «Замке» и эмигранты в «Америке» препарируются как ископаемые эпохи люмпенизации. Те экономические тенденции, реликтами которых они являлись еще до того, как эти тенденции возобладали, вовсе не были так чужеродны Кафке, как это можно было бы предположить, судя по его герметическому методу. На это указывает одно удивительно эмпиричное место из его самого раннего, «американского» романа: «Это было своеобразное комиссионно-экспедиционное предприятие, каких в Европе, насколько Карл мог припомнить, кажется, вообще не бывало. Потому что предприятие это занималось посреднической торговлей, которая отнюдь не доставляла товары производителей потребителям или, допустим, торговцам, а осуществляла поставки все-возможных товаров и исходных продуктов большим фабричным картелям и их взаимопоставки». [77]77
«Америка», гл. 2.
[Закрыть]Именно этот «гигантского охвата» монополистический аппарат распределения уничтожил то житье-бытье мелочной торговли, чье «гиппократово лицо» Кафка увековечил. Приговор истории оглашается анонимной господствующей силой, и фантазия включает его в миф о слепом, бесконечно воспроизводящем себя насилии. В его новейшей фазе – фазе бюрократического управления – Кафка вновь узнаёт первоначальную, которую эта новейшая отрицает как доисторическую. Разрывы и деформации нового времени для него – следы каменного века, меловые фигуры на классной доске вчерашнего, которые никто не стер, истинно наскальная живопись. Но тот эффектный сжимающий ракурс, в котором появляются такие «старообразования», в то же время затрагивает и общественную тенденцию. Бюргер уходит, трансформируясь в архетипы. Добровольный отказ от индивидуальных черт, выползание на свет ужасов, кишащих под камнем культуры, означают гибель индивидуальности как таковой. Но весь ужас в том, что бюргер не найдет себе преемника: «никто этого не сделал». Видимо, в этом смысл рассказа о Гракхе [78]78
«Der Jager Gracchus» («Егерь Гракх»).
[Закрыть]– уже не о диком охотнике, а о человеке насилия, которому не удалось умереть. Вот так же не удалось это и бюргерству. История становится у Кафки адом, ибо спасительный шанс упущен. Этот ад открыло само позднее бюргерство. В концентрационных лагерях фашизма была стерта демаркационная линия между жизнью и смертью; живые скелеты и разлагающиеся тела, жертвы, которым не удалось самоубийство, создали некое промежуточное состояние – насмешку сатаны над надеждой отменить смерть. Как в перевернутых эпосах Кафки, там погибало то, что дает меру опыта, – выжившая из себя, до конца изжитая жизнь. Гракх есть полная противоположность той возможности, которая была изгнана из мира: умереть в старости, насытившись жизнью.
7
Герметическое оформление текстов Кафки вводит в соблазн, побуждая не только абстрактно сопоставлять их идею с историей, как это в обширных прениях сторон делается у него самого, но и с общедоступным глубокомыслием вытягивать само его творчество из истории, как секрет из железы. Однако именно в качестве герметического его творчество было частью литературного процесса десятилетия, на которое пришлась Первая мировая война; одной из «горячих точек» этого процесса была Прага, а питательной средой – окружение Кафки.
Только тот, кто прочтет «Приговор», «Превращение», главу «Кочегар» в контексте черных брошюр «Судного дня» Курта Вольфа, [79]79
Курт, Вольф (1887–1963) – немецкий издатель, его книжная серия «Судный день» знакомила читателя с произведениями «новой литературы»; в 3-м выпуске серии была напечатана глава «Кочегар», с которой начинается роман «Америка», – это была первая книжная публикация Кафки (1913 год).
[Закрыть]только тот воспримет Кафку в аутентичной перспективе – в перспективе экспрессионизма. Эпический гений Кафки заставлял его старательно избегать экспрессионистской языковой жестикуляции, однако такие фразы, как «Пепи, гордо вскинув головку, с косой, отлетавшей при каждом повороте, и неизменной своей улыбочкой носилась взад и вперед, преисполненная сознания своей значительности…» [80]80
«Замок», гл. 9.
[Закрыть]или «К. вышел на крыльцо, свирепо обдуваемое ветром, и взглянул в темноту», [81]81
«Замок», гл. 10.
[Закрыть]показывают, что он великолепно владел этой техникой. Фамилии оставленных безымянными персонажей (особенно в малой прозе, например: Wese, Schmar) [82]82
Ср.: Wesen – «существо», Schmarren – «пустяк», «дрянь» (нем.).
[Закрыть]составляют ряд, напоминающий список действующих лиц экспрессионистской пьесы. Язык Кафки нередко дезавуирует содержание, причем так же смело, как в этом упоительном описании маленькой эрзац-служанки в пивной: живой язык денонсирует соглашение с безнадежно застойным сюжетом; такие жесты имеют далеко идущие последствия. Устраняя сон его всепроникающим присутствием, эпик Кафка следует экспрессионистскому импульсу, доходя до крайностей радикальных лириков. Его произведения говорят тоном ультралевых, отличающимся от общечеловеческого; тот, кто нивелирует это различие, уже конформистски фальсифицирует Кафку. Уязвимые формулировки, вроде «трилогия одиночества», сохраняют свое значение постольку, поскольку выделяют необходимую предпосылку любой фразы Кафки. Герметический принцип есть принцип, венчающий отчужденную субъективность. Не зря в тех контроверзах, о которых сообщает Брод, [83]83
Brod M.Franz Kafka. Frankfurt a/M, 1963. S. 118.
[Закрыть]Кафка противился всякому социальному вовлечению (только вследствие этого сопротивления оно и стало в «Замке» тематическим). Он ученик Кьеркегора только в одном – в «безобъектной аутичности», [84]84
Аутичность ( нем.Innerlichkeit, дат.Inderlighed – букв.: «внутренность»), по Кьеркегору, это «отношение к самому себе перед Богом». В своей книге «Kierkegaard. Konstruktion der Ästhetischen» (Frankfurt a/M, 1966, S. 55–56) Т. Адорно, рассматривая это понятие, отмечает, что оно «в качестве субстанциональности субъекта выводится непосредственно из несоответствия внешнему», и приводит следующие строки из Кьеркегоровой «Болезни к смерти»: «Да, тут нет никакого „соответствующего“, поскольку внешнее, соответствующее замкнутости, было бы явным самопротиворечием, ведь то, что соответствует, – раскрывает. Напротив, внешнее здесь (в состоянии отчаяния. – Т. А.) решительно безразлично, – здесь должно решительно преобладать уважение к замкнутости, или, другими словами, к аутичности, закрытой на замок, который заклинило». Отметим также очевидное родство и столь же очевидную нетождественность значений вводимого здесь неологизма «аутичность» и введенного Э. Блейлером в начале века понятия «аутизм», обозначающего отстранение от внешнего мира и погружение в замкнутый мир личных переживаний.
[Закрыть]и в ней объяснение его крайностей. То, что заключает в себе стеклянный шар [85]85
Распространенный в начале века сувенир: в стеклянный шар заключался маленький мир (часто – дом и двор); когда шар встряхивали, в этом замкнутом, отдельном мире шел свой отдельный снег.
[Закрыть]Кафки, единообразнее и поэтому еще ужаснее, чем окружающая его система, ибо в абсолютно субъективном пространстве и абсолютно субъективном времени нет места ничему, что могло бы нарушить собственный принцип – принцип бескомпромиссного отчуждения. Пространственно-временной континуум «эмпирического реализма» постоянно нарушается актами мелкого саботажа – как перспектива в современной живописи, – скажем, когда блуждающий вокруг Замка землемер вдруг оказывается застигнут слишком рано упавшей ночью. Безразличие автаркической субъективности усиливает ощущение неопределенности и монотонность вынужденных повторов. Крутящейся в себе без сопротивления аутичности не дано остановить это дурно-бесконечное движение и не дано понять, что же все-таки могло бы его остановить. Пространство Кафки зачаровано; заключенный в себя субъект затаивает дыхание, словно ему нельзя и касаться того, что не такое, как он сам. Под действием этих чар чистая субъективность оборачивается мифологией, последовательный спиритуализм – подчинением природе. Необычная склонность Кафки к «чистоприродному» и натуропатии, его – пусть даже частично терпимое – отношение к диким суевериям Рудольфа Штейнера [86]86
Штейнер Рудольф, (1861–1925) – немецкий философ-мистик и писатель, основатель антропософии.
[Закрыть]– это не рудименты интеллектуальной неуверенности, а подчинение единому принципу, но, неуклонно запрещая себе все отличающееся, теряешь способность отличать, и возникает угроза того самого регресса в многозначное, аморфное, безымянное, которым Кафка так суверенно распоряжается в качестве изобразительного средства. «Дух освобождается и автономизируется от природы, познавая ее в качестве демонической как во внешней реальности, так и в себе самом. Но когда автономный дух является как воплощенный, природа завладевает им там, где он выступает наиболее историчным, – в безобъектной аутичности… Природное содержание чистого, „историчного“ в самом себе духа можно назвать мистическим». [87]87
Автоцитата из книги Т. Adorno «Kierkegaard…» (S. 97).
[Закрыть]Абсолютная субъективность оказывается бессубъектной. Самость живет только в об-наружении; «сухой остаток» субъекта, инкапсулировавшего в себе все чуждое, становится слепым остатком мира. Чем больше экспрессионистское «я» отражено на самое себя, тем больше оно становится похожим на исключенный вещный мир.
Силой этого сходства Кафка принуждает экспрессионизм (химеричность которого он должен был чувствовать лучше всех прочих «сочувствующих» и которому он тем не менее оставался верен) к некой капризной эпике, а чистую субъективность, по необходимости отчужденную также и от самой себя и ставшую вещью, – к некой предметности, которой удается выразить свое собственное отчуждение. Граница между областью человеческого и вещным миром стирается. В этом основа его отмечавшегося многими родства с Клее. [88]88
Клее, Пауль (1879–1940) – швейцарский художник, один из лидеров экспрессионизма.
[Закрыть]Кафка называл свое письмо «каракулями». Вещное становится графическим знаком, зачарованные люди действуют не по своей воле, а так, словно все они попали в некое магнитное поле. [89]89
«Это заранее обрекает на неудачу всякую попытку драматизации. Драма возможна лишь в той мере, в какой возможна свобода – пусть даже она рождается в муках у нас на глазах; всякие иные действа останутся ничтожными. Фигуры Кафки, еще даже не успев пошевелиться, уже настигаются некой мухобойкой; тот, кто тащит их в качестве героев на трагические подмостки, просто насмехается над ними. Андре Жид, создавший „Грязи“ („Paludes“), не ударил бы в них лицом, не подними он руку на „Процесс“: во всяком случае, даже при прогрессирующем аграмматизме ему не следовало забывать, что произведения искусства, являющиеся таковыми, небезразличны к материалу, в котором возникают. Адаптации надо оставлять культурной индустрии» ( Примеч. автора). Автор чрезмерно и без нужды строг. Отметим, что спектакль «Процесс», поставленный в октябре 1947 года Жаном-Луи Барро (авторы инсценировки А. Жид и Ж.-Л. Барро), явился этапным в становлении того направления, которое позднее получило наименование «театра абсурда». И в конце концов, сам Адорно, блестящий знаток как философских, так и музыкальных текстов, все же не упрекал Рихарда Штрауса за то, что его симфоническая поэма «Так говорил Заратустра» не вполне адекватно воспроизводит первоисточник.
[Закрыть]Именно эта внешняя детерминированность внутренних фигур прозы Кафки создает такую бесконечно-обманчивую видимость сухой объективности. Область невозможности умереть – это в то же время ничейная земля между человеком и вещью: на ней встречаются Одрадек, [90]90
Персонаж или, точнее, «фигура» маленького рассказа («фрагмента») Кафки «Забота отца семейства».
[Закрыть]в котором Беньямин видел некоего ангела в стиле Клее, с Гракхом, скромным подражанием Нимроду. [91]91
Библейский персонаж, «сильный зверолов пред Господом Богом» (Быт 10: 9).
[Закрыть]Понимание этих наиболее авангардных, «несоизмеримых» порождений его фантазии и некоторых других, также не укладывающихся в нынешние представления о Кафке, может в определенном смысле прояснить все остальное. Через все творчество Кафки проходит также тема деперсонализации сексуальных отношений. Согласно ритуалу «Третьего рейха», девушка не имела права сказать «нет» носителю высшей власти, точно так же кафкианские чары как великое табу снимают все более мелкие табу, относящиеся к сфере индивидуального. Хрестоматийный пример – наказание Амалии и ее семьи (то есть родовое) за то, что она не покорилась Сортини. [92]92
«Замок», гл. 15.
[Закрыть]Во властных сферах семья как архаический коллектив одерживает победу над своим более поздним, индивидуализированным выражением. Мужчина и женщина должны сходиться без сопротивления, спущенные друг на друга, как звери. Собственное невротическое чувство вины, свою инфантильную сексуальность и свою навязчивую идею «чистоты» Кафка превратил в инструмент, которым выскабливается общепринятое представление об эротике. Лишенные выбора и воспоминаний, связи служащих больших городов двадцатого века становятся – как, позднее, в одном знаменитом месте «Бесплодной земли» [93]93
В третьей главе.
[Закрыть]Элиота – имаго неких в незапамятные времена исчезнувших отношений, которые были какими угодно, но не гетерическими. Приостанавливая действие своих норм, патриархальное общество выдает собственную тайну: это общество непосредственного, варварского угнетения. Женщины опредмечиваются в качестве простого средства достижения цели – как сексуальные объекты и как полезные связи. Но Кафка в толще этой мутной воды ловит картину счастья. Она возникает из удивления герметически замкнутого субъекта перед тем парадоксом, что все-таки можно быть любимым. Всякая надежда так же непостижима, как симпатия к арестованному всех женщин в «Процессе»; разочарованный эрос Кафки есть в то же время экзальтированная мужская благодарность. Когда бедная Фрида называет себя возлюбленной Кламма, аура этого слова сияет лучезарнее, чем в возвышеннейших местах у Бальзака или Бодлера; когда она, скрывая от рыщущего хозяина присутствие спрятавшегося под столом К., ставит свою маленькую ногу ему на грудь и потом нагибается к нему и «быстро целует» его, она находит такие жесты, в напрасном ожидании которых может пройти целая жизнь страстного мужского желания. А те часы, которые они пролежали вместе «в лужицах пива и разном мусоре, которым был закидан пол», это часы исполнения желаний в чуждой стране, «где даже в воздухе нет ни единой составляющей воздуха родины». [94]94
«Замок», гл. 3.
[Закрыть]Этот слой Брехт относил к лирике. Но, как и у него, язык экстаза у Кафки весьма далек от экспрессионистического. Использовав элемент визуализации, он изобретательно справился с задачей квадратуры круга: найти слова для пространства безобъектной аутичности, к которому нужно как-то обратиться, в то время как емкость всякого слова всегда больше, чем абсолютное «это» – противоречие, о которое разбились все экспрессионистские поэтические порывы. В качестве предпочтительного элемента визуализации утверждаются жесты. Рассказывать можно только о том, что можно увидеть, при этом рассказываемое является в то же время совершенно чуждым изображаемой картине. Сохраняя верность этой картине, Кафка спасает идею экспрессионизма тем, что вместо тщетного вслушивания в отзвуки празвуков сообщает поэтике габитус экспрессионистской живописи. Последнюю он использует примерно так же, как Утрилло – видовые открытки, с которых художнику предстояло написать свои промерзшие улицы. Для скользящего взгляда, снимающего с объектов всякую эмоциональную окраску заинтересованности, эти улицы – уже не подражание реальности и не сон, под который можно только подделываться, они застывают во что-то третье: в загадочную картинку с натуры, составленную из ее разбросанных обломков. У Кафки многие ключевые места читаются как буквальные переводы с экспрессионистских полотен, которые должны были быть нарисованы. В конце «Процесса» взгляд Йозефа К. упал «на верхний этаж стоявшего вблизи каменоломни дома. Как вспыхивает в темноте свет, так распахнулись там створки одного окна; какой-то человек, слабый и тонкий на таком отдалении и возвышении, рывком наклонился далеко вперед – и еще дальше простер руки. Кто это был? Друг? Добрый человек?» Вот такая работа по переложению и создает образный мир Кафки. Она основывается на строгом исключении всего музыкального (в смысле музыкоподобного), на отказе от антитетической защиты от мифа; как свидетельствует Брод, Кафка был, по обычным меркам, немузыкален. Его безмолвный боевой клич в борьбе против мифа: не сопротивляться. И этот аскетизм одаривает его глубочайшей связью с музыкой в таких местах, как уже упоминавшееся пение телефона в «Замке», или музыкальная наука в «Исследованиях одной собаки» и в одном из его последних завершенных рассказов, «Жозефине». Его хрупкая проза, пренебрегающая всякими музыкальными эффектами, в то же время действует как музыка. Смыслы ее обрываются, подобно мемориальным столпам на кладбищах девятнадцатого века, и только эти линии обрыва – иероглифы ее смыслов.
8
Экспрессионистская эпика – это парадокс. Она рассказывает о том, о чем рассказать нельзя, – о целиком ограниченном собой и одновременно, в силу этого, несвободном, да собственно, вообще не вполне существующем субъекте. Неизбежно диссоциированному на различные стороны занятости собой, лишенному самоидентичности, ему не дано никакого срока жизни: безобъектная аутичность есть пространство в столь точном смысле, что все, чему она дает приют, подчиняется закону отчужденного от времени повторения. Не в последнюю очередь с этим законом связано отсутствие историчности в творчестве Кафки. Для него невозможна ни одна из форм, конституированных временем как единством внутреннего смысла; он приводит в исполнение тот приговор большой эпике, грозное звучание которого Лукач [95]95
Лукач, Дьердь (1885–1971) – венгерский философ, публицист, критик и литературовед.
[Закрыть]услышал уже у таких ранних представителей жанра, как Флобер и Якобсен. [96]96
Енс, Петер Якобсен (1847–1885) – датский писатель и редактор.
[Закрыть]Фрагментарность всех трех больших романов Кафки, которые, впрочем, едва ли уже охватываются понятием романа, обусловлена их внутренней формой. Они не позволяют довести себя до конца в качестве какого-то закругленного до тотальности временного впечатления. Диалектика экспрессионизма приводит Кафку к тому, что его вещи уподобляются авантюрным романам, состоящим из нанизанных в ряд эпизодов. Он любил такие романы. Но, переняв их технику, он в то же время отказался от общепринятых литературных норм. К известным образцам, которым он следовал, надо, видимо, добавить, помимо Вальзера, начало «Артура Гордона Пима» По и некоторые главы «Утомленного Америкой» Кюрнбергера [97]97
Фердинанд Кюрнбергер (1821–1879) – немецкий писатель и публицист.
[Закрыть](к примеру, описание квартиры жителя Нью-Йорка). Но более всего солидаризируется Кафка с апокрифичными литературными жанрами. Подозрительны все – эта черточка, резко выделяющаяся на физиономии современной эпохи, взята Кафкой от криминального романа. В таких романах мир вещей получает перевес над абстрактным субъектом, и Кафка использует это для того, чтобы претворять вещи в вездесущные эмблемы. Его большие произведения – это одновременно детективные романы, в которых разоблачить преступника не удается. Еще больше для понимания Кафки дает его связь с де Садом, независимо от того, был ли он известен Кафке. Как невинный герой де Сада (или герой американской кинокомедии, или персонаж газетного уголка юмора), кафкианский субъект, в частности эмигрант Карл Росман, [98]98
Герой романа «Америка».
[Закрыть]попадает из одной отчаянной и безвыходной ситуации в другую, – главы эпической авантюры превращаются в этапы мученического пути. Эта замкнутая имманентная связь конкретизируется в форме бегства из мест заключения. Чудовищное, с которым ничто не контрастирует, захватывает, как у де Сада, весь мир, становясь нормой, – в противоположность неотрефлектированному авантюрному роману, который вечно претендует на необыкновенность обстоятельств и этим подтверждает их тривиальность. Но в произведениях де Сада и Кафки разум не спит и на principium stilisationis [99]99
Основа стилизации (лат.).
[Закрыть]безумия дает возможность проявиться объективному. Оба принадлежат Просвещению, находясь на разных его ступенях; его отрезвляющий свет преломляется в кафковском: «Вот так оно…» Тоном отчета Кафка сообщает о том, что происходит в действительности, отнюдь не обольщаясь на счет субъекта, который, дойдя до предела осознания самого себя, то есть своего ничтожества, выбрасывает себя в выгребную яму – именно так поступает машина для убийства с преданными ей. [100]100
См. новеллу «В исправительной колонии».
[Закрыть]Он создал тотальную робинзонаду в той ее фазе, когда каждый человек – сам себе Робинзон, и на плоту, нагруженном поспешно собранными пожитками, влечется куда-то без руля и ветрил. Эта связь робинзонады и аллегории, берущая начало от самого Дефо, не чужда традиции Высокого Просвещения. Она принадлежит к ранней стадии борьбы бюргерства с авторитетом религии. В восьмой части направленных против ортодоксального пастора Гёце «Аксиом» («Axiomata») Лессинга, чей поэтический дар Кафка высоко ценил, рассказывается об одном отрешенном от сана лютеранском священнике из Пфальца и его семье, состоявшей из детей-подкидышей обоего пола. Пережив кораблекрушение в районе Бермуд, семья оказалась на маленьком необитаемом острове, причем священник спас и катехизис. Несколько поколений спустя один гессенский миссионер обнаружил на острове потомков этой семьи. Они говорили на немецком, «в котором, как ему показалось, не было ничего, кроме речений и оборотов из лютеровского катехизиса». Потомки были ортодоксальны – «за некоторыми маленькими исключениями. Катехизис за полтора столетия, естественно, истрепался, и у них от него уже ничего не осталось, кроме дощечек переплета. „На этих дощечках, – сказали они, – начертано все, что мы знаем“. – „Было начертано, дорогие мои“, – сказал миссионер. „И осталось, и осталось начертано! – сказали они. – Хотя мы-то сами читать не умеем, да и не совсем понимаем, что значит читать, но наши отцы слышали, как их отцы оттуда читали. А те уже знали и того человека, который вырезал эти дощечки. Этого человека звали Лютер, и он жил вскоре после Христа“».
По почерку, пожалуй, еще ближе к Кафке «Притча», которую роднит с ним ее явно непреднамеренная затемненность. Адресат, Гёце, понял притчу совершенно неверно. Но уже сам выбор формы притчи трудно отделить от просветительского намерения. Облекая человеческие значения и учения природным материалом, – не происходит ли и Эзопов Осел от Окносова? [101]101
Окнос – персонаж греческой мифологии, дряхлый старик, который не хотел умирать и за свою преступную любовь к жизни был в царстве теней осужден на вечное плетение каната, который тут же поедала ослица.
[Закрыть]– дух вновь узнаёт в них себя. Так, мужественно не отводя взгляда, он разрушает мифические чары. Некоторые места лессинговой «Притчи», которую он собирался переиздать под заглавием «Пожар во дворце», тем более показательны в этом смысле, что они еще очень далеки от того осознания мифического стечения обстоятельств, которое уже пробуждается в аналогичных пассажах Кафки. «У одного мудрого и деятельного короля одного очень и очень большого королевства был в его столице дворец совершенно необъятных размеров и совершенно особой архитектуры. Размеры дворца были необъятны, потому что король собрал в нем, чтобы было под рукой, всё и вся, что могло ему потребоваться для его правления, – будь то помощники или инструменты. Архитектура дворца была удивительна тем, что уж слишком противоречила почти всем известным правилам… И спустя много-много лет дворец все еще сохранял тот облик чистоты и совершенства, какой он получил от строителей по окончании их работы: снаружи немного непонятно, внутри все – свет и сообразность. Тех, кто считал себя знатоками архитектуры, особенно оскорбляли фасады, прорезанные немногими, разбросанными там и сям, большими и маленькими, круглыми и четвероугольными окнами, но зато тем больше имевшие дверей и ворот всевозможных форм и размеров… Было непонятно, зачем нужно так много – и таких разных входов, когда один большой портал на каждой стороне уж наверное был бы приличнее, служа тем же самым целям. Ведь очень мало было тех, кто захотел понять, что через множество маленьких входов все вызванные во дворец могли самыми короткими и безошибочными путями попасть туда, где они были потребны. И вот среди этих мнимых знатоков возникли всяческие споры, в которых более всего горячились непременно те, у кого было менее всего возможностей как следует рассмотреть внутренность дворца. И было еще нечто такое, что, как могло показаться на первый взгляд, должно было легко и быстро согласить все споры, а на деле как раз больше всего их запутало и дало самую обильную пищу для самого упорного их продолжения. А было вот что: вспомнили, что где-то же есть всякие старые планы, которые должны были составить первостроители дворца; но эти планы оказались записаны в таких речениях и значках, язык и смысл которых были уже, можно сказать, утрачены… Однажды – когда споры о чертежах уже не столько вспыхивали, сколько тлели, – однажды около полуночи вдруг раздались голоса сторожей: „Пожар! Во дворце пожар!..“ Тут все соскочили со своих кроватей, и каждый, так, словно пожар был не во дворце, а в его собственном доме, кинулся спасать то, что ему казалось самым дорогим из всего имущества, – свой чертеж. „Его бы только спасти! – думал каждый. – Достоверно не то, что горит там, а то, что изображено здесь!..“ Из-за таких усердных драчунов он, дворец этот, мог и в самом деле сгореть дотла, если б загорелся. Но испуганные сторожа приняли за сполохи пожара северное сияние». В этой истории, перебрасывающей некий мостик между Паскалем и кьеркегоровыми «Diapsalmata ad me ipsum», [102]102
Букв.: «Диапсалматы ко мне самому» ( греч., лат.) – первый раздел книги «Или – или». Обычно этот раздел именуют «Афоризмы» или «Афоризмы эстетика», но вот что пишет А. В. Михайлов в статье «Из прелюдий к Моцарту и Кьеркегору»: «…„диапсалматы“ – это инструментальные интерлюдии в библейских псалмах и – на письме – знаки, указывающие на такие инструментальные разделы. <…> В „Диапсалматах“ <…> читатель присутствует при настройке инструмента <…> Это <…> не афоризмы, но звучания музыки мысли» (Мир Кьеркегора. М., 1994. С. 95). Ср.: вводная заметка первого выпуска журнала Кьеркегора «Мгновение» называлась «Настройка».
[Закрыть]достаточно произвести самую незначительную перестановку акцентов, – и она станет кафкианской. Достаточно было бы всего лишь усилить причудливость и монструозность постройки за счет ее целесообразности; нужно было бы всего лишь фразу о том, что горящий дворец не может быть достовернее его изображения на чертеже, подать как резолюцию одной из тех канцелярий, для которых и так уже единственный правовой принцип: quod non est in actis, non est in mundo [103]103
Чего нет в документах, того нет на свете (лат.).
[Закрыть]– и из апологии религии против ее догматического изложения получился бы донос на саму божественную власть через посредство ее собственной экзегезы. Затемненность, обрыв притчевой интенции – следствия Просвещения: чем более оно сводит объективное к человеческому, тем сумрачнее, тем не проницаемее становятся для человека очертания существующего, которое он никогда не мог полностью растворить в субъективном и из которого тем не менее отфильтровывал все ему знакомое. На этот откат Просвещения к мифологии Кафка реагирует в духе Просвещения. Его произведения часто сравнивали с каббалой. Насколько обоснованны такие сопоставления, могут судить только знатоки соответствующих текстов. Но если в самом деле иудейская мистика в своей поздней фазе исчезает в тени Просвещения, то появляется возможность прояснить вопрос о сродстве представителя позднего Просвещения Кафки с антиномичной мистикой.