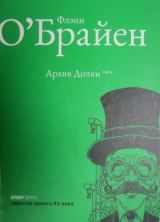
Текст книги "Архив Долки"
Автор книги: Флэнн О'Брайен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
– Де Куинси{30} считал, что Иуда совершил предательства, дабы подвигнуть Учителя к проявлению его божественности на деле. Что скажешь?
– Де Куинси и наркотики потреблял.
– Почти всему, чему ты учил и что писал, недостает картезианской точности.
– Декарт был исполнителем или же слепым повторителем того, что он принимал – частенько ошибочно – за истинное знание. Сам он не установил ничего нового, включая и систему поиска знания, коя была бы свежа. Ты обожаешь цитировать это его Cogito Ergo Sum. Почитай мои труды. Он это украл. Посмотри мой диалог с Эводием{31} в De Libero Arbitrio, он же «О свободе воли». Декарт провел слишком много времени в постели, одержимый навязчивой галлюцинацией, будто он мыслит. Ты нездрав подобным же недугом.
– Я читал всю философию Отцов, и до, и после Никеи – Златоуста, Амвросия, Афанасия{32}.
– Если и читал Афанасия, ты его не понял. Плод твоих изучений можно было б назвать телом святоотеческой паддистики{33}.
– Спасибо.
– Пожалуйста.
– Ключевые понятия – существование, время, божественность, смерть, рай и сатанинская пропасть – сплошь абстракции. Твои суждения о них бессмысленны, и бессмысленность эта в самой себе непоследовательна.
– Рассужденью полагается быть в словах, и тому, что непонятно либо непостижимо человеческому разуму, посильно дать имя. Наш долг – стремиться к Богу в мысли и слове. Однако высший долг – верить, иметь и питать веру.
– Некоторые твои заявления я считаю еретическими и зловредными. О грехе ты сказал, будто он необходим, чтобы Вселенная совершенствовалась, а добро сияло ярче – оттененное. Ты сказал, будто причина злодеяний наших не Бог, а свободная воля. Всеведением своим и предвидением Господь знает, что род людской будет грешить. Как же тогда может существовать свободная воля?
– У Бога нет предвидения. Он есть вúдение – и Он им располагает.
– Деяния человека суть предмет предопределения, и человек не наделен, следовательно, свободной волей. Бог сотворил Иуду. Позаботился, чтобы Иуда вырос, получил образование и преуспел в торговле. Господь же и уготовил Иуде предать Сына Божия. Отчего ж тогда вина на Иуде?
– Господь, ведая о последствиях свободной воли, тем не менее ни ослабил ее, ни искоренил.
– Тот светотеневой господин, которого ты когда-то так обожал, Мани{34}, считал, что Каин и Авель не Адама и Евы сыновьями были, а Евы и Сатаны. Кеми бы ни были они, грех в саду Эдема свершился в немыслимо далекую эпоху, тьмы веков назад – согласно дольней системе исчисления времени. Согласно той же системе, учению о Воплощении и Искуплении на сегодня нет и двух тысяч лет. Что же, миллионы и миллионы людей, без счета, рожденных между Творением и Искуплением, списать падшими, умершими в первородном грехе, хотя сами они лично – без вины, считать их поверженными в ад?
– Знал бы ты Бога – знал бы и время. Бог есть время. Бог – субстанция вечности. Бог не отличен от того, что мы воспринимаем как годы. У Бога нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего – в понятиях мимолетного времени человеческого. Зазор, о котором ты говоришь, между Творением и Искуплением непостижимо не существует.
– Подобного рода доводы я именую «очковтирательством», но, если допустить, что душа человека бессмертна, геометрическая форма души должна быть окружностью и, как и Бог, не может иметь начала. Согласен?
– В набожности сие можно утверждать.
– В таком случае души наши существовали до того, как воссоединились с телами?
– Можно и так сказать.
– И где же они были?
– Никто, кроме Полиарха, на это не ответит.
– Следует ли нам считать, что где-то в мироздании имеется безбрежная емкость пока еще не отелотворенных душ?
– Время к божественному творению не имеет касательства. Бог способен создать нечто, наделенное свойством вечного существования.
– Есть ли смысл расспрашивать тебя о твоем мимолетном увлечении работами Плотина и Порфирия?{35}
– Нет. Но куда как предпочтительнее манихейского дуализма света и мрака, добра и зла был Плотинов дуализм ума и материи. В учении об эманации Плотин лишь слегка оступился. Хороший он был человек, Плотин.
– Примерно в 372-м, когда тебе было восемнадцать, ты принял манихейство и потом целых десять лет этого диковинного верования не оставлял. Что ты теперь думаешь о том ералаше из вавилонской космологии, буддизма и призрачных теорий света и мрака, Избранных и Слушателей, заповедей воздерживаться от убоины, ручного труда и совокуплений с женщинами? А также о личных заявлениях Мани, что сам он – Дух Святой?
– Чего меня расспрашивать, когда можно прочесть трактат, развенчивающий эту ересь, который я написал в 394-м? Что касается самого Мани, мое отношение можно уподобить таковому у царя персидского в 376-м. Он спустил с Мани шкуру, живьем, после чего распял.
– Нам скоро пора уходить.
– Да. Воздух ваш почти исчерпан.
– Есть еще один вопрос – о материях, кои всегда меня смущали и на что ни твои писания, ни других никакого света не проливают. Ты – негр?
– Я римлянин.
– Подозреваю, твое римское имя либо показуха, либо притворство. Ты ж из берберов, рожденных в Нумидии. Та публика – не белая. Ты куда больше связан с Карфагеном, нежели с Римом, да и в латыни твоей даже пунические искажения.
– Civis Romanus sum{36}.
– Публика у тебя на родине ныне зовется арабами. Арабы – не белые.
– Берберы – светловолосые белые люди с красивыми голубыми глазами.
– Все истинные африканцы, невзирая ни на какую расовую мешанину того континента, – до некоторой степени негры. Все они потомки Ноева сына Хама.
– Не забывай об африканском солнце. Я был человеком, легко подверженным загару.
– Каково оно – быть на небесах целую вечность?
– Целую вечность? Ты, стало быть, думаешь, что вечности бывают дробные или врéменные?
– Если попрошу, явишься ли ты сюда завтра?
– У меня нет завтра. Аз есмь. У меня есть лишь сейчасность.
– Тогда мы подождем. Спасибо и прощай.
– Прощай. Осторожнее на скалах. Иди с Богом.
Ползком, с Хэкеттом во главе, они вскоре сошли к воде и выбрались обратно в сей мир.
Глава 5
Утро никуда не делось, такое же кроткое, каким они его оставили. Тейг Макгеттигэн хохлился над своей трубкой и газетой и одарил их лишь взглядом, когда, сняв маски, они тут же принялись стремительно вытираться.
– Ну, – обратился Де Селби к Мику, – что скажете?
Мысленно Мик онемел и оторопел – и почти удивился обыденности дня.
– Это… поразительное явление, – запинаясь, произнес он. – И я слышал каждое слово. Сообразительный и полемичный это человек, кем бы он ни был.
Де Селби замер, полуголый, губы слегка скривились от огорчения.
– Великий распятый Боже, – воскликнул он, – не говорите только, что вы не узнали Августина!{37}
Мик вытаращился в ответ, все еще ошарашенный.
– Я думал, это Санта-Клаус, – отметил Хэкетт. Однако свойственной ему издевки в голосе не было.
– Полагаю, – задумчиво произнес Де Селби, принимаясь одеваться, – что я с вами несколько несправедлив. Надо было вас предупредить. Первая встреча с человеком с небес может быть пугающей.
– Кое-какие его отсылки показались вполне знакомыми, – сказал Мик, – но личность я все никак не мог определить. Свят-свят, епископ Иппонийский!
– Да. Если вдуматься, он мало какими сведениями поделился.
– Да позволено мне будет сказать, – вмешался Хэкетт, – на небесах он, похоже, не очень-то счастлив. Где ж обещанное нам достославное воскресение? Тому субчику, под землей, и игрушки-то раздавать в лавке на Рождество не доверят. С виду унылый.
– Должен заметить, выходки его товарищей показались странными, – согласился Мик. – В смысле, согласно тому, что он о них рассказал.
Де Селби задумчиво бросил расчесывать редкие волосы.
– В отношении подобных явлений следует воздерживаться от оценок, – сказал он. – Я все время следую теории. Нам надобно помнить, что, вероятно, то был и не настоящий Августин вовсе.
– Но кто же тогда?
Мудрый наставник вперился в море.
– То мог быть сам Вельзевул, – тихонько пробормотал он.
Хэкетт резко сел, возясь с галстуком.
– Ни у кого из вас, господа, не найдется ли спички? – спросил Тейг Макгеттигэн, с трудом подымаясь. Хэкетт вручил ему коробок. – Что до меня, – продолжил Тейг, – грядет здоровенный дождина с ветром, из Виклы, где-то к двенадцати. Горы енти нас всех размажут.
– Ливня я не боюсь, – холодно отозвался Хэкетт. – По крайней мере про него все понятно. Есть вещи похуже.
– Скальные пики тыкаются в тучи, как пальцы, – пояснил Тейг, – пока тучи не лопаются, и дальше ветер тащит мокрядь сюда, нам на головы. Бедолаги на пешей экскурсии вокруг Шонкилла{38} все промокнут до нитки, бутырброды с вичиною сплошь вдрызг, а денег-то и на пинту у всех на круг не хватит, что и у Бёрна{39}не спрячешься.
Облачение их, вследствие незатейливости оснастки, завершилось. Де Селби и Хэкетт курили, время было полдевятого. Затем Де Селби энергично потер руки.
– Господа, – сказал он несколько отрывисто, – полагаю, вы, как и сам я, перед нашим ранним заплывом не завтракали. Могу ли я в таком случае пригласить вас позавтракать со мной в «Шур-муре»? Мистер Макгеттигэн может довезти нас до ворот.
– Боюсь, не смогу, – сказал Хэкетт.
– Ну, не то чтоб конь мой Джимми тебя не втащил, – проговорил Тейг, сплюнув.
– Ну же, – сказал Де Селби, – нам всем нужно внутренне подкрепиться после такого утра испытаний. У меня безупречный лимерикский бекон, да и в том аперитиве недостатка не будет.
Были другие дела у Хэкетта на самом деле или нет, Мик не знал, но мгновенно разделил этот порыв убраться прочь – хотя бы подумать или попытаться не думать. Де Селби нисколько не откажешь ни в приличиях, ни в достойном поведении, однако постоянное общество его навевало словно бы неловкость – возможно, смутный, неопределенный страх.
– Мистер Де Селби, – с теплом произнес Мик, – это, конечно же, любезно с вашей стороны – пригласить нас с Хэкеттом к трапезе, однако так уж вышло, что я позавтракал вообще-то. Думаю, лучше мы тут расстанемся.
– Скоро увидимся, – промолвил Хэкетт, – обсудить события сегодняшнего утра.
Де Селби пожал плечами и позвал Макгеттигэна помочь ему со снаряженьем.
– Воля ваша, господа, – отозвался он вполне вежливо. – Я бы точно не отказался закусить и, вероятно, получу это удовольствие в компании Тейга. Думал, погода, стихии и силы небес сделают лекцию за завтраком уместной.
– Удачи, ваша честь, но подкрепление имеется в этой вашей бутылке, – сказал Тейг радостно, извлекая изо рта трубку, чтобы получилось погромче.
На том они и расстались, и Хэкетт с Миком отправились пешком в Долки; Мик катил велосипед с некоторым отвращением.
– Тебе надо куда-нибудь идти? – спросил он.
– Нет. И что ты себе об этом спектакле думаешь?
– Не знаю, что и сказать. Ты слышал беседу, и, насколько я понимаю, мы оба слышали одно и то же.
– Ты считаешь… это на самом деле случилось?
– Похоже, иначе никак.
– Мне надо выпить.
Они умолкли. Размышлять об этом сеансе (если это неуклюжее слово тут уместно) было втуне, хоть и тревожно, и все же выбросить подобные мысли из головы не удавалось. В обсуждении чего бы то ни было с Хэкеттом Мик почему-то видел мало толку. Ум Хэкетта скрутило в узел точно так же, как и его собственный. Они походили на двух бродяг, что встретились на пустынном беспутье и оба безнадежно спрашивают друг у друга дорогу.
– Ну, – наконец проговорил Хэкетт угрюмо, – я пока не выкинул за борт вчерашние подозрения о зелье – и даже гипноз не отрицаю. Но проверить, было ли это все сегодня галлюцинацией или нет, мы никак не можем.
– Может, спросить у кого? Совет получить?
– У кого? Для начала, кто поверит хоть слову из этой истории?
– Верно.
– Кстати, маски те подводные – настоящие. Я такие штуки пробовал раньше, но те были не такие хитроумные, как у Де Селби.
– Откуда нам знать, а ну как в этих баллонах был какой-нибудь газ, от которого мозги набекрень?
– Ей-ей правда.
– Я почти забыл, что на мне была эта штука.
Нерешительно помедлили они на углу, в одиноком городке. Мик сказал, что, думается, ему лучше пойти домой и позавтракать. Хэкетт считал, что еще слишком рано думать о еде. Ну, Мику надо избавиться от этого клятого велосипеда. А ну как удастся оставить его в потешном крохотном полицейском участке, коим ведает сержант Фоттрелл? Но какой смысл? Не придется потом утрудиться и забрать его в другой раз? Хэкетт сказал, что никакой необходимости ехать на нем вообще не было, с самого начала, поскольку имеется ранний трамвай – для удобства эксцентричной публики. Мик сказал нет, не по воскресеньям, не из Бутерстауна.
– Уверен, миссис Л. меня бы пустила, – заметил Хэкетт капризно, – да только я знаю, что чушка эта здоровая еще храпит в постели.
– Да, утро выдалось странное, – отозвался Мик сочувственно. – Ты вот сейчас досадуешь, что не видать тебе общества вдовушки – хозяйки распивочной, а еще и полчаса не прошло, как покинул общество святого Августина.
– Да.
Хэкетт горестно рассмеялся. У Мика на самом деле было чем нынче заняться, позже, он помнил об этом – как почти в любое воскресенье. В три тридцать он встретится с Мэри у Боллзбриджа, и, вероятнее всего, они отправятся влюбленно прохлаждаться и болтать в Херберт-парк{40}. Эта договоренность грозила перерасти в докуку рутины. Когда они в конце концов поженятся – если вообще поженятся когда-нибудь, – не будет ли однообразие жизни и того хуже?
– Я собираюсь отдохнуть умом, – объявил он, – и отдыхать я буду в Херберт-парке, нынче, погодя, avec ma femme, ma bonne amie[15].
– Моя дама Астериск по воскресеньям воздерживается, – сказал Хэкетт уныло, прикуривая сигарету.
Внезапно он оживился.
– Нынешним утром, – воскликнул он, – ужас напал на нас из-за подрыва малого заряда ДСП. А вот и ДСП собственной персоной!
И то правда. По боковому проулку, катя рядом велосипед, к ним приближался сержант Фоттрелл. Приближение его было неспешным и суровым. Он являл взгляду величие закона – неизбежного, последовательного, неумолимого.
Обрисовать его личный облик – дело непростое. Был он высок, поджар, меланхоличен, чисто выбрит, лицом багров и неопределенного возраста. Никто, говорят, не видел его в мундире, однако вовсе не в штатском он был сыщик: его констеблярность угадывалась безошибочно. И летом, и зимой носил он легкое твидовое пальто бурого оттенка, на шее виднелся отпечаток воротника и галстука, однако в нижней части персоны Фоттрелла имелись брюки отчетливого полицейски-синего, да и впечатляющие сапоги тоже были полицейского образца. Доктор Крюитт заявлял, что однажды видел сержанта без пальто, когда тот помогал с поломкой автомобиля, и никакого жилета замечено не было, только рубашка. Сержант с друзьями был, скажем так, дружелюбен. Виски пил невозбранно, когда выпадала возможность, однако напиток на него, похоже, никак не влиял. Хэкетт считал, это будто бы потому, что обычные трезвые манеры сержанта неотличимы от пьяных манер других людей. Но во что сержант верил, что говорил и как он это делал, было известно всему югу графства Дублин.
Он остановился и козырнул от тряпичной кепки.
– Прекрасное утро, ребята, – сказал он безосновательно.
Сложилось всеобщее согласие, что утро таково. Сержант, казалось, добавлял выдержанности самому воздуху и утренней улице.
– Я вижу, вы приобщались к воде, – отметил он сердечно, – с игрищами в соленой пучине далеко не простыми?
– Сержант, – сказал Хэкетт, – вы и понятия не имеете, сколь далеко не простыми.
– Сам я от моря многозначительно удаляюсь, – просиял сержант, – за исключением малого брожения на благо моим спогам[16]. Ибо истина такова: натоптышами сражен я. Наш труд – труд пеший, если вы улавливаете поступь моей мысли.
– И то верно, сержант, – согласился Мик, – частенько видал я вас с велосипедом, однако никогда на оном.
– Это чрезвычайное оборудованье для подвигов капитанства. Однако имеются опасности умственного свойства, сокрытые в велосипеде, и эту историю я поведаю вам связно в некий иной день.
– Да.
Хэкетт размышлял над чем-то.
– Забавно, – сказал он. – Я вчера случайно позабыл в «Рапсе» бутылочку. Перигастральный тиосульфат, знаете ли. Чертов желудок теперь сплошь переполох и отрыжка.
– Черт бы драл, – вздохнул сержант сочувственно, – это все бесплодное рыданье. Скорблю я о всякой сущности, мужчине и женщине, кои неладны вместилищами живота своего. Миссис Лаветри сей миг в постели своей либо, пожалуй, омывается в сокровенной купели внутренне.
– От больного желудка хорош бренди, – ляпнул Мик со старательной бестактностью.
– Бренди? Фу! – скривился Хэкетт.
– Не бренди, но Брэннигэн, – воскликнул сержант, стукнув по раме. – Аптекарь Брэннигэн – уж он-то к ранней службе пташка. Он в эту пору месит радостно кашу, навзничь диетическую. Двинемся ж тотчас.
Мик понуро побрел следом за согбенной Хэкеттовой спиной, сержант подвел их по улице к угловой лавке и резко постучал в дверь жилой части. Маленький кроткий мистер Брэннигэн не успел и приоткрыть ее, как все трое ввалились в коридор. Мику такая тактика нахрапа и нелепости досадила. Что подумают прохожие о двух велосипедах снаружи да в такой-то час – сержантов экземпляр опознаваем на всю страну? Хэкетта, похоже, принудят заглотить порцию солей, но не отказаться от врак про беды с пищеварением – так ему и надо.
– У меня тут человек, мистер Брэннигэн, авик[17], – жизнерадостно объявил сержант, – с буйством зоба, человек этот – безупречный гражданин и мученик. Бесповоротно пройдемте же в лавку.
Исторгая смутные звуки, мистер Брэннигэн извлек ключи и открыл дверь в узкую прихожую, а затем все они оказались в лавке – сплошь броские товары и витрины. При здешних высоченных потолках мистер Брэннигэн смотрелся крошкой (возможно, истинной причиной было близкое расположение сержанта), вполне кругл лицом, очки на нем круглы, вид – любезный.
– Который из господ, сержант, – спросил он тихо, – не в ладах с собою?
Сержант официально хлопнул Хэкетта по плечу.
– Пациент – мистер Хэкетт, неотвратимо, – сказал он.
– А. Где же вместилище бед, мистер Хэкетт?
Пациент изобразил хватательное движение в области живота.
– Здесь, – пробормотал он, – где едва ль не у всякого чертовы беды.
– Ах-ха. Принимали ль вы что-то определенное от этого?
– Принимал. Но что – не могу сказать. Что-то по рецепту, которого при мне нет.
– Нуте-с вот что. Я бы посоветовал смесь уксусного ангидрида с угольной кислотою. В растворе. Великолепное средство – в правильных пропорциях. Я мигом его добуду.
– Нет-нет, – сказал Хэкетт с подлинным возражением, – я не смею принимать лекарства, к каким не привык. Очень любезно с вашей и сержанта стороны, мистер Брэннигэн, но я лучше подожду.
– Но у нас здесь сколько угодно патентованных средств, мистер Хэкетт. Даже временное облегченье, знаете ли…
Но сержант уже изучал здоровенную бутыль, которую снял с нижней полки у кассы.
– Дуть-раздуть, – воскликнул он радостно, – это ж эликсир молодости, безобидный в своем дольнем совершенстве!
Он вручил бутылку Хэкетту и, достав еще одну, сунул в руку Мику.
Этикетка гласила:
ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ВИНО ХЁРЛИ
Один стакан три раза в день или же по необходимости гарантирует устойчивую пользу почкам, желудку и нервной системе. Рекомендовано врачами, медсестрами и гериатрическими учреждениями.
– Имейте в виду, это неплохое успокоительное для внутреннего мужчины, – сказал со всей серьезностью мистер Брэннигэн. – Многие дамы в городе очень к нему пристрастны.
– Сэр Томас О’Брэннигэн, – проговорил сержант церемонно, – я куплю бутылку этого снадобья себе, запишите на мой счет, а когда вы явите нам изысканные фужеры, мы все отведаем его отменно, ибо лишь Всевышнему ведомо, сколь хворы мы будем к исходу дня.
Мистер Брэннигэн улыбнулся и кивнул. Хэкетт поспешно оглядел их лица в неверном свете.
– Сдается мне, это поможет нам как-то взять себя в руки, – снизошел он. – Я тоже куплю бутылку.
Воскресное утро, несомненно, складывалось историей многоцветной. После язвительного спора между Де Селби и святым Августином они по крайней мере час провели в запертой аптеке, пия «Тонизирующее вино Хёрли» и слушая pensées[18] сержанта Фоттрелла о счастье, здоровье и чудесах заморских странствий, о законе и порядке – и о велосипедах. Тоник оказался, как и следовало подозревать, дешевым сильно крепленым вином. Его общественная цель вполне ясна. Он позволял строгим дамам, которых оскорбила бы самая мысль навестить паб, пить алкоголь – ни в коей мере не слабый – в оправданных целях укрепления здоровья.
Мик тоже купил бутылку, и были они уже посреди четвертой по счету, которую мистер Брэннигэн галантно выдал «за счет заведения», когда Мик почувствовал, что пора бы уж попросту постыдиться и пирушку эту свернуть. Хэкетт признал, что ему теперь стало гораздо лучше, – но не Мику: даже от настоящего вина проку немного, и Мику сделалось несколько муторно. Сержанта не затронуло нисколько и в болтливости его не приостановило. Когда они выбрались на улицу, Мик обратился к нему.
– Сержант, день наступает вовсю, и людей вокруг прибавилось. Не будете ли вы возражать, если я до завтра оставлю свой велосипед у вас в участке? Думаю, стоит мне ехать домой на трамвае.
– Благосклонно бесспорно, – ответил он милостиво. – Скажите полицейскому Хвату, что я повелел попечительствовать, – попросту.
После чего он отбыл по своим общественным делам, многими благословениями воспевая друзей своих пред Господом.
– Знаешь, что, – сказал Хэкетт, когда они двинулись в путь, – весь этот августинский треп постепенно вытаскивает всякое полузабытое, оно теперь булькает у меня в голове. Не ополчался ли он яростно на Пелагия?{41}
– На еретика? Ну да.
– В каком смысле – на еретика?
– Он им и был. Какой-то синод его проклял и отлучил от Церкви.
– Я думал, что только Папа может объявлять что-нибудь ересью.
– Нет. Он обращался к Папе, но втуне.
– Ясно. Еще паршивые овцы были манихейцы и донатисты{42}. Это я знаю. Мне до них дела нет никакого. Но если память мне не отшибло напрочь, Пелагий, кажется, был великий человек и крепкий теолог.
– Ты мало что в этом смыслишь. Не прикидывайся.
– Он верил, что грехопадение Адама (и я лично на подобную дурь ни малейшего внимания не обратил бы) навредило лишь ему самому. Вина была на нем одном, и сказки про то, что все рождаются в первородном грехе, – сплошь чертовы бредни.
– Ой, тебе виднее.
– Кто, веря в Бога, стал бы заодно верить, что весь род людской пребывал в разоре, пока Христос не явился – позавчера.
– Да хоть вот Августин, думаю.
– Новорожденные младенцы невинны и, если умирают до крещения, имеют право на рай. Крещение – лишь ритуал, миф своего рода.
– Согласно Де Селби, Иоанн Креститель – не миф. Они знакомы. Де Селби, может, Крестителя другом своим считает.
– А ты крещеный?
– Видимо, да.
– Видимо? Хватит ли смутного знания, если от него зависит твоя душа?
– Да заткнись ты ради всего святого. Нам за вчера и за сегодня не хватит ли этого уже?
– Неловкий вопрос, да?
– В таком случае я, может, на верхней площадке трамвая встречу Мартина Лютера{43}.
Хэкетт презрительно прикурил сигарету и замер.
– Тут я тебя оставлю, пойду прогуляюсь, добуду газету, сяду, прочту уйму всякой скучной дребедени да улучу возможность пробраться в «Рапс». Но помни: я – пелагиец.
Полицейский Хват был юн, угловат, лицом ряб и вид имел неунывающей тупости. В приемной у него стоял вверх тормашками велосипед, и полицейский Хват возился с грыжей на переднем колесе, втирая белый порошок в выпирающую кишку. Приветствием Мику стала слабоумная улыбка полицейского, с коей в согласии смотрелся неукоснительно опрятный мундир, хотя явленные миру зубы казались скверными и блеклыми.
– Доброе утро, мистер Хват. Я встретил сержанта, и он сказал, что мне можно оставить здесь на день-другой еще одну машину. Сам я поеду на трамвае.
– Сказал, значит, да? – осклабился полицейский Хват. – Что за прилишний мил человек?
– Позволите?
– Сделайте одолжение, сударь, прислонитя тама к стене. Однакоже по-другому запоет сержант, когда придет с извозчиком Тейгом.
– А что натворил Тейг?
Полицейский Хват слегка побледнел, припомнив ужасное.
– Вчера он познакомился с отцом-проповедником, редемпиаристом{44}, на станции, довез его до приходского дома. Так вот, Тейг и выреха евойная и пяти минуток на свяченых землях не пробыли, но как уехали, там все крутом в мерзотном месиве навоза сделалось.
– Экая незадача-то.
– Две грядки весенней картохи унавозить хватит.
– Все же Тейг тут не очень при чем.
– Что ж, сержанту в участок выреху за святотатство тащить? Или за грех против Духа Святого? Я вам, мил-человеку, скажу кой-что.
– Что же?
– Будет вам поход очистительный, железный поход, чётки да на колени вставать, до дальнейших указаний, с завтрева начиная. Адская расплата будет. Но слава богу, сначала женина неделя.
– Слава богу, мистер Хват, – отозвался Мик, уже в дверях, – я даже не из этого прихода.
К чему вообще ему считаться с проповедями об адском пламени? Не побывал ли он уже, в некотором смысле, в раю?
Глава 6
Мэри не была ни простушкой, ни легким предметом для описания, да и Мик не из тех, кто пишет. Он считал женщин в целом безнадежной темой для разговора или рассуждения, и, уж конечно, дама, для отдельно взятого мужчины особая – la femme particulière, если сие проясняет само понятие, – неизбежно смотрится блеклой, бессмысленной и пустой для других, заговори он о ней искренне или помысли вслух. Взаимное влечение – таинство, а не просто причуда или биогенез, и такого рода таинство, даже если и внятное самой паре, – нечто по крайней мере совершенно сокровенное.
Мэри душенькой не была, как не была она и красоткой, однако (для взоров Мика) оставалась пригожей и горделивою. Кареглазая, каштановой масти, обычно молчаливая и выдержанная. Он, как ему думалось, очень ею увлекался и вовсе никак не считал ее просто представительницей соответствующего пола или чем бы то ни было еще столь же обыденным и пустяковым. Она, его подлинная одержимость (полагал он), возникала у него в голове по всевозможным неуместным поводам без, как говорится, стука. Отношения Хэкетта с той особой девушкой, с которой он путался, представлялись поверхностными, как склонность к джему на завтрак или к задумчивой стрижке ногтей в тиши публичного заведения.
Мало в чем был Мик уверен, но думал, что может искреннее сказать: Мэри – девушка необычная. Образованная, год провела во Франции, разбиралась в музыке. Наделена остроумием, бывала оживленной и запросто втягивалась в потеху речей и настроения. В семье ее, которой он не знал, водились деньги. В одежде имела вкус и разборчивость… а как же иначе? Она работала в так называемом модном доме, на руководящей должности, которая, как Мику было известно, хорошо оплачивалась и предполагала общество людей исключительно высокопоставленных. Ее работа – единственное, о чем они не разговаривали никогда. За то, что заработки ее оставались тайной, он был ей глубоко признателен, поскольку знал, что они едва ли меньше, чем у него. Разоблачение, пусть и случайное, оказалось бы для него унизительным, хотя он понимал, что подобное положение очень нелепо. Тем не менее работа среди финт-да-фантов моды никак не портила в Мэри зрелости ума. Она много читала, часто рассуждала о политике и однажды упомянула о своих смутных намерениях написать книгу. Мик не спросил, каков может быть предмет оной, ибо отчего-то счел сам замысел неприятным. Незачем усваивать не жуя любые предостережения, какие можно запросто услышать или прочесть, о духовных опасностях интеллектуальной спеси и литературного флибустьерства, однако высшее образование и обеспеченный образ жизни действительно таили в себе угрозу перегрузки для юной девушки. Сама того не ведая, она могла не рассчитать собственные силы. Находила ли она в его обществе некую устойчивость? Мик вынужденно сомневался в этом, ибо, по правде сказать, он и сам-то был устойчив не чересчур. Исповедь раз в месяц – дело хорошее, но он слишком много пил. Пить он бросит. И приблизит Мэри к собственному немногословному типу, более приземленному.
И все же каково было их подлинное взаимное положение? Неопределенно. Он собирался на ней жениться, таково было намерение. И сие был второй предмет, который никогда не упоминался впрямую, за все три долгих года их совместности. Его никчемная работа, жалкий достаток и худшие возможности никогда никуда не девались – осязаемые и отвратительные проявления, подобные краснухе. Но каков иной открытый ему путь? Да и ей? В некотором немыслимом пределе он мог бы, вероятно, принять печальное безбрачие, и все же, возникни кто бы то ни было и забери ее прочь, он совершенно наверняка расстался бы с рассудком. Сотворил бы что-нибудь ужасающее, вполне бестолковое, однако неизбежное.
Они пребывали в Херберт-парке.
Бездельничая на покатом склоне, заросшем низкой травой, у озера, где утки и игрушечные лодки плавали среди негромкого гомона детворы, они бессвязно беседовали. Являть ей свое новое духовное состояние он не спешил, однако спрашивал себя, не полагается ли ей знать.
– Я тебя не видела на службе нынче утром, – отметила она. Не приглашение ли ему это? Она курила, однако ничего гнусного, в Хэкеттовом смысле, в ее воскурениях не было. Она была дама и потому имела право на сигарету. Изощренность, считайте.
– Верно. Я спозаранку отправился в Долки выкупаться.
– С Хэкеттом?
– Да.
– Это что-то новенькое. Купаться само по себе хорошо, однако вставать ради этого на рассвете… уж точно слишком по-британски, разве нет? А Хэкетт на ногах ранним утром в воскресенье – нечто ошеломительное.
– И не такое бывает.
– И как ему вода, когда он совершенно трезв?
– Мы встречались с еще одним человеком, на Вико. Хотели уединения – проводили некоторые подводные исследования.
– И кто он, тот человек, – я его знаю?
– Вряд ли. Мы с ним познакомились днем ранее.
– Морская биология с каким-нибудь малым из Тринити-колледжа – что-то в этом роде?
– Нет-нет, это очень чудной гусь, сказать тебе по правде, Мэри, хотя с неким малым из Тринити мы тоже познакомились.
– Так-так. Итого четверо.
– Ты не путай. Поэта из Тринити нынче утром с нами вовсе не было.
– А тот чудной малый. Насколько он чудной?
Мик оглядел тихие деревья, кусты, цветы, пестрядь людей с колясками и гомоном. Все было привычно – и даже привлекательно. Де Селби и его знакомцы – другое дело.
– Чудной не в каком-то там нехорошем смысле. Странный он человек. Необычные представленья о мире, о Вселенной, о времени… в самом деле, физик.
– Да?
– Представленья его оторваны от этой Земли – от чертовой этой самой земли, на которой мы сейчас лежим.
– Неужели? Долки этот – место, о котором мне надо бы разузнать побольше. Что же до отрыва от Земли… простейшему священнику это удается ежевоскресно.








