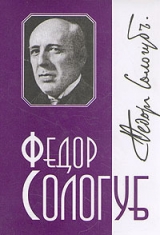
Текст книги "Том 5. Литургия мне"
Автор книги: Федор Сологуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
Самый сильный
Все с раздражением и ненавистью говорили о только что вернувшемся домой из деловой поездки в Америку Алексее Павловиче Ронине. Это был молодой, красивый человек, владелец большого торгово-промышленного предприятия. В этом богатом приморском городе он вращался в лучшем обществе, и маменьки взрослых барышень мечтали о нем как о завидном женихе. А теперь, когда Ронин, спасшийся с тонувшего в океане парохода, вернулся жив и невредим, все в городе вдруг стали презирать его за его возмутительный поступок.
Маленькое общество, собравшееся в ясный день ранней осени в красивой гостиной Елены Моисеевны Климентович, все еще молодой жены популярного местного адвоката, было настроено также враждебно к Ронину.
Доктор Полонный, черноокий кумир здешних дам и усердный в последнее время поклонник Елены Моисеевны, говорил, делая плавные жесты:
– Мне всегда он был как-то подозрителен. И вот, оказывается, предчувствие меня не обманывало. Вот именно в трагических случаях, перед лицом смерти познается истинная природа человека.
– Но что он, собственно, сделал ужасного? – спросил седоусый инженер Макаренко. – Спасал свою жизнь? Что же тут подлого? Может быть, многие из нас на его месте поступили бы не лучше.
Но все напали на старого Макаренко.
– Как что сделал? – кипятилась Мери Дугинская, очаровательная дама, младшая сестра хозяйки. – Пользуясь своею силою, он отталкивал женщин и детей и один из первых бросился в спасательную лодку! И вы хотите его оправдывать! Дети и женщины многие погибли, а он спасся. Это ужасно!
И все, кроме Макаренко и одной девушки, почтенные господа и милые дамы согласным, хотя и нестройным хором дюжины голосов, восклицали:
– Возмутительно!
– Низко!
– Омерзительно!
Доктор Полонный авторитетно сказал:
– Никто после этого не подаст ему руки!
И все согласились с ним, – все, кроме Макаренко. Хитро улыбаясь, Макаренко крутил седые длинные усы и насмешливо посматривал на разгорячившихся собеседников. И еще молчала красавица Катя, молодая девушка, хозяйкина дочь. Она стояла у широкого окна, не принимала участия в разговоре и смотрела на пламенно-цветущие розовые кусты в саду и на мерно вскипающие за садом и за пляжем широкие морские волны. Макаренко спросил ее:
– А вы что скажете, Катерина Львовна? – И, подмигнув хозяйке, сказал вполголоса. – Как время-то идет! Выросла девочка, уж и неловко называть ее Катею.
Хозяйка, не отвечая, стала смотреть на дочь, и на лице ее было так много любезности, – к гостю, – и ласки, – к дочери, – словно она усиленно старалась скрыть, что слова Макаренко ей не понравились.
Катя медленно отвернулась от окна и сказала неторопливо, глубоким и звучным голосом:
– Я думаю, Ронин и сам понимает свое положение и вряд ли станет показываться в нашем обществе. Ему лучше уехать отсюда.
– Не будет показываться, вы думаете? – спросил Макаренко. – Ну а если кто-нибудь его пригласит?
Катя молча пожала плечами и опять отвернулась к окну. Ее молчаливость никого не удивила: она пользовалась репутациею девицы спокойной и неболтливой. Но зато многие подумали, что обращение Макаренко к Кате очень бестактно: всем было известно, что Ронин ухаживал за Катею и что в этом доме он был хорошо принят. И потому поспешно заговорили о другом.
Прошло несколько минут, и уже забыли о Ронине. И вдруг впечатление разорвавшейся бомбы произвели тихие слова появившегося в дверях лакея:
– Алексей Павлович Ронин.
Катя вздрогнула и совсем близко приникла к окну. Доктор Полонный проворчал:
– Ну и наглец!
Дамы и мужчины переглядывались и пожимали плечами. Елена Моисеевна побледнела и не знала, что сказать. Ее муж, великолепно выхоленный и вскормленный человек, беспокойно задвигался в своем кресле. Прошло полминуты неловкого молчания, и вдруг Климентович, как будто сообразив что-то, торопливо и смущенно сказал лакею:
– Просить.
Все посмотрели на него с удивлением. Даже Катя на миг показала гостям раскрасневшееся лицо, быстро глянула на отца и усмехнулась не то насмешливо, не то смущенно.
Когда лакей скрылся за синею портьерою, Елена Моисеевна воскликнула:
– Лев Маркович, зачем ты велел его принять! Никто здесь не хочет быть с ним вместе.
– Ну, и мы это ему покажем, – все так же смущенно говорил Климентович.
Его великолепная, рослая фигура словно уменьшалась и сжималась, и он смотрел куда-то мимо людей, словно произнося речь во враждебно настроенном собрании.
Макаренко говорил, хитро посмеиваясь:
– Нельзя не принять, уж раз что сами приглашали.
Елена Моисеевна воскликнула с деланным ужасом:
– Лев Маркович, что я слышу? Неужели это правда?
– Душа моя, – оправдывался Климентович, – я встретился с ним в парке, совершенно неожиданно. Он сам ко мне подошел, и я так растерялся от неожиданности…
– Ну довольно, он идет, – сказала Елена Моисеевна.
Все настороженно замолчали. Было жуткое ожидание скандала, и под притворно равнодушными лицами гостей закипало злорадство.
Катя еще раз глянула на гостей и тихонько рассмеялась, заглушая смех приложенным к губам платком.
В гостиную вошел Алексей Ронин, молодой, красивый человек, с тою свободою и легкостью движений, которыми отличаются преданные спорту люди. Быстро глянув решительными, упоенно наглыми глазами на всех собравшихся здесь, он неторопливо подошел к Елене Моисеевне, поцеловал ее руку и заговорил спокойно и уверенно, как будто ничего особенного в его жизни не произошло, – заговорил те легкие и простые фразы, которые не сочиняются заранее, приходят в голову сами собою и так же легко потом забываются, оставляя за собою впечатление приятной беседы.
С тем же спокойствием, с тою же уверенностью обратился он потом и к другим. Как бы следуя примеру хозяйки, все отвечали на его привет с обычною светскою любезностью.
Ронин подошел к Кате. Она холодно поклонилась ему, едва на миг оторвавшись от созерцания широкого морского простора.
– Любуетесь морем? – тихо спросил Ронин.
Гости, разговаривая между собою, исподтишка наблюдали за ними.
Катя молчала. Ронин говорил:
– Я понимаю, почему вам нравится смотреть на эти волны. Волны лучше людей.
Катя вопросительно глянула на него.
– Они равнодушны, – продолжал Ронин, – им все равно, но они никогда не изменяют своему закону, своей воле и не могут изменить. Их непреклонность так прекраснее людской неискренности.
Катя засмеялась. Смех ее звучал хрупко и нервно. И вдруг стало заметно, что она очень взволнована.
Преодолевая волнение, задерживая дыхание в поднявшейся груди, Катя сказала:
– Что ж, скажите вот этим людям, что вы думаете о них и о волнах. Это им будет интересно.
– Слушаю, – сказал Ронин, наклоняя голову.
Он обернулся к Елене Моисеевне. Заметив, что он хочет говорить, все замолчали, и у всех в глазах было жадное и нетерпеливое любопытство. Ронин сказал громко:
– Екатерина Львовна выразила желание, чтобы я рассказал о том, как мне удалось спастись при этом ужасном кораблекрушении. Когда-нибудь я это исполню подробно и точно. А теперь ужасы этой ночи так еще живы в моей душе, что я не могу рассказывать связно.
Доктор Полонный угрюмо проворчал что-то. Ронин повернулся к нему, и казалось, что его нагло-спокойный взор закупорил во рту очаровательного доктора все те слова, которые он собирался сказать. Ронин продолжал, гипнотизируя доктора прозрачно-ясными, словно пустыми глазами:
– Я хорошо знаю, что многие меня осуждают. Но скажу одно, – я увидел в эти страшные часы такие картины людского озверения…
Катя перебила его:
– Героизма, хотите вы сказать! – пылко воскликнула она.
Ронин на мгновение потупил глаза. Было жуткое молчание, и почти слышно стало, как расклеиваются уста освобожденного от тягости упорного взора доктора. Но не успели расклеиться. Ронин тихо заговорил:
– Героизма! Да, если хотите, были и трогательные примеры героизма. Герои погибали, спасая слабых и робких. Да, что было, если вы хотите это знать. И вот поэтому, что были погибающие герои и спасающаяся дрянь, никому ни на что на свете не нужная, вот потому я почувствовал такое презрение к этим спасающимся, что решил…
– Не быть героем? – прервала его вопросом Катя.
Ее щеки багряно пылали. Ронин усмехнулся, быстро глянул на нее упоенно-наглыми глазами и решительно сказал:
– Да, не быть героем.
И у него был такой вид, словно он принял вызов на бой и уверен в победе.
Катя обвела глазами всех бывших в комнате. Сквозь застилавший ее глаза багровый туман она видела знакомые лица, – и все они теперь смотрели на Ронина с внезапным сочувствием. Смотрели почти угодливо. В поднявшемся смутном гуле голосов, звучавших льстиво, не послышалось ни одного негодующего крика.
Катя различала отдельные фразы:
– Помилуйте, перед ним вся жизнь…
– Молодой, богатый…
– Погибать – из-за чего?..
Сам доктор Полонный потерял свою самоуверенность, забыв свою угрюмость, и его наконец расклеившиеся губы сложились в липкую, благожелательную улыбку.
Тихо-тихо, вся дрожа от злости, сказала Катя, – так тихо, что только Ронин мог ее слышать:
– Вы знаете, что сделали выбор между героизмом и подлостью.
И в эту минуту она любила себя, потому что голос ее не дрожал, глаза были гневны и темны и она знала, что она прекрасна, как лицо воплощенной в красоту совести.
Но не смутился Ронин. Так же тихо, как она, отвечал он ей:
– Я – смелый человек. Я сделал выбор, который даст мне долгую и счастливую жизнь. И никто не посмеет повторить мне то, что вы сказали.
Катя быстро отвернулась от него, вышла на террасу, сошла в сад. За нею звучали оживленные голоса.
Катя знала, – Ронин сумеет победить общество, которое вздумало было его презирать. Покорить не теми глупыми и подлыми словами, которые сумеет придумать и сумеет сказать, а просто тем, что он богат, молод и самоуверен до наглости. Но чего же стоят эти люди и как с ними жить?
Катя, томимая горькими мыслями, долго ходила по песочным аллейкам. Уже она не чувствовала себя победительницею. Упоенно дерзкий взгляд Ронина словно еще тяготел на ее ресницах, застя от нее шарлаховые, пунцовые и карминные очарования роз.
Прошло с полчаса. Заслышав за решеткою сада скрип колес по песку тихой Липовой улицы, Катя поднялась по четырем ступенькам в беседку у решетки. Из этой беседки видна была улица. Вывернувшись из-за угла от подъезда, пара великолепных вороных плавно несла коляску. В коляске сидел Ронин.
Вдруг мысль о том, что он может уехать и никогда не вернуться, пронизала Катино сердце. Не думая, что делает, Катя крикнула:
– Остановитесь!
Ронин улыбнулся почти нежно, приподнял шляпу и что-то сказал кучеру. Коляска остановилась. Ронин вышел из нее и подошел к забору. Катя сказала:
– Войдите в сад. Вот здесь, направо, калитка.
Ронин крикнул кучеру:
– Поезжай домой, – я пройдусь.
И вошел в сад. Катя ждала его, стоя у калитки. Брови ее хмурились, но на лице ее не было прежнего решительного и враждебного выражения.
– Ну что, как там обошлось? – спросила она деловитым тоном.
– Очень мило, – отвечал Ронин, улыбаясь слегка насмешливо, – меня так ласкали, утешали, как будто бы я спас целую сотню утопавших.
– А вы спасли только одного, – неопределенным тоном сказала Катя.
– Да, но зато этот спасенный был я сам, – сказал Ронин.
– И вы это очень цените? – спросила Катя.
– Да, – сказал Ронин, – как же мне не ценить этого! Ведь жизнь выше всего, не правда ли, Катя? Мы должны любить жизнь, не правда ли, Катя? Любить жизнь, ценить ее блага, стремиться к счастью, не правда ли, Катя?
– Достойную жизнь, – сказала Катя, – только достойную жизнь надо любить.
– О Катя! – воскликнул Ронин, – простите, что я вас так называю, но вы знаете, что я вас люблю.
Катя приложила руки к своим пылающим щекам.
– Называйте меня как хотите, – сказала она, – я достаточно молода для того, чтобы и чужие люди иногда забывали, что я уже не девочка.
Чуть-чуть усмехнувшись на слово «чужие», Ронин продолжал:
– Вы говорите, Катя, – достойная жизнь! С детским идеализмом вы мечтаете о жизни, полной подвигов.
– А разве нет такой жизни? – спросила Катя. – Разве мы не слышим о подвигах?
Ронин пожал плечами.
– Конечно, – сказал он, – но что же делать, если не каждый способен быть героем! Да и никто не обязан быть героем. Мы живем как умеем, берем жизнь как она есть, а не как она должна быть. Если нет нам достойной жизни, разве и эта жизнь, такая как есть, не хороша? Солнце греет всех одинаково, и прекраснейшие розы благоухают не для того, кто их достоин, а для того, кто может их купить.
– Не надо, не надо так говорить! – воскликнула Катя.
– Почему не надо? – спросил Ронин.
– Разве эти слова не обжигают вам губы? – ответила Катя вопросом и пристально посмотрела на Ронина.
– Послушайте, Катя, – тоном ласкового убеждения заговорил Ронин, – вот, я спас свою жизнь, сумел спасти, – Катя, как вы думаете, если бы вы были со мною, сумел ли бы я спасти и вас?
Катя засмеялась и промолчала.
Ронин говорил нежно и страстно, и глаза его потемнели и приняли повелительное выражение:
– Катя, любите меня, любите. Катя, хотите разделить мою судьбу, мою жизнь, – все, что я имею?
Катя постояла с минуту молча, с опущенными глазами. Потом сказала:
– Я люблю вас, вы это знаете, и потому мне было так больно в эти дни. Я думала, что никогда больше вас не увижу. Может быть, так было бы лучше. Но вот мы встретились. Люди не отвернулись от вас.
– Как же бы они посмели отвернуться! – воскликнул Ронин. – Разве они сами – герои? Где же их самоотверженные поступки? Это все – сытые люди, Катя. Они любят жизнь они «к ее минутным благам прикованы привычкой и средой».
– Да, – сказала Катя, – вы – самый сильный из тех, кого я знаю. Я люблю вас опять. Если вы не боитесь, что к моей любви будет примешиваться и другое чувство, хорошо, я буду вашею женою.
– Я знаю, о каком чувстве вы говорите, – сказал Ронин, – но, милая Катя, мы все более или менее презираем себя и других, презираем потому, что вся наша жизнь слагается из ряда поступков ничтожных и порою нехороших. И по улице не пройдешь без того, чтобы одежда не запылилась, а уж душа наша, что о ней и говорить!
Он смотрел на Катю нагло-веселыми глазами, любуясь тем, как нежно румянятся ее щеки. Потом вдруг он привлек ее к себе и поцеловал прямо в губы.
Катя не сопротивлялась. Она знала, что это не опасно для ее платья и для ее прически. И точно, Ронин тотчас же отпустил Катю, распрощался с нею корректно и ушел.
Катя опять поднялась в беседку и долго смотрела, как он неторопливо шел по улице, спокойный и элегантный. Потом она вернулась в гостиную. Там было теперь только трое – отец, мать и Мери Дугинская.
Катя, отодвинув синюю портьеру, остановилась в дверях и спокойно сказала:
– Папа, мама, тетя Мери, Ронин сделал мне предложение, я дала согласие.
Все радостно засмеялись. Мери Дугинская воскликнула:
– Но послушайте, как она спокойно говорит это! Точно ее пригласили на тур вальса!
– Она у нас невозмутимая, – сказал отец, опять по-прежнему великолепный и веселый.
Все были рады. Папа, мама, тетя Мери целовали и поздравляли Катю. Катя казалась невозмутимо-счастливою.
А вечером, оставшись одна, Катя долго плакала. Она думала, что любит Ронина, но и презирает его. Как же ей всю жизнь прожить с этим человеком?
Не лучше ли убить себя?
У Кати был маленький, очень красивый револьвер, всегда заряженный, – ее самый большой секрет от родителей. В эту ночь Катя не раз вынимала хорошенькую стальную игрушку. Она даже прикладывала холодное дуло то к виску, то к тому неширокому месту на груди, под которым тогда усиленно начинало колотиться испуганное сердце.
Прикосновение холодной стали к горячему телу каждый раз было тупое и жесткое. Каждый раз Кате было страшно сделать то маленькое движение пальцами, которое вызовет смертельный выстрел.
Когда под утро, подойдя к окну, Катя увидела розоватый налет зари на вскипающей пене волн, она почувствовала всем своим ослабевшим от бессонницы телом, что не умрет и не откажется от счастья с Рониным. То слабое презрение к самой себе, которое почувствовала Катя, потонуло в остром и радостном чувстве любви к своей жизни и к ее благополучию и довольству.
«Расталкивая тех, кто послабее, там, в ужасную ночь, он выбился к жизни. Ну что же, – думала Катя, – вот, люди перестанут его осуждать. Люди думают, что их жизнь – борьба за существование. Сильные побеждают, будет и он всегда победителем».
Засыпая, Катя упрямо думала: «Ну и пусть, пусть буду презирать и его, и себя, – и все-таки буду счастлива».
Катя осталась жить, – не для того, чтобы жить достойною и прекрасною жизнью, сливая свою волю и свою жизнь с волею и с жизнью множеств, а только для того, чтобы выйти замуж за богатого, молодого, красивого, любимого ею человека и вместе с ним наслаждаться радостями себялюбивого существования, наслаждаться всем, что можно купить за деньги.
Грубая, жестокая жизнь еще раз торжествовала свою победу над очаровательною мечтою о высоком подвиге.
Крутильда и семь других
В это ясное апрельское утро Стакан Иванович проснулся как всегда, под гудящее пение жены своей Крутильды. Занавески уже были отдернуты, в спальне было светло, и из открытой фортки веяло холодом, и слышен был шум голосов на дворе.
Низким контральто, не то чтобы приятным, но привычным Стакану, Крутильда пела за его спиною, – он лежал у стены на правом боку, спиною к Крутильде. Давно знакомые слова на привычный мотив слушал Стакан не без удовольствия. Крутильда пела:
Любви неодолима сила.
Противиться кто смеет ей?
Она Стакана превратила
В прекраснейшего из мужей.
Улыбка озаряла помятое сном и пятью десятками жизни, но все же счастливое лицо Стакана. Не поворачиваясь к Крутильде и даже пока еще не открывая глаз, Стакан Иванович запел ответный куплет. Голос у него был резкий тенорок, Стакан часто фальшивил, высокие ноты брал тончайшим фальцетом, – но едва он запел все те же, сотни раз повторенные слова, на смуглом Крутильдином лице показалась улыбка. Крутильда легла поудобнее, подложила под голову полные, крепкие руки, смотрела в розетку потолка почти немигающими, темно-серыми, крупными глазами и слушала. Стакан пел:
Любви непобедима сила.
Противиться не думай ей.
Она меня преобразила
В счастливейшего из мужей.
И повернулся на спину, чтобы вместе с Крутильдою пропеть, – она:
Стакан прекраснейший из всех мужей.
А он:
Да, – я счастливейший из всех мужей.
После краткой паузы запела опять Крутильда:
Любви непобедима сила,
Она капризнее всего,
Она служанку превратила
В царицу дома твоего.
И опять, отвечая ей, запел восторженно и громко теперь уже совсем проснувшийся Стакан:
Любви неодолима сила
И прихотливее всего.
Она Крутильду превратила
В царицу сердца моего.
И потом опять запели вместе, – она:
Да, я – царица дома твоего.
А он:
Да, ты – царица сердца моего.
Это пение было как бы призывным сигналом. Едва замолкли, замерев на высоких нотах, последние звуки любовного дуэта, как тотчас же в дверь постучались.
– Войдите, – крикнула Крутильда голосом громким и веселым.
Явилась горничная, молодая, веселая девушка с необыкновенно правильно-круглым лицом, румяная, чуть-чуть курносенькая, чуть-чуть веснушчатая, по прозвищу Сыр-Дарья.
Она сказала, остановясь у дверей:
– Стакан Иваныч, Крутильда Малофеевна, с добрым утром. Сегодня третий день праздника.
– Знаю, знаю, – отвечала Крутильда.
Стакан, как всегда забывая значение этого дня, проворчал:
– Ну, так что ж?
Сыр-Дарья пояснила:
– Званы нонче к обеду семь других. Как всегда, на третий день.
Крутильда весело улыбалась. Стакан нахмурился. Крутильдина затея – раз в год собирать семь других – никогда ему не нравилась, хоть он и подчинялся этому без спора. Иногда он думал сердито: «Хоть бы их ветром каким сдунуло, хоть бы к черту в пекло».
Но ни одна из семи других не умирала, не уезжала в другой город. Какое-то странное чувство заставляло их каждый год принимать приглашение счастливой соперницы и приезжать на ее пир.
Стакан Иванович сказал сурово:
– Сыр-Дарья, удались, сейчас я восстану от сна.
Сыр-Дарья удалилась. Крутильда же, все еще лежа на спине и глядя на розетку потолка, спросила, как всегда:
– А вот еще есть слово «имманентный», – что значит?
Каждое утро Крутильда узнавала от Стакана значение еще одного ученого слова.
* * *
В пять часов вечера семь других собрались, но Стакан еще их не видел. Он сидел один в своем кабинете, строгом и чинном, как и подобает быть кабинету солидного адвоката в квартире, за которую платится три тысячи в год.
Стакан уже был во фраке, но ему не хотелось выходить к этим милым гостьям, притворно-веселым, но в душе опечаленным. Когда-то, в прежние годы, каждой из них по очереди Крутильда открывала двери этой квартиры и потом никого не впускала, оберегая тайну нежного свидания. И была тогда Крутильда молодою, стройною девушкою в белом переднике и в белом чепчике. А вот теперь она – хозяйка в этом доме, и уже не она помогает гостьям снимать их верхнюю одежду, а другая, нехитрая Сыр-Дарья, которая никогда не мечтала о том, чтобы сделаться дамою, ездить на Ривьеру и разговаривать с американскими банкирами на английском языке.
Лихорадочно-веселые голоса милых гостий проникали за тяжелые портьеры на дверях Стаканова кабинета, – и эти голоса смущали и тревожили его. Гостиная была рядом с кабинетом, и семь других сидели там.
Приоткрылась дверь, Стакан глянул, среди складок колыхающейся портьеры стояла бледная, очень красивая дама в белом платье. В ее руке был букет белых роз.
– Мария! – радостно сказал Стакан.
Он пошел к ней навстречу и долго целовал ей руки.
– Я принесла вам цветы, – сказала она, – я знаю, вы любите белые розы.
– Я их любил, когда вы меня любили, – отвечал Стакан.
– Я и теперь вас люблю, милый, – сказала она, – хотя вы изменили мне. Конечно, Крутильда очень красива.
– Вы гораздо красивее Крутильды! – воскликнул Стакан. – Вы прекрасны, и я опять люблю вас.
Мария засмеялась невесело.
– Однако, – сказала она, – вы не скажете Крутильде, чтобы она ушла, не позовете меня.
Стакан задумался. Он вспомнил сладкие минуты, проведенные им с Мариею. Ласковая и прекрасная, – но теперь ее красота казалась ему почему-то слишком успокоенною, слишком законченною. Когда он первый раз пожелал близости с Крутильдой? Она мыла пол в буфетной комнате, где не было паркета, а он стоял и смотрел на ее слишком высоко открытые ноги, смотрел на игру сильных мускулов под эластичною, порозовевшею от холода кожею. Она выпрямилась, поглядела на него улыбаясь, спросила:
– Вам вина? Сейчас подам.
Стакан уже забыл, зачем пришел в буфетную, и обрадовался Крутильдиной находчивости. Она подала ему вино, и грудь ее тяжко дышала, и улыбающееся лицо раскраснелось. Красива ли она была? Не очень, так себе, миловидная, но во всей Крутильде не было тогда ни одного успокоенного местечка, и вся она была живая и сильная, и нельзя было не захотеть быть с нею. Но он тогда ничего не сказал ей, взял вино и ушел. А Крутильда через минуту принесла ему стакан, хлеб и сыр, – все так же растрепанная, розовая, улыбчивая. Пришла, поставила на стол перед диваном поднос и ушла, оставив за собою незабываемое впечатление силы и воли.
Стакан задумался так глубоко, что и не заметил, как Мария ушла. Когда он поднял глаза, перед ним стояла уже другая, Елена, веселая, милая дама. И она принесла цветы и говорила весело и ласково, напоминая минувшие встречи, когда было так весело, молодо и нежно.
И она была красивее и веселее Крутильды. Но опять вспомнил Стакан, как он стоял в коридоре и слушал заразительно-веселый Крутильдин смех.
«С кем она?» – подумал он тогда.
Оказалось, что Крутильда одна и хохочет, заливается, читая маленькие рассказы Чехова, – те, в которых еще так много молодости и веселости.
И опять не заметил Стакан, как ушла Елена. И одна за другою приходили в его кабинет его прежние возлюбленные, все семь перебывали, и каждая принесла ему подарочек: веселая Елена – алые розы, умная Лариса – свою новую книгу о народных домах, заботливая Наталья – электрическую грелку для красного вина, добрая Татьяна – десять тысяч папирос для того лазарета, где Стакан был попечителем, насмешливая Вера – попугая, который кричал:
– Стак-кан, поцелуй Крут-тильду!
Элегантная Раиса принесла полсотни галстуков, один необыкновеннее другого, и некоторые из них столь экстравагантные, что на них и смотреть нельзя было без восторга.
Каждая что-нибудь подарила, сказала какое-нибудь ласковое слово, напомнила о милом, невозвратном прошлом, каждая дала понять, что она лучше Крутильды, – и все они были и на самом деле очень хороши, вполне превосходны. Но каждое посещение милых прелестниц погружало Стакана опять в воспоминания о первых Крутильдиных очарованиях. Не такая умная, как Лариса, но зато какая гибкость и восприимчивость, какая жажда узнавать! Не такая заботливая, как Наталья, и даже как будто совсем легкомысленная, – но, однако, все вовремя и в меру. Не такая добрая, как Татьяна, – но уж если поможет кому, то основательно. Не такая насмешливая, как Вера, но уж если скажет про кого словечко, то удачнее и смешнее никто не придумает. Далеко не такая элегантная, как Лариса, – где уж ей, дочери пьяного сапожника! – но что ни наденет и как ни повернется, все к лицу и к месту, и ко времени.
И когда все перебывали, еще несколько минут сидел Стакан, вспоминал и улыбался.
Вошла принарядившаяся для гостей и праздника горничная Сыр-Дарья сказать, что обед подан. Был забавен Стакану белый чепчик над ее слишком круглым лицом. И вслед за нею, не успел еще Стакан подняться с кресла, вошла Крутильда, и он услышал ее низкий, как будто бы слегка хриплый голос:
– Хорош хозяин! Дамы два часа сидят в гостиной, а он один в кабинете. Да что я! Не один, – то одна, то другая к тебе шмыгали. Все побывали? Цветы-то Сыр-Дарья в вазы поставила? Да уж вижу, хороши, хороши подарки. Потом покажешь, теперь идти пора.
И уже потому, что она так непрерывно говорила, и потому, как гудел напряженно ее голос, и потому, как напрягались мускулы на ее обнаженных руках, заметно было, что она вся дрожит и взволнована, – и тем взволнована, что вот он видел своих возлюбленных, – всех, кого она сама звала, – а других она и не спрашивала, – поговорил с каждою наедине и сравнивал ее с каждою, – и тем взволнована, что в ней нет и никогда не будет уверенности и успокоенности, а всегда чуткая настороженность хотящей и ожидающей женщины. Останется ли он с нею, или увлечется опять одною из семи, или, взволнованный этим смотром прелестей, потянется к иной любви и найдет другую, а ее бросит, – она не знала и не хотела знать, и вся она была тревога и желание.
И потому, ощущая всю силу этой взволнованности и тревоги, Стакан почувствовал, что он любит только Крутильду и никакую другую женщину никогда не любил и не полюбит. От сознания неразрывности этой связи ему стало вдруг и весело, и страшно.
За обедом, окруженный восемью нарядными, красивыми и веселыми женщинами, Стакан чувствовал себя очень хорошо.
«Крутильда – хитрая, – думал он, – сумела всех собрать, и все к ней пришли, и уже как будто совсем забыли про те полтинники и рубли, которые когда-то совали в ее руку, когда она открывала перед ними дверь на лестницу».
А как чувствовала себя Крутильда? Раскрасневшаяся очень, такая взволнованная, что казалась иногда подурневшею и поглупевшею, она все время словно шла по самому краю бездны. Ей надо было опять и опять победить всех этих красавиц, и порой ей становилось страшно, – ведь каждая из них чем-нибудь лучше ее. Но великое напряжение воли и силы держало ее все время на высоте, и приступы страха все время сменялись радостною уверенностью в том, что в сердце человека побеждает ее верная сила.
Под конец обеда и Стакан почувствовал возрастающее волнение. Предчувствие хоровода, которым каждый год кончался этот вечер, было опять неприятно ему, и опять он думал: «Напрасно Крутильда затеяла это».
И опять, как всегда, ему казалось, что семь других не встанут, не закружатся, только засмеются.
После обеда перешли в гостиную. Разговоры затихали, всем стало как-то неловко и жутко. Упала минута молчания, и вдруг Крутильда запела:
Любви непобедима сила,
Любовь господствует над всем.
В любви служанка победила
Всех дам прекраснейших, всех семь.
Дамы молчали и сидели слегка побледневшие. Крутильда обвела их круг блестящими, настойчивыми глазами, встала и взяла за руки двух ближайших справа и слева. Встали и они. И одна по одной поднялись все восемь, сцепясь руками, – и Стакан оказался в середине. И они все закружились и запели:
Любви неодолима сила.
Любви сопротивляться грех.
Мы все прекрасны, – победила,
Однако же, Крутильда всех.
Они кружились все быстрее и быстрее, на Стакана веяло ароматами их духов, складки их одежды иногда задевали его, все ближе и ближе к нему проносились они, голова его томно кружилась, сердце билось больно и сладко, и наконец он потерял сознание.
Как сквозь сон слышал он испуганные голоса дам.
– Ничего, ничего, сейчас это пройдет, – говорила Крутильда.
С трудом он приподнялся со своего кресла, – и уже все было как в тумане. Полусознательно говорил что-то, целовал чьи-то руки. Гостьи прощались и уходили, потом Крутильда куда-то его повела, чем-то его поила, послала за чем-то в аптеку Сыр-Дарью. Потом опять стало тихо и темно.
Когда Стакан совсем очнулся, он лежал на диване, в кабинете. Перед ним стояла на коленях Крутильда, раздетая, в одной рубашке. Лицо ее было опять мило и румяно, и голые руки ее тянулись к нему, и грудь поднималась так напряженно, так страстно.
– Милая, милая! – шептал Стакан. – Желанная моя, родная, единственная, навсегда моя!
И привлек ее к себе, и обнял порывисто и торопливо, словно еще не веря своему безмерному счастью, своей радости непомерной. Воистину родная, та, которой всегда жаждала душа!








