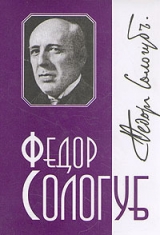
Текст книги "Том 5. Литургия мне"
Автор книги: Федор Сологуб
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
Глава вторая
Бабушка, Елизавета Павловна, сидела в покойном кресле у окна, раскладывала на ломберном столе пасьянс и слушала горбатую шутиху. Та рассказывала бабушке все здешние новости, пересыпая рассказ нелепыми ужимками и глупыми прибаутками. При входе Надежды Сергеевны и Лизы шутиха с подобострастными поклонами выкатилась из комнаты.
Бабушка была уже очень старая, но еще совсем бодрая. Глаза у нее были голубые и весьма приятные. Лицо у бабушки было свежее и почти без морщинок. Из-под кружевного белого чепца с синими бантами видны были седые букли. Одета была бабушка, как всегда, парадно, – хоть сейчас к гостям выходи. На ней был лиловый, – цвета Лизина сна, – шелковый капот. Через правое плечо ее была перекинута старая желтоватая, цвета апельсинной завялой корки, турецкая шаль. У бабушкина кресла стоял костыль. Он помогал ей в прогулках, а также и в исправлении строптивых или ленивых девок.
Бабушка имела свое собственное именье в той же губернии. Знали, что она хочет оставить его Лизе, хотя у нее были и другие внуки и внучки. Николай Степанович говаривал:
– Не велик кусок, а все же Лизаньке пригодится.
Поэтому за бабушкою здесь ухаживали и очень слушались ее.
Лиза, войдя к бабушке, присела очень низко, придерживая юбочку тоненькими пальчиками опущенных и разведенных рук. Бабушка ласково потрепала ее по щеке. Надежда Сергеевна рассказала бабушке, в чем дело. Лизе пришлось повторить свой рассказ. Лиза чинно стояла перед бабушкою и говорила о своем сне, точно урок строгому учителю отвечала. Бабушка выслушала рассказ очень внимательно, не выразила никакого удивления и сказала тоном женщины, привыкшей к тому, что к ее словам прислушиваются:
– Знаю, от чего эти сны, – от Елевферкиных сказов. Елевферку давно пора пробрать хорошенечко. Лушке строго сказать, чтобы не смела барышне сниться. Не уймется, – наказать построже. А тебя, сударыня…
Бабушка внимательно, с неопределенным выражением не то усмешки, не то угрозы, посмотрела на Лизу и помолчала. Лизино сердце забилось. Бабушка пожевала сухими малинового цвета губами и сказала Лизе:
– Ты, ветреница, книжки читаешь, я слышала. Отец научил, старый вольнодумец. Вышивала бы лучше бисером или синелью. От книжек сны глупые. Вышивай, – слышишь?
– Слушаю, бабушка, – робко сказала Лиза, – я и то вышиваю в пяльцах.
– Вышиваешь, да не кончаешь, – сказала бабушка. – Кажется, уж скоро полгода будет, как начала подушку вышивать, а всего еще полвеночка роз вышито. Ты не думай, – ведь я все знаю, что у вас там делается. Ну, идите себе с Богом, устала я с вами.
Ушли и мать, и дочь, обе немного смущенные, как всегда после визита к бабушке.
* * *
Между тем как Надежда Сергеевна и Лиза ходили к бабушке, Николай Степанович занялся делом, к управлению относящимся, или, точнее говоря, к отправлению правосудия. Лизин сон напомнил ему вчерашнее донесение бурмистра Титыча о происшествии соблазнительном и неожиданном. Старый повар Елевферий, трудами и способностями которого господа были отменно довольны, уже давно замечаем бывал в пристрастии к чтению. Хотя читал он книги церковные и душеспасительные, преимущественно Евангелие и Четьи-Минеи, но все-таки Николай Степанович глядел на это чтение неодобрительно. Не раз, призвав повара к себе, Николай Степанович выговаривал ему:
– Эй, Елевферий, смотри, не доведет тебя до добра твое пристрастие к чтению. Я и больше тебя разума имею, как господин прирожденный, да и то книг не читаю, кроме иногда книг Вольтеровых, – на что всякие книги надобны? А ты – отродье хамово, и разум у тебя худой, хоть руки у тебя и золотые. Читаемое тобою ты можешь понять превратно, отчего и сделается в тебе повреждение. Тогда куда же ты пригодишься, сам подумай! Господам поврежденный повар опасен. А на другую работу ни на какую ты уж и не способен.
Выждав минуту, когда барин остановится понюхать табаку, Елевферий говорил:
– Позвольте доложить, барин, что я пустых книг не читаю, а читаю токмо то, что к спасению души относится, ища, как угодити Богу паче человек.
Николай Степанович покачивал головою и говорил:
– А ты знаешь, кто Библию прочтет всю насквозь, от доски до доски, тот с ума сойдет? Слышал ли ты это?
Елевферий понятливо усмехался и говорил:
– Я тоже с пониманием читаю, барин. Апокалипс я и не читаю, не нашей мудрости требует эта книга. А Евангелия чтение пресладостно и преполезно, и простецам понятно, потому что и сам Господь наш Иисус Христос проповедовал простому люду, неученым рыбарям, и ловцами человеков поставил их.
– Смотри, Елевферий, – говорил барин, – говорю с тобою сегодня добром, жалеючи тебя за то, что дело свое гораздо разумеешь, – эй, говорю, не предавайся сим высокоумным упражнениям. На то есть ученые люди; попы в церкви тебе все прочтут и пропоют, что надобно, да еще и ладаном надымят. А тебе это ни к чему.
Понюхав табаку и помолчав, Николай Степанович говорил внушительно:
– Иди себе, Елевферий, да помни, – не послушаешь словца, так отведаешь дубца. Я – хозяин ласковый, угостить сумею так, что прибавки не попросишь.
Елевферий шел к себе, книги прятал, а сам свирепо напивался. Николай Степанович, узнав об этом, спокойно говорил:
– Пусть лучше иногда выпьет человек, чем книги читать. Водка – слабость, простому русскому человеку весьма свойственная. Да и я до крайности не допущу и пресеку во благовремении. Пристрастие же к чтению – от высокоумия и гордости, а гордость – грех смертный. Сей бес, однажды в человека вошедший, изгоняется нелегко.
Некоторое время после бариновых увещаний не слышно бывало, чтобы Елевферий читал. Потом опять принимался он за прежнее и опять бывал увещаем. Но вот вчера вечером бурмистр Титыч доложил Николаю Степановичу, что к Елевферию ходят дворовые люди и девки, а он им читает Евангелие и объясняет, будто бы на том свете первые будут последними.
– Ну, это еще на том свете будет, – сказал Николай Степанович. – Однако скажи, чтобы к нему ходить не смели, да и ему строго прикажи не читать другим и не учить никого. Не его ума дело. Впрочем, я сам завтра утром все это разберу.
Зная хорошо верность и преданность своих холопов и будучи вполне уверен в действительности тех средств, коими располагает помещик для обуздания своеволия своих подданных, Николай Степанович не был обеспокоен Титычевым донесением, а к утру чуть было и не позабыл о нем. Быть может, так бы и прошло на этот раз, – Николай Степанович встал сегодня в хорошем расположении и не склонен был судить и наказывать. Но утренний Лизин рассказ о ее сне заставил его думать, что Елевфериевы речи мутят дворню. И он велел позвать к себе Елевферия. Думал: «Видно, Лизаньке девки шепнули, чего ей не надобно было слушать, она, ложась спать, думала об этом, вот ей и приснилась эта белиберда, от которой пришла она не в малое расстройство».
Скоро перед Николаем Степановичем стоял повар Елевферий, высокий, красивый, благообразный старик. Только красный нос портил его лицо, – повар Елевферий любил выпить, разделяя страсть, обуревающую в России многих «умственных» людей. Борода его была старательно пробрита, а бакенбарды были холеные, седые, пушистые. Представ перед барином, Елевферий степенно поклонился ему в пояс, коснувшись рукою пола. Николай Степанович строго спросил его:
– Ты что же это, Елевферий, моих людей мутить вздумал? Чему это ты их учишь, скажи, сделай милость!
Елевферий поклонился барину в ноги движением степенным, словно свершая значительной важности обряд и, поднявшись, чинно сказал:
– От священного писания изъясняю.
– А кто тебя поставил изъяснять? – строго спросил Николай Степанович. – Ты – повар, так и пеки пироги. Не учась в попы не ставят, так-то вот, любезный. А тебя всяческим риторикам да философиям кто учил?
Елевферий степенно отвечал:
– Как есть у меня свое понимание…
– А ты помолчи, – прервал его Николай Степанович. – Понимание у тебя дурное, и изъяснять ты никому ничего не можешь. Слепой слепого поведет, оба в яму ввалятся, только и всего прибытку. Ну вот скажи мне к примеру, что есть писано страфокомил?
Задавши этот вопрос, Николай Степанович с торжествующим видом посмотрел на Елевферия, будучи почему-то уверен, что Елевферий этого слова объяснить не сумеет. Но, к изумлению и досаде Николая Степановича, Елевферий принялся обнаруживать свое понимание.
– Строфокомил, сиречь строфус, – объяснял Елевферий, – кур пустыни, ростом ужасен, нравом кроток, пером курчав, телом тяжел, и посему летать не может, а бежит по пескам втрикраты быстрее ветра, вопя гласом велиим. Дает перо для украшения рыцарских шлемов, но без великой хитрости иман быть не может, ибо, скрыв голову под крыло, становится незрим.
– То-то вот, – наставительно сказал Николай Степанович, – без великой хитрости не токма что строфокомила, сиречь строуса, не поймаешь, но и прочих дел никак не сообразишь. А ты в какие рассуждения втяпался? Кто мы, благорожденные, и кто вы, холопы наши? Ты это понимаешь ли, кур кухонный? Ростом и ты ужасен, и волосом пушист, а есть ты сущий хам и остолоп, телепень ты этакий несосветимый! Ты что там толкуешь? Мы, господа, на том свете будем позади, а вы, рабье племя, вперед пойдете? Так, что ли, по-твоему?
Елевферий опустил глаза, вздохнул и степенно молвил:
– Есть на земле ваша господская над нами воля, а только что действительно обещано в писании, что в царствии Божием несть слуга, ни господин.
Николай Степанович покраснел от гнева. Нервически постукивая табакеркою по круглому столику красного дерева, у окна стоящему, он сказал:
– Ты что ж, рыцарь слоеный, на коня сядешь, а я тебе стремя держать буду? Ты в шлафрок на диван развалишься, а я тебе трубку подавать стану?
Елевферий, не поднимая глаз, смиренно, но упрямо сказал:
– Здесь, на этом свете, есть ваша господская воля, а там, по грехам нашим и по великой милости Божией, воздается коемуждо по делом его.
Николай Степанович встал, пылая гневом.
– Я тебе покажу коемуждо! Я тебе воздам! Позвать Титыча! – крикнул он голосом, слышным во всей усадьбе.
И уже барское правосудие готово было совершиться. Уже казачки и девки вихрем помчались во все стороны разыскивать Титыча. Но в это самое время, как волна встречного вихря, вслед за вошедшими в столовую Надеждою Сергеевною и Лизою, вбежала запыхавшаяся расторопная девка Степанида, крича:
– Барыня, едут! Гости едут, гости, от Заозерья!
– Что кричишь, оглашенная! – прикрикнула на нее Надежда Сергеевна. – Не можешь доложить спокойно? Может быть, еще и не к нам едут.
А сама засуетилась. Пошла в гостиную к зеркалу и тревожно оглядывала себя с головы до ног, нет ли какой неисправности в туалете. И уже слышен стал звон бубенчиков, все приближающийся.
Глава третья
Николай Степанович быстро прошелся по всему дому, покрикивая на слуг:
– Ну, вы, засони! Везде непорядки!
Но так как на самом-то деле везде все было в отменном порядке и к принятию гостей весьма готово, то Николаю Степановичу делать было нечего. Он, опять забывши об Елевферии, пришел в гостиную. Здесь уже Надежда Сергеевна сидела на диване с каким-то рукодельем в руках, опираясь локтем на вышитую подушку, меж тем как у окна Лиза, тонкими пальчиками отодвинув край кисейного занавеса, а левою рукою трепетно держась за один из стволов бронзового канделябра, стоявшего на маленьком овальном столике, выглядывала на дорогу, торопясь узнать верно, кто едет. Николай Степанович взглянул на Лизу и сказал, посмеиваясь:
– Видать сразу, что Львицын молодой едет.
Лиза покраснела и бросила на отца стыдливый, умоляющий взгляд. Отец погрозил ей пальцем, засмеялся и сказал:
– Все вижу, плутовка быстроглазая. От меня и под землею не скроешься.
Лиза засмеялась и убежала. Николай Степанович подмигнул жене и сказал:
– Пошла наша Лизанька прихорашиваться.
– Дело девичье, – улыбаясь, отвечала Надежда Сергеевна.
– Львицын и есть, – сказал Николай Степанович, всмотревшись в подъезжавший к воротам усадьбы экипаж. – Почтенных родителей сынок, – дай Бог им царство небесное, – и ведет себя скромненько, а все что-то странное в нем есть. Служить нигде не служит и не хочет служить, хозяйством своим не занимается, ездит с места на место, смотрит, где лучше. Чужие края хвалит, а наши порядки ему не нравятся.
– Вот женится, – сказала Надежда Сергеевна, – привяжется к месту, остепенится.
«А кто же привяжет молодого человека к месту? Никто, как наша Лизанька», – думала Надежда Сергеевна.
* * *
Пока Лиза, принаряжаясь, старалась успокоить свое волнение, прошло немало времени. В гостиной ее родители беседовали со своим гостем, молодым Алексеем Павловичем Львицыным, соседом их по имению. Алексей, вынув из бокового кармана своего серого фрака письмо, сказал:
– С вашего позволения я прочту вам несколько строк из сего письма. Из них вы изволите усмотреть, почему чужие края меня привлекают, и почему в глазах европейца самое имя России есть синонима варварства.
– Однако, – возразил Николай Степанович, – эти самые варвары освободили сих пресловутых европейцев от несносного деспотизма Наполеонова.
– Чем других спасать, – сказал Алексей, – «не лучше ль на себя оборотиться?» Вот пишет мне из Петербурга мой дядюшка…
– Его превосходительство Григорий Алексеевич? – спросил почтительно Николай Степанович и, получив утвердительный ответ, осведомился о здоровье его превосходительства, его супруги и его детей.
Отвечая поспешно и невнимательно на эти вопросы, Алексей вертел в руках дядино письмо, горя нетерпением скорее прочесть занимавшее его место из этого письма. Наконец, получив к тому возможность, он начал:
– Так вот что пишет мне дядюшка:
«Расскажу тебе прекуриозное происшествие, приключившееся здесь недавно. Некая молодая и красивая собою девица Амалия К.»…
– Фамилию позвольте умолчать, – сказал при этом Алексей и продолжал чтение:
«…проживала у старшей своей сестры, которая имела любезного и нередко ревновала его к сестре. Однажды сия чета, воспользовавшись хорошим днем, отлучилась из квартиры погулять; в отсутствие их и Амалия ушла к своей тетке. Добрая женщина отлично знала, что житье молодой ее племянницы у старшей сестры не блистательное, что она исполняет часто обязанности служанки и живет с нею потому лишь, что некуда деваться. При прощании она дала ей сорок копеек, которые Амалия завернула в один из углов платка. Возвратясь домой, старшая К. не нашла ночного капота и придралась к сестре; та ударилась в слезы. Понадобилось ей вытереть глаза; доставая из кармана платок, она выронила подаренные теткою монеты. Эти несчастные деньги были причиною, что старшая К. обвинила младшую в краже капота, который она будто бы продала за сорок копеек. Напрасно последняя ссылалась на тетку; это ей на суде не послужило в пользу, так как тетки в столице не оказалось: она отправилась на богомолье во внутренние губернии. Заподозренная в краже, Амалия не знала ни того, откуда она родом, ни к какому состоянию принадлежит по рождению, почему уголовная палата и присудила ее к наказанию розгами. После исполнения над Амалиею наказания, в управу благочиния присланы были документы, удостоверявшие дворянское происхождение Амалии; к тому же времени вернулась с богомолья тетка, которая подтвердила ее показание. Несчастная Амалия покорилась своей участи и не искала за бесчестье, но чиновники палаты, движимые состраданием к молодой и красивой особе, пострадавшей из-за ревности сестры, сложились и вручили ей сто пятьдесят рублей».
Слушая чтение, Надежда Сергеевна с соболезнованием покачивала головою и восклицала:
– Ах, бедная Амалия! Ах, несчастная!
Николай Степанович внушительно сказал:
– Поторопились судьи напрасно. Жаль бедную девушку, – такого стыда деньгами не искупишь. Впрочем, нет худа без добра, – девица получила хорошее приданое. Я чаю, что и женишок ей скоро найдется, если она точно столь хороша собою, – из тех же чиновников, пожалуй, кто-нибудь.
В это время в гостиную вошла наконец Лиза. Алексей встал со своего места, учтиво кланяясь ей. Лиза, взглянув на его длинные, до плеч, волнистые русые волосы, на его небрежно, но красиво повязанный галстук, вспыхнула, и сердце ее забилось. Пролепетав невнятно слова привета, она скромно села рядом с матерью на стул под портретом одного из ее предков, воинственного полковника с величавою осанкою. Томный взор Алексея, слегка презрительный и насмешливый, оживился, когда в комнату вошла Лиза. Продолжая начатый разговор, но уже не в силах будучи отвести взора от белого кисейного Лизина платья, он сказал:
– Чувствующему и размышляющему человеку ненавистны эти проклятые потемки, в которых держат нас.
Его разговоры всегда несколько удивляли соседей, и те выводы, которые он делал из частных явлений, казались им преувеличенными.
Николай Степанович спросил:
– Но кто же нас держит? Да и какие у нас потемки? Россия имеет людей весьма просвещенных.
Алексей возразил:
– Просвещенный человек, истинный гражданин и сын отечества, питает ненависть к деспотизму. А мы, скитающиеся по сей обширной и безвыходной пустыне, к сему деспотизму так привыкли, что уже и не возмущаемся им.
Бросив при этом нежный и томный взгляд на Лизу, Алексей сказал:
– Намерен я вскорости поехать в Германию.
– Батюшка, Алексей Павлович, да зачем так далеко вам ездить? – спросила Надежда Сергеевна. – Разве же у нас худо? Я бы с этими немцами и дня не прожила, – говорят не по-нашему и едят не по-нашему, – легко ли к чужим порядкам привыкать?
Лиза покраснела и досадливо нахмурилась. Алексей отвечал:
– Там нет ужасных позорищ, извлекающих у чувствительных сердец слезы сострадания, и при которых истинный друг человечества содрогается. Там добродетель освещается невечерним светом правды, и народы прислушиваются к голосу философов и поэтов. Там хочу я упражняться в добродетели и в науках.
– Дело семинаристов, – возразил Николай Степанович. – Дворянские занятия – военная служба, охота, имение управить. Об этом в Лизанькином песеннике я вычитал очень хороший стишок.
Николай Степанович понюхал табаку, и с чувством прочитал наизусть:
Деревенское житье —
Счастье непорочно.
Упражнение мое
Мне с друзьями прочно.
Время с пользой провожу,
Дальних бед не видя,
Все забавы нахожу,
Ближних не обидя.
Алексей возразил:
– Вы, Николай Степанович, как почитатель великого Вольтера и как человек глубокого ума, не можете не видеть, что в сей стране слепых господствуют кривые.
Улыбаясь тонко, польщенный словами Алексея, Николай Степанович сказал:
– Кривые-то, государь мой, все же лучше видят, чем вовсе слепые.
Обед подан был рано, по-деревенски. Ровно в два часа распахнулась дверь из гостиной в столовую, и молодой курносый лакей в кафтане горохового цвета с бронзовыми пуговицами выкрикнул:
– Кушать подано.
– Милости просим, – сказал Николай Степанович, вставая со своего кресла, – чем Бог послал.
Пошли обедать. Обед прошел в обычных незначительных разговорах, в которых иногда принимали участие и несколько обедавших за тем же столом небогатых дворян и дворянок, живших в барском доме и во флигелях в Ворожбинине. Из этих гостей некоторые приезжали на несколько недель и потом уезжали к другим своим знакомым, чтобы по истечении времени появиться здесь снова; другие же оставались на целые годы. Обращаясь к одному из таких приживальщиков, седенькому, плешивому старичку во фраке, с длинным носом и с резною табакеркою, Николай Степанович спросил, усмехаясь с таким видом, как бы обещая гостю забавный ответ:
– Скажите, Петр Евсеевич, как супруга ваша поживает? Все ли в добром здоровье?
– Что ей сделается! – отвечал Петр Евсеевич, махнув рукою и сморщившись, как бы при воспоминании о неприятном. – Живет у матери своей. Меня ведь насильно с нею обвенчали.
За столом кое-кто засмеялся, другие слушали, как давно известное. Алексей смотрел на говорящего с изумлением и ждал объяснения его странных слов.
– Да как же так? – возразил Николай Степанович. – Ведь священник спрашивал же вас: «Имаши ли благое и непринужденное произволение пояти себе в жену юже пред собою видиши?»
– Да, – говорил Петр Евсеевич, – теперь помнится, у меня что-то такое спрашивали: да тогда я не спохватился отвечать, а нынче уж поздно, не воротишь. Вот мы недавно отпраздновали и серебряную свадьбу у тещи в деревне. Бог с нею совсем!
Над старичком смеялись, но видно было, что рассказ этот здесь уже привычен. Алексей не стал спрашивать о причинах этого венчания, боясь, чтобы при Лизе не зашел разговор о предметах, которые могли бы оскорбить ее скромность. Меж тем обед приблизился к концу. Николай Степанович встал, поклонился гостям и сказал:
– Сыто, не сыто, а за обед почтите. Чем Бог послал.








