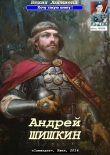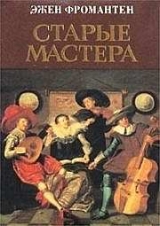
Текст книги "Старые мастера"
Автор книги: Эжен Фромантен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Ван Дейк
Вот как я представляю себе портрет ван Дейка, если ограничиться беглыми разрозненными штрихами карандашного наброска.
Юный принц королевской, крови, ван Дейк был щедро одарен судьбой. Красивый, изящный, обладавший исключительными дарованиями и рано проявившейся гениальностью, он получил прекрасное воспитание и сверх того все то, чем был обязан счастливой случайности – своему происхождению. Любимец своего учителя, он в то же время сам был учителем своих товарищей. Повсюду, за границей еще более, чем у себя на родине, его выделяли, приглашали, чествовали. Стоявший на равной ноге с знатнейшими вельможами, фаворит королей и их друг, ван Дейк быстро овладел всем самым желанным на земле. К его услугам было все: талант, слава, почести, роскошь, страсти, приключения. Вечно юный, даже в зрелые годы, всегда беззаботный, даже в последние дни своей жизни, распутник, гуляка, игрок, алчный, расточительный и, как сказали бы в то время, продавший черту душу, лишь бы раздобыть гинеи, которые он потом расшвыряет полными пригоршнями на лошадей, на роскошь, на разорительные любовные связи, – таков был этот человек. Безгранично влюбленный в свое искусство, он приносил его, однако, в жертву менее благородным увлечениям, менее верным связям, менее счастливым привязанностям. Ван Дейк обладал привлекательной внешностью и изящным сложением, как это наблюдается порой в последующих поколениях древних родов. Облик – скорее изнеженный, чем мужественный; манеры – скорее Дон-Жуана, чем героя, с налетом меланхолии и, пожалуй, даже скрытой грусти, порой сквозящей в его веселье. Пылкое, нежное сердце и какая-то разочарованность, свойственная слишком часто увлекающимся людям. Натура скорее воспламеняющаяся, чем горячая, более чувственная, чем действительно пылкая, скорей беспорядочная, чем бурная; он не был хозяином жизни, а позволял ей овладевать собой или сам отдавался ей. Существо исключительное по своему обаянию и чуткое к обаянию других, растрачивающее свой силы на то, что больше всего изнуряет, – на музу и женщин, – ван Дейк злоупотреблял всем: и своей обаятельностью, и своим здоровьем, достоинством, талантом. Он был подавлен нуждой, истощен удовольствиями, лишен всего, что имел. Ненасытный, как говорит предание, – он кончает тем, что якшается с итальянскими мошенниками и тайком занимается алхимией, чтобы добыть золото; ветреник, который в конце своих приключений женится, как говорят, по приказу, на прелестной знатной девушке, когда он не может уже дать ей ни свежести сил, ни богатства, ни былого очарования, ни уверенности в дальнейшем; разбитый жизнью человек, которому, однако, дано величайшее счастье до последнего момента оставаться великим художником; и, наконец, шалопай, обожаемый, поносимый, а позднее оклеветанный, но, в сущности, достойный лучшей репутации, которому можно простить все за его высший дар, одно из проявлений гения – очарование. Одним словом, ваи Дейк – это принц Уэльский, который умирает вскоре после того, как освобождается трон, и которому все равно не суждено было царствовать.
Несмотря на всю значительность его творчества, бессмертные портреты, в которых отразилась душа художника, открытая самым тонким ощущениям, несмотря на своеобразие его стиля, присущую ему изысканность, вкус, чувство меры и обаяние, которые он вносил во все, к чему бы ни прикасался, – мы все же можем задать себе вопрос: а чем был бы ван Дейк без Рубенса?
Какими глазами смотрел бы он на природу и как понимал бы задачи живописи? Какую палитру создал бы? Какую избрал бы манеру моделировки? Какие законы колорита установил бы? Поэтику какой школы принял бы? Склонился ли бы он больше к итальянцам, к Корреджо или к Веронезе? Если бы революция, произведенная Рубенсом, запоздала на несколько лет или вовсе не произошла, то какова была бы участь всех этих пленительных талантов, людей, перед которыми Рубенс открыл все пути, так что им оставалось лишь смотреть на его жизнь, чтобы жить, как он, наблюдать за тем, как он писал, писать так, как до него не писал никто, сопоставлять творения учителя, какими тот их задумывал, с тогдашним обществом, постигнуть установившееся взаимоотношение и отныне неразрывную связь двух одинаково новых миров – современного искусства и современного общества. Кто из них бы взялся за такую задачу?
Нужно было основать новую империю: могли ли они сделать это? Иордане, Крайер, Герард Сегерс, Ромбаутс, ван Тюльден, Корнелис Схют, Буйерманс, Якоб ван Ост из Брюгге, Тенирс, ван Юден, Снейдерс, Ян Фейт – все те, кого Рубенс вдохновлял, просвещал, развивал, учил работать, – его сотрудники, ученики и друзья, – в лучшем случае могли лишь поделить между собой малые и большие области искусства, причем самый одаренный из них, ван Дейк, должен был, конечно, взять самую значительную и самую лучшую из них. Но лишите их того, чем они прямо или косвенно обязаны Рубенсу, удалите центральное светило, и вы увидите, что осталось бы от этих блестящих его спутников.
Отнимите у ван Дейка тот первоначальный образец, из которого исходило его творчество, тот стиль, из которого он извлек собственный стиль, чувство формы, выбор сюжетов, склад ума, манеру и технику, служившие ему примером, – вы увидите, чего ему будет не хватать. В Антверпене, в Брюсселе, повсюду в Бельгии ван Дейк идет по стопам Рубенса. Его «Силен» и «Мученичество св. Петра» походят на Иорданса, но тонкого и почти поэтичного, или, что то же, на Рубенса, сохранившего все свое благородство, но приобретшего утонченность благодаря большей взыскательности руки художника. Все его святые, его страсти господни, распятия, снятия с креста, прекрасные изображения мертвого Христа, красивые женщины в трауре и в слезах – все это не существовало бы или было бы другим, если бы Рубенс не раскрыл раз навсегда в своих двух антверпенских триптихах фламандскую формулу Евангелия и не установил местный тип богоматери, Христа, Магдалины и учеников.
В утонченном ван Дейке всегда больше сентиментальности, а иногда и глубокого чувства, чем в великом Рубенсе. Но вполне ли уверены вы в этом? Это – дело оттенков и темперамента. Обычно сыновья, подобно ван Дейку, наследуют и некоторые женские черты, которые дополняют в них черты отцовские; от этого отцовские черты становятся иногда красивее, смягчаются, изменяются, становятся мельче. Как бы воздействием женщины можно объяснить и различие, вообще довольно значительное, между Рубенсом и ван Дейком. Ван Дейк удлиняет фигуры, которые Рубенс пишет слишком полными, и меньше дает чувствовать мускулы, рельеф, кости и кровь. Он менее неистовый и никогда не бывает груб. Его выразительность не столь резка. Он редко смеется, часто умиляется, но ему чужды громкие рыдания страстных людей. Он никогда не кричит. Неровности учителя у него сглаживаются. Он непринужден, ибо талант его исключительно естествен и он творит очень легко. Он свободен, быстр, но никогда не порывист.
Если сравнивать работы Рубенса и ван Дейка фрагмент за фрагментом, то окажется, что некоторые вещи, особенно вещи изысканные, ван Дейк рисует лучше, чем его учитель: свободно лежащую руку, женскую кисть, длинный палец, украшенный кольцом. Притом ван Дейк более сдержан, более воспитан, принадлежит, можно сказать, к лучшему обществу. В нем больше изысканности, чем в его учителе, который сформировался самостоятельно и царственное положение которого в искусстве от многого его освобождало и многое извиняло.
Ван Дейк был на двадцать четыре года моложе Рубенса, и в нем ничего не осталось от XVI века. Он принадлежал к первому поколению XVII века, и это чувствуется и в физическом и в духовном его облике, в человеке и в художнике, в его красивом лице и в его влечении к красивым лицам. Особенно это сказывается в его портретах. В этой области ван Дейк всегда остается светским человеком, принадлежащим светскому обществу своего времени. Он никогда не создавал образов, уводящих от правды жизни, он точен, он видит верно и умеет находить сходство. Быть может, он придает всем своим персонажам частицу своего собственного изящества, свойственную ему благородную осанку, более изящный домашний костюм, более изысканный покрой платья и расположение складок, белые руки одинаково безупречного рисунка. Во всяком случае, он лучше учителя разбирается в нарядах, в модах, в шелковых и атласных материях, позументах, лентах, перьях, прихотливо украшенных шпагах.
Это уже не рыцари, это – кавалеры. Воины сбросили свои доспехи и шлемы. Теперь это придворные и светские люди в расстегнутых камзолах, в пышных сорочках, в шелковых чулках, в небрежно облегающих фигуру панталонах, в атласных башмаках на каблуках. Это моды и привычки, которым следовал он сам, и он, как никто, был призван к тому, чтобы изображать их во всем совершенстве светского идеала. В пределах своей манеры и своего жанра, благодаря необычайному сродству своей натуры с духом, потребностями и элегантностью своей эпохи ван Дейк не уступает никому в искусстве писать современников. Его портрет Карла I по глубокому проникновению в сюжет и в характер модели, по интимности и благородству стиля, по красоте, присущей решительно всему в этом выдающемся произведении, по характеристике лица, по рисунку, колориту, по исключительно изысканному и верному соотношению валеров, по качеству работы, – портрет Карла I, говорю я, беря наиболее известный во Франции пример его творчества, – выдерживает любые сравнения.
Его тройной портрет в Турине – того же порядка и значения. В этом отношении ван Дейк сделал больше, чем кто-либо после Рубенса. Он дополнил Рубенса, прибавил к его наследию портреты, безусловно достойные учителя, а подчас превосходящие рубенсовские. Своими самобытными портретами он внес лепту в создание нового искусства.
Впрочем, ван Дейк сделал еще больше – он породил целую иностранную школу – английскую школу. Рейнолдс, Лоренс, Гейнсборо, я сказал бы, почти все художники, верные английским традициям, и наиболее сильные пейзажисты непосредственно исходят от ван Дейка и косвенно через него от Рубенса. И это его большая заслуга. Поэтому потомство, всегда инстинктивно справедливое, отводит ван Дейку особое место между первыми и вторыми величинами художественного мира. Никому не удалось точно определить его место среди великих людей. И при жизни и после смерти он как бы сохранил привилегию с достоинством стоять возле трона.
В то же время – я возвращаюсь к сказанному – неповторимый гений, неповторимое изящество, неповторимый талант, весь ван Дейк в целом был бы необъясним, если бы не солнечный свет, бросающий на него такие прекрасные отблески. Если бы вы стали искать того, кто научил его этим новым приемам, этому свободному языку, уже не имеющему ничего общего со старым, то вы увидели бы на нем сияние, исходящее откуда-то извне, не от его гения, и в конце концов предположили бы, что, по всей вероятности, где-то рядом с ним должно было светить великое исчезнувшее светило.
Вы уже не назвали бы ван Дейка сыном Рубенса. Вы прибавили бы к его имени: «учитель неизвестен». И тайна его рождения заслуженно привлекла бы к себе внимание историографов.
Гаага и Схевенинген
Гаага – определенно один из наименее голландских городов во всей Голландии и в то же время один из наиболее оригинальных в Европе. Она обладает именно той степенью местного своеобразия, которая придает ей особенную прелесть, и тем оттенком изящного космополитизма, который делает из нее самое удобное место встреч. В этом городе смешанных нравов есть все, и, однако, физиономия его очень индивидуальна. А обширность, чистота, живописность лучшего вкуса и немного высокомерная грация придают его гостеприимству какой-то особый характер исключительной учтивости. В Гааге мы находим легкую на подъем местную аристократию, пришлую аристократию, чувствующую себя здесь прекрасно, внушительные состояния, – добытые в недрах азиатских колоний и прочно тут обосновавшиеся, и, наконец, чрезвычайных послов, время от времени появляющихся в Гааге, и притом чаще, чем это требуется для всеобщего мира.
Я посоветовал бы пожить здесь тем, кто проникся отвращением к большим городам за их безобразие, пошлость, шум, мелочность или тщеславную роскошь, но не возненавидел городов вообще. Что же касается меня, то я избрал бы Гаагу местом для работы или отдыха. Тут я мог бы чувствовать себя прекрасно, дышать чистым воздухом, любоваться прелестными вещами и мечтать о еще более прекрасном, в особенности, если бы у меня появились заботы, хлопоты, личные затруднения, если бы я нуждался в спокойствии, чтобы их рассеять, и в чарующей обстановке, чтобы их умиротворить; я поступил бы так же, как поступает Европа после пережитых ею бурь; здесь я устроил бы свой конгресс.
Гаага – столица, это видно сразу; больше того – королевская резиденция; можно даже подумать, что она всегда была ею. Ей недостает только достойного ее положения дворца, чтобы ее внешний облик соответствовал ее нынешнему назначению. Чувствуется, что Гаага имела штатгальтерами принцев, по-своему походивших на Медичи, что у них было тяготение к царствованию, что они должны были где-нибудь царствовать и что не по их вине это случилось не здесь. Таким образом, Гаага – город, по-королевски изысканный. Она имеет на это право, так как очень богата, и это ее обязанность, потому что там, где все благополучно, прекрасные манеры неотделимы от богатства. Гаага могла бы быть скучной, но в действительности в ней все только размеренно, корректно и спокойно. Ей пристало бы и некоторое чванство, но она ограничивается лишь внешней пышностью и широкими замашками. Город, разумеется, опрятен, но не так, как можно было бы ожидать. Чистота его выражается в том, что улицы его хорошо содержатся и вымощены клинкером; что всюду можно увидеть расписанные особняки, зеркальные стекла, полированные двери, блестящую медь; что воды его каналов безупречно красивы и зелены, зелены от того, что в них отражается вся зелень их берегов и их никогда не загрязняют ни мутный след баржи, ни разносимые на ветру отбросы матросской кухни.
Леса Гааги прекрасны. Рожденная по прихоти принца, бывшая некогда местом охоты для графов Голландских, Гаага питает вековую страсть к деревьям, страсть, идущую от родного леса – ее колыбели. Здесь Гаага прогуливается, справляет праздники, дает концерты, устраивает скачки и военные учения. Но, даже когда прекрасный вековой лес ничем не занят, Гаага все же продолжает любоваться этой зеленью, темной, сплошной завесой из дубов, буков, ясеней и кленов, которую постоянная влажность ее лагун каждое утро словно вновь окрашивает в более яркий и свежий цвет.
Наряду с красотой своих вод и великолепием своих парков Гаага явно кичится большой роскошью домашнего убранства, роскошью, с какой она украшает свои сады, зимние и летние салоны, бамбуковые веранды, подъезды, балконы: всюду цветы, неслыханное изобилие редких растений и цветов. Эти цветы получаются отовсюду я отправляются во все стороны. Здесь раньше, чем в остальной Европе, акклиматизировалась Индия. Гаага сохранила как наследие герцогов Нассауских любовь к деревне, к лесным прогулкам в карете, к зверинцам, к овчарням, к красивым, свободно пасущимся на лугу животным. Архитектурный стиль Гааги связывает ее c XVIX веком Франции. Ее фантазии и отчасти ее привычки, ее экзотические украшения и ее аромат идут сюда из Азии. Ее нынешний комфорт побывал в Англии и вернулся обратно, так что в настоящее время нельзя уже сказать, где его начало – в Лондоне или в Гааге. Словом, это город, заслуживающий внимания, ибо в нем есть много интересного как в наружном его облике, так, особенно, в его внутренней жизни, поскольку за его внешней элегантностью таятся большие художественные ценности.
Сегодня я отправился в Схевенинген. Дорога туда – аллея с зеленым сводом, узкая и длинная, прямой линией проходящая сквозь самое сердце леса. Как бы ни горело небо и ни был синь воздух, здесь всегда свежо и темно. Солнце вас покидает при въезде в аллею и вновь настигает при выходе. Выход – это уже начало дюн: широкая, волнообразная, покрытая скудной травой и песком пустыня, какие встречаются на взморье. Вы проходите через селение и видите казино, дворцы-купальни, пышные павильоны, расцвеченные флагами и гербами Голландии. Взбираешься на дюну, потом с трудом спускаешься с нее и попадаешь на пляж. Перед вами – гладкое, серое, убегающее, покрытое барашками Северное море. Кто только не бывал тут и не видел всего этого! Приходят на память Рейсдаль, ван Гойен, ван де Вельде. Легко находишь места, с которых они писали. Я с точностью укажу вам, где они сидели, как будто бы их след сохранился там в течение двух веков. Слева – море, справа – уступами уходящая вдаль дюна; она спускается ярусами, сужается, уменьшается и мягко сливается с бледнеющим горизонтом. Трава там безжизненная, дюны бледные, песчаный берег бесцветный, море молочного цвета, небо шелковистое, облачное, удивительно воздушное; оно отлично нарисовано, отлично моделировано, отлично написано, совсем такое, как его когда-то писали.
Даже во время прилива пляж кажется бесконечным. Как и в прежнее время, гуляющие образуют на нем пятна, нежные или яркие, но всегда эффектные. Черные тона здесь густы, белые – пленительны, просты и сочны.
Очень много света, но вся картина приглушена. Краски на редкость пестры, но целое тускло: красный – единственный яркий цвет, сохранивший свою активность в этой удивительно приглушенной музыкальной гамме, звуки которой столь богаты, а тональность остается столь сдержанной. Здесь и дети – они играют, прыгают, бегут к волнам, кружатся в хороводе, роют ямки в песке; и нарядные женщины в легких одеждах, многие в белых шуршащих платьях, оттененных бледно-голубым или нежно-розовым, но совсем не такие, как их пишут в наши дни, а такие, какими писали бы их – строгими и скромными, – если бы следовали советам Рейсдаля и ван де Вельде. Суда, стоящие на якоре у берега, с их тонкими снастями, черными мачтами и массивными корпусами, до мелочей напоминают тонированные бистром старинные наброски лучших маринистов, а когда проезжает мимо купальная кабинка на колесах, кажется, что это карета принца Оранского, запряженная шестеркой серых в яблоках коней.
Если вы помните несколько наивных картин голландской школы, то вы уже знаете Схевешшген. Он остался тем же, чем был. Современная жизнь изменила лишь детали. Каждая эпоха обновляет действующих лиц, вводит свои моды и привычки. Но к чему это сводится? Разве только к какому-нибудь новому акценту в силуэте. Прежние бюргеры, сегодняшние туристы – это только маленькое живописное пятно, движущееся и изменчивое, это эфемерные точки, чередующиеся из века в век на фоне большого неба, широкого моря, громадной дюны и пепельного песчаного берега.
И будто бы для того, чтобы еще лучше подчеркнуть неизменность жизни на фоне этой огромной декорации, та же волна, которая не раз была предметом изучения, продолжает равномерно бить в равнодушный берег, спускающийся ей навстречу. Волна развертывается, катится и умирает все с тем же прерывистым и однообразным шумом, в котором не изменилась ни одна нота с тех пор, как стоит мир. Море пустынно. Вдали надвигается гроза, и горизонт заволокло набухшими, серыми, неподвижными тучами. Вечером будет сверкать молния, а завтра, будь живы Биллем ван де Вельде, Рейсдаль, не боявшийся ветра, и Бакхейзен, хорошо передававший только ветер, они пришли бы наблюдать дюны при зловещем освещении и Северное море в минуту гнева.
Вернулся я другой дорогой, доехав вдоль нового канала до Принсессе-Грахт. В Малиебане были скачки. Народ по-прежнему толпился под сенью деревьев, вплотную к темной стене листвы, как будто нетронутый газон ипподрома был редкостного качества ковром, который нельзя было топтать.
Будь здесь немного меньше толкотни и всего несколько черных ландо под высокими деревьями, я бы мог вам описать увиденную своими глазами одну из прекрасных картин Паулюса Поттера, будто вышитых терпеливой иглой и искусно оттененных синевато-зелеными полутонами, – одну из тех картин, какие он создавал в дни сосредоточенного труда.
Истоки и характер голландской живописи
Голландская школа возникла в первые годы XVII века. При некотором злоупотреблении датами можно было бы установить день ее рождения.
Она – последняя, быть может, самостоятельная и, уж конечно, наиболее самобытная из великих школ. Перед нами два весьма родственных явления, возникших одновременно при одних условиях: новое государство и новое искусство. Уже не раз говорилось, причем очень убедительно и красноречиво, о происхождении голландского искусства, о его характере, целях, средствах, своевременности его возникновения, быстром росте, новизне и своеобразии и особенно о той внезапности, с какой оно, уже на следующий день по заключении перемирия, появилось на свет вместе с самой нацией, свидетельствуя о живом и естественном расцвете сил народа, увидевшего счастье в жизни и стремящегося познать себя как можно скорее. Поэтому я только мимоходом коснусь исторической стороны предмета, чтобы скорее перейти к тому, что для меня важнее всего.
Голландия никогда прежде не выделялась обилием национальных живописцев, и, быть может, именно в силу этой былой скудости она могла позднее насчитать столь большое количество художников, и притом, несомненно, своих собственных. До тех пор, пока она была слита с Фландрией, именно Фландрия мыслила, создавала и писала за нее. Голландия не имела ни своего ван Эйка, ни своего Мемлинга, ни даже своего Рогира ван дер Вейдена. Лишь на мгновение падает на нее отсвет брюггской школы; она может гордиться тем, что в начале XVI века произвела на свет своего местного гения – живописца и гравера Луку Лейденского. Но Лука Лейденский не создал никакой школы: эта вспышка голландской жизни погасла вместе с ним. Как и Дирк Баутс из Харлема, почти что теряющийся в стиле и манере первоначальной фламандской школы, так и Мостарт, Скорель, Хемскерк, несмотря на все их значение, не являются индивидуальными талантами, отличающими и характеризующими страну.
Впрочем, тогда итальянское влияние одинаково захватило – от Антверпена до Харлема – всех, кто владел кистью. И это было одной из причин того, что границы стирались, школы смешивались, художники теряли свое национальное лицо. Не осталось в живых даже ни одного ученика Яна Скореля. Последний, самый знаменитый, величайший портретист, который вместе с Рембрандтом и наряду с Рембрандтом составляет гордость Голландии, художник, одаренный мощным талантом, прекрасно образованный, разнообразный по стилю, мужественный и гибкий по натуре, космополит, утративший все следы своего происхождения и даже свое имя, – Антонис Мор, или, вернее, Антонио Моро, Hispaniarum regis pictor, как он себя называл, умер после 1588 года.
Оставшиеся же в живых живописцы почти перестали быть по духу своего творчества голландцами; они не были ни лучше организованы, ни более способны обновить школу. Это были: гравер Гольциус, Корнелис Харлемский, подражавший Микеланджело, Блумарт, приверженец Корреджо, Миревёльт, хороший художник-физиономист, искусный, точный, лаконичный, немного холодный, вполне современный, но мало национальный. И все же только он один не поддался итальянскому влиянию. При этом, заметьте, он – портретист.
Любить то, что похоже, рано или поздно к этому вернуться, пережить себя и найти спасение в портретной живописи – такова была судьба Голландии.
Между тем, к концу XVI века, когда портретисты уже создали школу, стали появляться и формироваться другие художники. С 1560 до 1597 года замечаешь довольно большое число этих новорожденных: это уже наполовину пробуждение. Благодаря множеству противоречий, а следовательно, большому разнообразию талантов, вырисовываются различные направления и бесконечно умножаются пути. Художники испытывали себя во всех жанрах, во всех цветовых гаммах: одни признают светлую манеру, другие – темную. Светлая – защищается рисовальщиками, темная, внушенная итальянцем Караваджо, – колористами. Начинаются поиски живописности, художники вырабатывают правила светотени. Палитра становится свободнее, рука – тоже. У Рембрандта появляются уже прямые предшественники. Жанр в собственном смысле слова освобождается от обязательных методов исторической живописи. Вскоре получит окончательное выражение и современный пейзаж. Наконец, создается особый, почти исторический и глубоко национальный жанр – гражданская картина. На этом приобретении, наиболее совершенном по, форме, заканчивается XVI и начинается XVII век. В жанре этих больших полотен с многочисленными портретами – dоеlеn или regenten-stukken, следуя точному наименованию этих специально голландских произведений, – впоследствии будет найдено нечто другое, но лучшего не будет создано ничего.
Как видите, это только зародыши школы, но самой школы еще нет. В талантах нет недостатка, они в изобилии. Среди этих художников, находящихся на пути к тому, чтобы завершить свое художественное образование и окончательно определиться, есть искусные мастера, найдутся даже одия-два больших живописца. Морельсе, происшедший от Миревельта, Ян Равестейн, Ластман, Пейнас, неоспоримый мастер Франс Хальс, Пуленбург, ван Схотен, ван де Венне, Томас да Кейсер, Хонтхорст, Кейп старший, наконец, Эсайяс ван де Вельде и ван Гойен уже были зарегистрированы в метрических книгах 1597 года. Я привожу имена без всяких пояснений. Вы сами легко узнаете в этом перечне тех художников, чьи имена сохранит история, и, конечно, различите тех, чьи имена представляют лишь отдельные попытки, а чьи предвещают будущих мастеров. И вы поймете тогда, чего еще недоставало Голландии и чем ей непременно нужно было овладеть под угрозой лишиться своих лучших надежд.
Момент был критический. Здесь, в Голландии, при совершенно неустойчивом политическом положении все зависело только от случая. Наоборот, во Фландрии, где наблюдалось такое же пробуждение, была ощутима уже уверенность в жизни, какую Голландия далеко еще не приобрела. Фландрия изобиловала уже сформировавшимися или близкими к этому художниками. Кроме того, и это же время в ней возникала еще одна школа – вторая на период, несколько больший одного века, – столь же блестящая, как и первая, но представлявшая гораздо большую опасность для своего соседа в силу своей новизны и стремления занять господствующее положение. Во Фландрии мы находим более терпимое и более гибкое правительство, старые привычки, устоявшуюся и более сплоченную организацию, традиции, общество. К побуждениям, шедшим сверху, присоединялась потребность в роскоши и, следовательно, более чем когда-либо настойчивая потребность в искусстве. Словом, самые энергичные стимулы и самые серьезные причины влекли Фландрию к тому, чтобы вторично сделаться великим очагом искусства. Не хватало только двух вещей: нескольких лет мира, которого ей предстояло добиться, и мастера – он уже был найден, – чтобы создать школу.
В том самом 1609 году, который должен был решить судьбу Голландии, на сцене появился Рубенс.
Все зависело от политической или военной случайности. Побежденная и покоренная, Голландия должна была бы потерять самостоятельность во всех смыслах этого слова. Но тогда какой задаче служили бы два различных искусства у одного и того же народа и при одинаковом режиме? К чему понадобилась бы самостоятельная школа в Амстердаме? Какова была бы ее роль в стране, обреченной отныне на зависимость от итальяно-фламандского влияния? Какая участь постигла бы эти непосредственные и свободные провинциальные дарования, столь мало подходящие для государственного искусства? Допуская даже, что Рембрандт упорствовал бы в своем творчестве, которое трудно было осуществить вне его собственной среды, можно ли представить себе его принадлежащим к антверпенской школе, которая продолжала бы господствовать от Брабанта до Фрисландии, учеником Рубенса, пишущим для соборов, украшающим дворцы и живущим на пенсию эрцгерцогов?
Для того, чтобы родился на свет голландский народ и чтобы голландское искусство увидело свет вместе с ним, нужна была революция (вот почему история этого народа и этого искусства так убедительна!), притом революция глубокая и победоносная. Больше того, нужно было – в это дало Голландии особое право рассчитывать на благосклонность судьбы, – чтобы революция опиралась на справедливость, разум, необходимость, чтобы народ заслужил все то, чего он хотел достичь, чтобы он был решителен, убежден в своей правоте, трудолюбив, терпелив, героичен, мудр, сдержан и показал себя во всех отношениях достойным независимости.
Можно подумать, что провидение обратило взор на этот маленький народ, вникло в его обиды, взвесило его права, убедилось в его силах и признало, что все в этом народе соответствует высшим предначертаниям, и в назначенный день сотворило в его пользу единственное в своем роде чудо. Война, вместо того чтобы разорить этот народ, обогатила его. Борьба, вместо того чтобы истощить, укрепила, воодушевила и закалила его. В победе над иноземцами народ этот проявил то же мужество, что и в победе над стихиями, над морем, над затопленной землей, над климатом. И он добился успеха. То, что должно было его уничтожить, послужило ему на пользу. Его беспокоило только одно: как обеспечить свою жизнь? И тогда на протяжении тридцати лет он подписывает два договора, которые дают ему свободу, а затем укрепляют его положение. Чтобы упрочить свое собственное существование и придать ему блеск благоденствующих цивилизаций, ему ничего не оставалось более, как только создать возможно скорее свое искусство, которое его прославит, одухотворит и выразит его внутреннюю сущность. Таков был результат двенадцатилетнего перемирия. Этот результат так непосредственно и безусловно вытекал из политического момента, которому он соответствовал, что право иметь национальную и свободную школу живописи и уверенность, что она сохранится и в будущем после заключения мира, казалось, вошли в условия, предусмотренные договором 1609 года.
В тот же миг наступило затишье. Будто благотворное, теплое веяние коснулось человеческих душ, оживило почву, нашло и пробудило ростки, уже готовые распуститься. Как при наступлении северной весны, после губительной и долгой зимней непогоды, произрастание идет быстро, а расцвет внезапен, так и тут нас поражает неожиданность, с какою за такой короткий срок – не больше тридцати лет – на маленьком пространстве, на неблагодарной пустынной почве, в этой грустной стране, в суровых условиях жизни появилась столь обильная поросль живописцев, и притом великих живописцев.