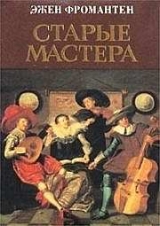
Текст книги "Старые мастера"
Автор книги: Эжен Фромантен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Вейвер
Несколько утомленный осмотром стольких холстов, восторгами и спорами с самим собою, я прошелся сегодня вечером по берегу Вейвера.
Придя еще на исходе дня, я оставался там допоздна. Это – своеобразное, уединенное место, печальное в поздний час для иностранца, который уже забыл о веселых годах юности. Представьте себе большой водоем менаду суровыми набережными и мрачными дворцами. Направо – пустынная, обсаженная деревьями аллея, а за нею – запертые особняки; налево – ушедший основанием в воду угрюмый Бинненхоф с кирпичным фасадом, шиферными крышами и с обликом, носящим неумирающий отпечаток прошлых веков, трагических воспоминаний. В нем чувствуется что-то неуловимое, присущее местам, овеянным историей. Вдали – шпиль собора, исчезающего из глаз к северу и уже охлажденного наступающей ночью; он словно нарисован легким мазком почти бесцветной краски. На. пруду – зеленеющий островок. Пара лебедей тихо плывет в тени берегов, оставляя за собой тонкие полосы. Над прудом в вечернем воздухе быстро и высоко носятся стрижи. Полная тишина, глубокий покой, забвение настоящего и прошлого. Ясные, но бесцветные отражения доходят до самой глубины сонных вод и в своей несколько мертвенной неподвижности кажутся какими-то воспоминаниями о былом, которые жизнь запечатлела в почти угасшей памяти.
Я глядел на музей Маурицхейс (Дом Морица), образующий южный угол Вейвера и замыкающий здесь безмолвную линию Винненхофа, адй кирпичный массив полон по вечерам особой грусти. То же молчание, тот же мрак, та же заброшенность словно окутывают пеленой призраки, заключенные во дворце штатгальтеров и в музее. Я размышлял о сокровищах Маурицхейса и о событиях, происходивших в Бинненхофе. Там – Рембрандт и Паулюс Поттер, здесь – Вильгельм Оранский, Барневельт, братья де Витт, Мориц Нассауский, Хейнсшос, все памятные имена. Прибавьте сюда еще воспоминания о Генеральных Штатах, об этом собрании, созванном страной в пределах своих границ, в которое вошли наиболее просвещенные, неусыпные, стойкие и героически настроенные граждане. Это был жизненный нерв, душа голландского народа. Она жила в этих стенах, обновлялась в них, оставаясь всегда неизменной, всегда постоянной. Здесь Штаты заседали в течение пятидесяти самых бурных для страны лет. Они устояли в борьбе с Испанией и Англией, диктовали условия Людовику XIV. Без них и Вильгельм, и Мориц, и великие пенсионарии были бы ничто.
Завтра утром, в десять часов, несколько паломников постучатся в двери музея. В это время ни одна душа не заглянет ни в Бинненхоф, ни на Бейтенхоф, и, думаю, никто не пойдет осматривать Рыцарский зал, где столько паутины, говорящей о полной заброшенности.
Вообразим, что слава, не забывающая ни днем: ни ночью своих героев, слетит сюда, на землю. Как вы думаете, где она остановит свой полет? На котором из этих дворцов она сложит свои золотые, свои усталые крылья? На дворце Штатов? Или на доме Поттера и Рембрандта? Какое странное распределение благосклонности и забвения! Почему такое любопытство к картине и так мало интереса к большой общественной жизни? Здесь жили сильные политики, великие граждане, тут совершались революции, перевороты, пытки, казни, происходили междоусобицы, раздоры – неизбежные спутники всякой зарождающейся нации, когда эта нация, подвластная другой, вдруг отделяется от нее, когда она преобразует свою религию, когда, будучи присоединена к одному европейскому государству, она порывает с ним, тем самым как бы осуждая его. Обо всем этом повествует история, но помнит ли об этом страна? Где живые отклики этих великих потрясений?
В эту эпоху один еще совсем молодой человек написал быка на пастбище. А другой, чтобы доставить удовольствие своему другу-врачу, изобразил его в анатомическом театре, окруженного учениками, со скальпелем, вонзенным в руку трупа. Этими картинами художники увековечили свое имя, свою школу, свой век, свою страну.
К чему же мы питаем особую признательность? К тому, что более достойно и истинно? Нет. К тому, что более всего велико? Иногда. К самому прекрасному? Всегда. Что же такое это прекрасное, этот великий движущий рычаг, этот великий магнит, пожалуй, единственное привлекательное в истории? Не ближе ли всего другого оно к идеалу, на который человек, может быть, бессознательно устремляет свой взгляд? А великое? Не потому ли оно столь заманчиво, что его легко принять за прекрасное? Надо быть очень изощренным в вопросах морали или очень искушенным в метафизике, чтобы назвать добрый поступок или истину прекрасными. Но самый неискушенный человек назовет прекрасным великое деяние. В сущности же мы любим только то, что красиво, и к нему обращено наше воображение; им взволнованы наши чувства, оно покоряет наши сердца. Если внимательно посмотреть, за чем охотнее всего идет человечество в своей массе, то мы увидим, что оно идет не за тем, что его трогает, что его убеждает или что его воспитывает, а за тем, что его чарует и восхищает.
Поэтому об исторической личности, не обладающей большим обаянием, мы говорим, что ей чего-то не хватает. Такой человек понятен моралистам и ученым, но его не знают остальные. И только, если он обаятелен, память о нем сохранится. Народ сходит со сцены вместе со своими законами, нравами, политикой, со всеми своими победами. Но если от истории его сохранится хотя бы кусок мрамора или бронзы, то этого свидетельства уже достаточно. История знает человека, великого по своим делам. Но его имя, может быть, и не дошло бы до нас, если бы оно не было набальзамировано литературой и если бы он не поручил своему другу-скульптору украшать фронтоны храмов. Другой был фатоват, легкомыслен, расточителен, развратен, хотя очень остроумен и порою смел; однако о нем говорят повсюду чаще, чем о Солоне, Платоне, Сократе и Фемистокле. Был ли он более мудр, более храбр? Лучше ли он служил правде, справедливости, интересам своей страны? Нет. Но он источал очарование, проявлявшееся в его страстной любви ко всему прекрасному: к женщинам, книгам, картинам, статуям. Третий был неудачным полководцем, посредственным политиком, легкомысленным главой империи. Но ему посчастливилось полюбить одну из самых обольстительных женщин истории, и эта женщина, говорят, была сама красота.
Около десяти часов пошел дождь. Наступила ночь. Пруд едва заметно отсвечивал, как след вечерней зари, забытый в одном из уголков города. Гений славы не появился. Я знаю, что можно сказать против его выбора, тго судить его за это не буду.
Сюжет в голландских картинах
Изучая моральную сущность голландского искусства, поражаешься полному отсутствию того, что в наше время называется сюжетом.
С того дня, как живопись перестала заимствовать у Италии ее стиль, ее поэтику, ее вкус к истории, мифологии и христианским легендам, и до ее упадка, когда она к ним взрнулась, то есть начиная с Блумарта и Пуленбурга и до Лересса, Филиппа ван Дейка, а затем Троста, прошло, видимо, около столетия. За это время великая голландская школа заботилась лишь о том, чтобы писать хорошо. Она удовлетворялась окружающим и не нуждалась в фантазии. Нагие фигуры, для которых уже не нашлось места в изображениях реальной жизни, исчезли. Древняя история, так же как и новая, была забыта – явление в высшей степени достопримечательное. Среди бесчисленных жанровых сцен едва заметны такие картины, как «Мюнстерский мир» Терборха, или сцены морских войн, рисующие перестрелку судов. Таковы, например, «Прибытие Морица Нассауского в Схевеюгаген» (Кейн, собрание Сикса), «Отъезд Карла II из Схевенингена (2 июня 1660 года)», написанный Лингедьбахом. А этот Лингельбах – жалкий художник. Великие мастера почти не разрабатывали таких сюжетов. Более того: никто, кроме маринистов или баталистов, казалось, и не был способен разрабатывать их. Ван дер Мейлен, прекрасный художник, связанный с антверпенской школой через Снайерса, является по духу своего творчества настоящим фламандцем, хотя и был усыновлен Францией и получал содержание от Людовика XIV. Историограф нашей французской славы, он подавал голландским мастерам жанровых сцен довольно соблазнительный пример, которому, однако, не последовал никто. Как известно, большие картины Равестейиа, Хальса, ван дер Хельста, Флинка, Кареля Дюжардена и других, изображающие общественных деятелей, являются в сущности собранием портретов, где действие сведено к нулю. Истории своего времени они не уделяют никакого места, хотя сами по себе являются очень ценными историческими документами.
Если поразмыслить о событиях, какими полна история Голландии XVII века, о значительности ведшихся войн, об энергии, проявленной в борьбе этим народом солдат и моряков, о том, что ему пришлось вынести; если представить себе зрелище, какое являла страна в эти страшные времена, – то нельзя не удивляться равнодушию живописи к самой сущности народной жизни.
Идут сражения за рубежами Голландии, на суше и на море, на границах и в самом сердце страны. Внутри междоусобицы: в 1619 году обезглавлен Барневельт, в 1672 году убиты братья де Витт, пятидесятитрехлетняя борьба между республиканцами и оранжистами осложняется религиозными и философскими распрями – арминиан против гомаристов, последователей Вутиюса против приверженцев Кокцеюса – и приводит к таким же трагедиям. Войны с Испанией, Англией и Людовиком XIV не прекращаются. Голландия, наводненная врагами, защищается – об этом повествует история. В 1648 году подписан мирный договор в Мюнстере, в 1678 году – в Неймегене и в 1698 году – в Рейсвейке. Новый век открывается войной за испанское. наследство. Можно сказать, что все художники великой и миролюбивой школы, о которой я вам говорю, прожили свою жизнь, почти каждый день слыша грохот пушек.
Однако их произведения показывают нам, чем они были заняты все это время. Портретисты писали героев войны, принцев, наиболее знаменитых граждан, поэтов, писателей, самих себя и своих друзей. Пейзажисты блуждали среди полей, мечтая, рисуя животных и хижины, жили сельской жизнью, писали деревья каналы, небо либо путешествовали, уезжали в Италию! Там они устраивались колонией, встречались там с Клодом Лорреном. В Риме они забывали себя, забывали свою родину. Там они и умирали, как Карель, не успев вновь переехать Альпы. Другие выходили из своих мастерских лишь для того, чтобы порыскать вокруг таверн, побродить по увеселительным местам, изучая их нравы, – конечно, если они не заходили туда для собственного удовольствия, что, впрочем, случалось редко.
Несмотря на войну, кое-где жили мирно. В эти тихие, как бы равнодушные уголки художники переносили свои мольберты. Здесь они находили приют для своей работы, продолжая с поистине удивительной невозмутимостью размышлять и совершенствовать свое очаровательное и жизнерадостное ремесло. А так так повседневная жизнь шла своим чередом, то они и писали ее, изображая домашний быт, сельские и городские нравы, писали наперекор тому, что вызывало тогда волнение, тревогу, патриотический подъем, пробуждало сознание величия своей страны. Ни волнений, ни смут не было в этом удивительно укрытом мире, который можно было бы принять за золотой век Голландии, если бы история не говорила нам о противном.
Леса спокойны, дороги безопасны. По каналам взад и вперед снуют лодки. Деревенские праздники продолжаются. Снаружи, у порога кабачков, курят, внутри – танцуют. Охотятся, ловят рыбу, гуляют. Легкий дымок вьется над крышами ферм, которым ничто не грозит бедой. Дети идут в школу. Внутри жилищ – порядок, мир и невозмутимый покой благословенных дней. Времена года сменяются. Там, где плавали лодки, теперь катаются на коньках. В очагах разведен огонь, двери закрыты, занавески опущены. Невзгодами грозит климат, а не люди. Все это – то же размеренное, ничем не нарушаемое течение жизни на фоне повседневных мелочей, из которых так приятно сделать хорошую картину.
Иногда художнику, очень искусному в изображении всадников, вдруг приходит в голову написать картину кавалерийской атаки, схватки на пистолетах, мушкетонах и шпагах, когда люди топчут, режут и весьма бойко истребляют друг друга. Такая картина, написанная чисто случайно, переносит нас в обстановку, далекую от настоящей войны, чуждую ее опасностям. От этой резни веет анекдотической фантазией, и мы не видим, чтобы художник был сильно взволнован сюжетом. Писанием подобных вещей при случае забавлялись «итальянисты» Берхем, Вауэрман, Лингельбах – приверженцы не слишком правдивой живописности. Но где они видели такие схватки? По ту или по другую сторону Альп?
Есть в этом что-то, напоминающее Сальватора Розу, за исключением стиля: во всех этих подобиях стычек и больших сражений никогда нельзя узнать ни причины, ни места, ни времени события, ни даже участников битв. Да и самое название картин зачастниую лишь указывает на роль, отводимую воображению художника. Так, Гаагский музей обладает двумя большими прекрасными картинами, где кровь льется рекой, удары сыплются градом, где художник не поскупился на раны. Одна из них, очень редкостная, написанная Берхемом, поразительна по исполнению: это настоящее чудо по передаче движения и суматохи, по удивительной упорядоченности общего впечатления и совершенству деталей. Это полотно, не имеющее никакого отношения к истории, носит название «Нападение на обоз в горном ущелье». Другая – одна из больших картин Вауэрмана, – названа «Большое сражение». Она напоминает картину мюнхенской пинакотеки, известную под именем «Битва при Нордлингене». Но и это последнее замечательное произведение в высшей степени условно, а его ценность для национальной истории доказана не лучше, чем правдивость картины Берхема. Да и другие картины, изображающие эпизоды из жизни бандитов или безвестные стычки, которых было немало и в Голландии, написаны как бы понаслышке во время или после путешествий художников по Апеннинам.
История Голландии таким образом не оставила заметных следов в живописи этих смутных времен и, кажется, ни на один миг не взволновала ее живописцев.
Заметьте еще, что даже в тех картинах, которые относятся к чисто живописному и повествовательному жанру, нет и следа подлинного повествования: ни точно определенного сюжета, ни действия, требующего продуманной, выразительной и особо значительной композиции; никакой изобретательности, никаких сцен, выходящих за пределы жизни полей или городов, которая глазам художников того времени представлялась как жизнь однообразная, плоская, вульгарная, лишенная исканий, страстей и подчас даже чувств. Пьянство, курение, танцы, ласки, расточаемые служанкам, – ведь не это же можно назвать редкими и привлекательными происшествиями! Доить коров, водить их на водопой, нагружать возы сеном также не представляется заметным явлением н деревенской жизни.
Так и хочется спросить этих беззаботных и флегматичных художников и сказать им: разве нет в вашей жизни ничего нового? Ни в хлевах, ни на фермах, ни в домах? Была буря – она ничего не разрушила? Гремел гром – молния не поразила ваши поля, работников, скот, крыши? Рождаются дети – вы не празднуете? Они умирают – вы не горюете? Вы женитесь – неужели нет пристойных радостей? Разве у вас никогда не плачут? Все вы любили, но разве это заметно? Все вы страдали и сострадали чужой невзгоде, видели своими глазами раны, горести, все бедствия человеческой жизни; но откуда видно, что у вас самих были дни нежности, горя и неподдельной жалости? Ваше время, как и всякое другое, было свидетелем ссор, страстей, ревности, измены, дуэлей. Что вы нам показываете из всего этого? Распутство, пьянство, грубость, гнусную лень, объятия, похожие на драку, тумаки кулаком или сапогом в раздражении, вызванном страстью или вином. Вы любите детей: их секут, они кричат, гадят в углах. Вот картины вашей семейной жизни.
Сравните другие эпохи и страны. Я не говорю о современной немецкой или об английской школах, где во всем чувствуются сюжет, утонченность, преднамеренность, где все, как в драме, комедии или водевиле, где живопись пропитана литературой, так как она только и живет ею и, по мнению некоторых, даже погибает от нее. Но возьмите любой каталог французской выставки, прочтите названия картин, а потом взгляните на каталоги Амстердамского и Гаагского музеев.
Во Франции всякое полотно без названия и, следовательно, как считают, лишенное сюжета, рискует быть принятым за непродуманное и несерьезное. И это не только теперь – этому взгляду уже сто лет. С тех пор, как Грез, при громком одобрении Дидро, открыл сентиментальную живопись и стал сочинять картину, как сочиняют пьесу для театра, введя в живопись буржуазные семейные драмы, – что видим мы с той поры? Художники-жанристы Франции только и делали, что придумывали сцены, справлялись с историей, иллюстрировали литературные произведения, изображали прошлое и только изредка настоящее, меньше – современную Францию м больше – причудливые иноземные нравы и природу других стран.
Достаточно привести имена, чтобы восстановить в памяти бесконечный ряд произведений, прекрасных или только пикантных, недолговечных или прославленных навсегда; все эти картины что-нибудь означают, все изображают какие-либо события или чувства, выражают страсти или рассказывают истории, причем все они имеют своего собственного героя. Это Гране, Бонингтон, Леопольд Робер, Деларош, Анри Шеффер, Рокплан, Декан, Делакруа – я останавливаюсь только на тех, кого уже нет в живых. Вспомните Францисков Первых и Карлов Пятых, герцога де Гиза, Миньон, Маргариту, Влюбленного льва, ван Дейка в Лондоне, страницы, заимствованные из Гете, Шекспира, Байрона, Вальтера Скотта, из истории Венеции; были и Гамлеты, Йорики, Макбеты, Мефистофели, Полонии, Гяуры, Лары, Гец фон Берлихинген, Шильонский узник, Айвенго, Квентин Дорвард, Льежский епископ и далее Фоскари, Марино Фальеро, барка Дон-Жуана, история Самсона, кимвры и, наконец, сцены из восточной жизни. А если мы затем еще восстановим в памяти список жанровых картин, которые из года в год пленяли, трогали, поражали нас, начиная со «Сцен инквизиции», «Встречи в Пуасси» и кончая «Карлом V в монастыре Юсте», если мы вспомним, повторяю, то, что за последние тридцать лет создала выдающегося и достойного в этом жанре французская школа, то мы увидим, что элементы драматический, патетический, романтический, исторический и сентиментальный в ее картинах способствовали успеху произведений почти в той же мере, как и талант самих художников.
Есть ли что-нибудь подобное в Голландии? Каталоги ее просто приводят в отчаяние незначительностью тем и их неопределенностью. «Пряха со стадом1» – единственная находящаяся в Гааге картина кисти Кареля Дюжардена. Вауэрману принадлежат: «Приезд в гостиницу», «Привал охотников», «Деревенский манеж», «Воз» (знаменитая картина), «Лагерь», «Отдых охотников» и т. д.; Берхему – «Охота на кабана», «Переход вброд в Италии», «Пастораль» и пр.; Метсю – «Охотник», «Любители музыки»; Терборху – «Депеша». В том же духе и произведения Герарда Дау, Остаде, Мириса, даже Яна Стена, наиболее живого из них. По глубокому, хотя и грубому смыслу своих картин только он один и является настоящим рассказчиком, изобретательным карикатуристом, юмористом в духе Хогарта, литератором, а в своих шутках – почти автором комических новелл. Даже лучшие произведения голландской школы скрываются за столь же плоскими названиями. Так, прекрасная картина Метсю из коллекции ван дер Хопа называется «Подарок охотника»; замечательная картина Паулюса Поттера – кто бы догадался об этом! – жемчужина Аренбергской галереи, называется «Отдых около гумна». Также знаем мы, что представляют собой и другие произведения Поттера: «Бык», «Корова, смотрящаяся в воду» или еще более известная «Корова, которая…» в Петербурге. Что касается «Урока анатомии» и «Ночного дозора», то да позволено мне думать, что вовсе не значительность их сюжета обеспечила этим творениям их бессмертие.
Мы повсюду встречаем в живописи подлинные дарования сердца и ума, глубокие чувства, нежность, благородное сочувствие к историческим драмам и доскональное понимание жизненных драм; встречаем картины патетические, трогающие нас, потрясающие, очень интересные, порой неожиданные, поучительные. Все эти качества можно найти всюду, кроме голландской школы, которая, занимаясь главным образом реальным миром, больше других, кажется, пренебрегала его моральной стороной. Страстно отдаваясь изучению всего живописного, она меньше, чем какая-либо другая, замечала его живые истоки.
Какая причина побуждает голландского художника писать картины? Никакая! И заметьте, ее у него никогда и не спросят. Крестьянин с сизым от пьянства носом глядит на вас вытаращенными глазами и хохочет во все горло, поднимая кружку. И если только эта картина хорошо написана, она имеет свою цену. У нас же, если сюжет в картине отсутствует, от нее требуется, по крайней мере, живое, правдивое чувство и ясно ощутимое волнение художника. Пейзаж, не выражающий настроения самого художника, – произведение не удавшееся. Мы не умеем, подобно Рейсдалю, создавать шедевры, изображая пенящуюся и мчащуюся между темными скалами воду. Животное на пастбище без выраженной идеи, «без понятия» – как говорят крестьяне об инстинкте животных, – недостойно кисти художника.
Один очень оригинальный художник наших дней, человек с возвышенной и печальной душой, с добрым сердцем, сам настоящий крестьянин, рассказал нам в своих картинах о жизни деревни, о ее жителях, о трудностях, горестях и благородстве их труда, чего ни один голландский художник никогда не догадался бы разглядеть. Он передал это несколько варварским языком и в формулах, где мысль обнаруживалась более сильно и ясно, чем кисть. И однако ему были бесконечно благодарны за такие его устремления. В нем наша французская живопись как бы увидела всю чуткость Бернса, правда, менее искусно выраженную. Теперь, подводя итог, можно спросить, действительно ли хороши были картины этого художника? Его форма, его язык – я говорю о той внешней оболочке, без которой не существуют и не живут произведения духа, – имеют ли они все достоинства, присущие великому художнику и обеспечивающие ему долговечность? Он кажется глубоким мыслителем рядом с Поттером и Кейпом и увлекательным мечтателем рядом с Терборхом и Метсю. Вспоминая тривиальность Стена, Остаде или Брауэра, в нем видишь неоспоримое благородство. Как человек он мог бы всех их заставить покраснеть. Однако стоит ли он их как живописец?
Какой же вывод отсюда? – спросите вы.
Но нужен ли здесь вывод вообще? Франция проявила гениальную изобретательность, но мало чисто живописных способностей; Голландия ничего не изобрела, но писала поистине чудесно. Такова разница между этими двумя странами. И она, конечно, значительна. Но следует ли раздумывать, какие качества выше, и на основании этого непременно противопоставлять один народ другому, как будто между ними существуют такие противоречия, которые нельзя примирить? Я не берусь это утверждать. Но, действительно, до сих пор мысль составляла силу лишь великих произведений изобразительного искусства; в произведениях же средней значимости она как будто утрачивала свой смысл.
Чувство спасло некоторые из них, любознательность испортила очень многие, ум погубил все.
Этот ли вывод следует сделать из всего предшествующего? Позднее найдут, конечно, другой; но сегодня я его не вижу.








