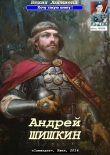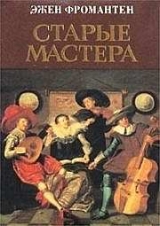
Текст книги "Старые мастера"
Автор книги: Эжен Фромантен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Амстердам
Сеть узких улиц и каналов привела меня на Дуленстрат. День кончается. Вечер тихий, серый, подернутый дымкой. Легкий летний туман омывает устья каналов. Здесь еще более, чем в Роттердаме, воздух насыщен вкусным запахом Голландии, который говорит вам, где вы, и вызывает в вас неожиданное и своеобразное ощущение близости торфяников. Запах говорит обо всем: о широте, о расстоянии до полюса или до экватора, до каменного угля или до алоэ, говорит о климате, временах года, местах и среде. Всякий, кто хоть немного путешествовал, знает: благословенны только те страны, чей дым благоухает, чьи очаги будят воспоминания. Что же касается стран, вызывающих в памяти из всех ощущений лишь смутные запахи животной жизни, толпы, то там привлекает другое; я не скажу, что их забывают, но о них вспоминают иначе. Таким, окутанным запахом испарений, рисуется нам Амстердам, когда мы в подобный час проходим по его центру, несколько грязному, но освеженному влагой спускающейся ночи, с рабочими на улицах и множеством детей на крылечках, с лавочниками у дверей, с маленькими домиками сплошь в окнах, с торговыми судами и портом вдали, с роскошью, обособившейся в новых кварталах. Амстердам таков, каким его представляют себе, если только в нем не ищут чего-то вроде северной Венеции, где Амстель служит Джудеккой, а Дам – второй площадью Святого Марка. Надо прежде всего поверить ван дер Хейдену и забыть Каналетто.
Амстердам – состарившийся, душный, буржуазный, деловой, суетливый город. В нем даже за пределами еврейских кварталов есть что-то еврейское. В нем меньше живописности – грандиозной, как в Роттердаме, если смотреть с Мааса, или благородной, как в Гааге, но он живописен, притом скорее своей интимной стороной, чем внешностью. Надо знать глубокую наивность, сыновнюю привязанность, любовь к маленьким уголкам, отличающие голландских живописцев, чтобы объяснить себе оставленные ими привлекательные и пикантные портреты родного города. Краски в Амстердаме – сильные и мрачные, формы симметричны, постоянно обновляемые фасады лишены всяких признаков искусства, деревца яа набережных тощи и уродливы, каналы грязны. Вы чувствуете, что народ спешил обосноваться на покоренных болотах с единственной целью наладить на них свою деловую жизнь, свою торговлю, свои ремесла, свой труд, почти не заботясь об уюте. Никогда, даже в самые великие свои дни, этот народ не помышлял о постройке дворцов.
Десять минут, проведенные на Большом канале в Венеции, и другие десять на Кальверстрат расскажут вам об этих двух городах все, что может поведать история: о гении обоих народов, о моральном облике обеих республик и, следовательно, о духе обеих школ. Достаточно взглянуть на их похожие на фонари жилища, в которых камня столько же, сколько стекла, которое кажется даже более необходимым, посмотреть на маленькие балкончики, заботливо и бедно украшенные цветами, на зеркала, прикрепленные к окнам, – и вы поймете, что в этом климате зима продолжительна, солнце ненадежно, свет скуп, что жизнь без перемены мест располагает к любопытству. Вы поймете, что созерцание на лоне природы здесь редкость, и люди предпочитают домашние радости, что глаз, ум, душа приучены здесь к терпеливому, внимательному, кропотливому, несколько напряженному исследованию, если можно так выразиться, с прищуренными глазами, – форма пытливости, общая всем голландским мыслителям от философов до художников.
Итак, я на родине Спинозы и Рембрандта. Из этих двух великих имен, представляющих в области чисто умозрительных идей наиболее интенсивные усилия голландского разума, меня интересует лишь последнее. Здесь находятся статуя Рембрандта, дом, где он провел лучшие свои годы, и два наиболее знаменитых его произведения, вполне достаточных, чтобы затмить многие славные имена. Но где же статуя национального поэта Йоста ван ден Вонделя, его современника? Ведь в ту эпоху он был равен ему, по крайней мере, в глазах общества. Мне сказали, что эта статуя находится в Новом парке. Увижу ли я ее? Да и кто пойдет осматривать ее? А где жил Спиноза? Что сталось с домами, где поселился Декарт, где останавливался проездом Вольтер, где умерли адмирал Тромп и великий Рейтер? Рембрандт для Амстердама – то же, что Рубенс для Антверпена. Тип менее героичен, но тот же престиж, то же царственное величие. Только вместо того, чтобы блистать в высоких трансептах соборов, в роскошных алтарях, в построенных по обету капеллах, на сияющих стенах по-княжески великолепного музея, Рембрандт предстает перед нами в маленьких пыльных комнатках почти мещанского дома. Участь его произведений словно служит продолжением его жизни. Из квартиры, которую я занимаю на углу Кловенирсбюргваль, я вижу справа, на берегу канала, красноватый и закопченный фасад музея Триппенхейс. Сквозь закрытые окна, в бледном свете мягких голландских сумерек, я уже вижу, как сияет загадочный венец блистательной славы «Ночного дозора».
Не буду скрывать, что именно это произведение, наиболее знаменитое из всех имеющихся в Голландии, одно из самых прославленных в мире, и составляет цель моего путешествия. Оно очень меня привлекает и внушает мне большие сомнения. Я не знаю картины, о которой бы больше спорили, наговорили больше умных вещей и, разумеется, всякого вздора. Не то чтоб она восхищала одинаково всех, кто увлекся ею, но, уж конечно, нет никого – по крайней мере, среди пишущих об искусстве, – в ком «Ночной дозор» своими достоинствами и своей необычностью не помутил бы в большей или меньшей мере здравый смысл.
Начиная с названия картины, которое совершенно ошибочно, и кончая освещением, к которому трудно подобрать ключ, – во всем этом с каким-то непонятным удовольствием отыскивали всяческие загадки – вплоть до вопросов техники, которые здесь, хоть и несколько сложнее, чем обычно, не кажутся мне столь уж таинственными. Ни одно произведение живописи, за исключением Сикстинской капеллы, не толковалось так сложно, замысловато и неясно, как «Ночной дозор»; его хвалили свыше меры, им восхищались, не объясняя отчетливо – почему, о нем спорили, правда, очень мало и всегда с каким-то трепетом. Наиболее смелые рассматривали картину словно непостижимый механизм, разбирали ее, исследовали все ее части, и все же им не удалось, как должно, открыть секрет ее силы и ее явных недостатков. И те, кого произведение приводило в восторг, и те, кого оно шокировало, сошлись только в одном: совершенен или нет «Ночной дозор», он принадлежит к тому созвездию, в которое всеобщее восхищение включило несколько почти божественных произведений! Доходили до того, что о картине говорили, как об одном из чудес мира – one of the wonders of the world, – а о самом Рембрандте как о наиболее совершенном колористе, когда-либо существовавшем – the most perfect colourist that ever existed. За эти преувеличения и несообразности Рембрандт не ответствен, и они, несомненно, претили бы его великому уму, вдумчивому и искреннему: он сам лучше других знал, что не имеет ничего общего с теми чистокровными колористами, с которыми его сравнивают, и что его произведения далеки от совершенства в том смысле, как его понимают.
Коротко говоря, Рембрандт, если взять его в целом, – и ни одна, даже самая исключительная, картина не нарушает строгой собранности этого могучего гения, – мастер, единственный как в своей стране, так и во всех странах, в свое время и во все времена. Рембрандт, если хотите, – колорист, но на свой, особый лад; если угодно, он рисовальщик, но опять-таки ни на кого не похожий, может быть, лучше других, но это нужно доказать. Он крайне несовершенен, если иметь в виду совершенное искусство изображения прекрасных форм и совершенное умение хорошо написать их простыми средствами. Но зато он изумляет нас сокровенным смыслом своих произведений независимо от их формы и колорита. Тут Рембрандт – несравненный художник в буквальном значении этих слов, то есть несопоставим ни с кем и легко ускользает от всех неуместных сравнений, какие прилагались к нему. И в этом смысле, а также в некоторых блистательных тонкостях, он не знает ни аналогии, ни, я полагаю, соперников.
«Ночной дозор», представляющий Рембрандта в расцвете сил, когда ему было тридцать четыре года, ровно через десять лет после «Урока анатомии», не мог не показать во всем блеске некоторые из его оригинальных дарований. Но выразил ли он их все полностью? Нет ли в этой предпринятой по заказу, то есть несколько вынужденной, попытке моментов, мешавших естественному проявлению того, что в Рембрандте было самого ценного и глубокого?
Замысел этой большой и сложной картины был нов для художника, равно как необычны были для его творчества и наполнявшие ее движение, жесты, шум. Сюжет картины не был выбран самим художником – ему был дан заказ написать картину с портретами. Двадцать три известных лица ждали от него, что он напишет их всех на виду, в каком-либо действии, притом в привычном обличье стрелков. Это была слишком банальная тема, чтобы не попытаться ее как-нибудь возвысить, и в то же время слишком определенная, чтобы в нее можно было вложить много изобретательности. Нравилось или не нравилось это художнику, но он должен был принять готовые типы и написать определенные физиономии. Прежде всего от него требовали сходства. Но, каким бы ни считали его великим портретистом – а он и был им в некоторых отношениях, – точная передача черт лица не была его сильной стороной. Ничто в этой парадной композиции по существу не привлекало его взгляд провидца, не говорило его душе, витающей за пределами реальности; ничто, кроме фантазии, какую он надеялся туда вложить и которая, если дать ей волю, могла превратиться в фантасмагорию. В состоянии ли был Рембрандт с такой же легкостью и с таким же успехом делать то, что так свободно и блестяще делали Равестейн, ван дер Хельст и Франс Хальс, будучи во всем противоположен этим совершенным физиономистам, этим прекрасным мастерам импровизации?
От Рембрандта требовались огромные усилия. Но он был не из тех, кого напряжение укрепляет, кому оно придает необходимое равновесие. Он жил будто в темной комнате, в которой свет преображается и, падая на вещи, создает странные контрасты, жил в мире причудливых мечтаний, в который вся эта компания вооруженных людей не могла не внести смятения. И вот теперь, работая над этими двадцатью тремя портретами, Рембрандт вынужден был много заниматься другими и мало самим собой, не принадлежа ни другим, ни себе, терзаемый никогда его не покидавшим внутренним демоном, связанный с людьми, которые позировали ему, отнюдь не ожидая, что с ними будут обращаться как с плодами воображения. Тот, кому ведом сумрачный и фантастический склад этого ума, понимает, что не здесь могло проявиться вдохновение, осенявшее Рембрандта в лучшие минуты. Всюду, где Рембрандт забывал о себе, то есть всякий раз, когда он не вкладывал себя целиком в свои композиции, произведение его было неполным. Будь оно самым необычным, можно заранее утверждать, что оно не может быть удачным. Эта сложная натура имела два различных лица – одно, обращенное вовнутрь, другое – вовне, и последнее редко бывало самым прекрасным. Ошибки, в которые легко впасть, судя о Рембрандте, зависят от того, что часто смешивают эти лица и смотрят на него с изнанки.
Итак, является ли «Ночной дозор» последним словом Рембрандта? Можно ли, по крайней мере, считать его наиболее совершенным выражением его живописной манеры? Нет ли в самом сюжете препятствий для построения сцены, обстоятельств, новых для Рембрандта и нигде больше не встретившихся на его творческом пути? Вот что требует рассмотрения, и кое-что, быть может, и разъяснилось бы. Я не думаю, чтобы Рембрандт что-либо потерял от этого: будет только одной легендой меньше в истории его творчества, одним предрассудком меньше в ходячих мнениях о нем и одним суеверием меньше в критике.
Несмотря на свои бунтарские замашки, человеческий ум – в сущности идолопоклонник. Он скептичен, но вместе с тем доверчив. Верить – его насущная потребность, подчиняться – его врожденная привычка. Он меняет своих учителей, изменяет своим кумирам, но, будучи покорным по натуре, при всех этих переворотах остается неизменным. Он не терпит никаких цепей – и сам надевает их на себя. Он сомневается и отрицает, но и преклоняется, что тоже одна из форм веры. Раз преклонившись, он готов отказаться от права на свободную критику, хоть и считает себя ревностным ее поборником. Есть ли среди политических, религиозных, философских верований хотя бы одно, к которому бы он относился с полным почтением? Нет, он тут же, с помощью разных ухищрений, где за бунтарством нетрудно увидеть смутную потребность преклонения и надменное чувство собственного величия, создает себе в мире искусства новый идеал, новый культ, не замечая, в какое противоречие он впадает, отрицая истину, чтобы пасть на колени перед красотой. Полного тождества истины и красоты он, по-видимому, не сознает.
Искусство представляется ему областью, где он хозяин, где ему нечего бояться неожиданностей, где его влечение может проявиться вполне свободно. Здесь он сам отбирает знаменитые произведения, дает им достойные их названия, отдается им целиком, не допуская, чтоб их оспаривали. Есть всегда что-то обоснованное в его выборе, что-то, но не все. Проследив творчество великих художников за три века, можно легко составить список упорных пристрастий легковерных людей. Но, даже не углубляясь особенно в вопрос, насколько строго обоснованы эти предпочтения, нельзя не заметить, что современная мысль не так уж презирает условность и питает тайную, но легко обнаруживаемую склонность к догмам, какими она худо ли, хорошо ли усеяла свою историю. Но одни догмы раздражают, другие нравятся и льстят. Всякий, даже малосведущий человек охотно поверит в величие художественного произведения, зная, что оно плод человеческого ума. Он чистосердечно полагает, что раз уж он может судить и, как ему кажется, понимать, то, значит, он владеет секретом видимой и осязаемой вещи, вышедшей из рук его ближнего. Но каково происхождение этой вещи, так похожей на жизнь, на человека, написанной на доступном всем языке, предназначенной одинаково для ума знатока и для глаз простых смертных? Откуда она? Что такое вдохновение? Естественное явление или подлинное чудо? Все эти вопросы, наталкивающие на. многие размышления, никто еще глубоко не изучал; восхищаются, кричат о великом гении, о шедевре, и это все. Никого не интересует, как возникали эти, словно упавшие с неба, творения. А в результате такого безразличия, которое будет царить в мире, пока стоит мир, – человек, презрительно отмахивающийся от сверхъестественного, станет, сам того не подозревая, преклоняться перед сверхъестественным.
Таковы, я думаю, причины, поддерживающие власть и влияние суеверий в области искусства. Можно было бы привести здесь не один пример, но картина, о которой я буду говорить дальше, – пожалуй, самый показательный и яркий из всех. Было уже довольно смело с моей стороны пробудить в вас некоторые сомнения, но то, что я скажу дальше, покажется вам, вероятно, еще более дерзким.
«Ночной дозор»
Мы знаем, как повешен «Ночной дозор». Он висит против «Банкета стрелков» ван дер Хельста, и, что бы ни говорили, обе картины не мешают одна другой. Они противоположны, как день и ночь, как преображение вещей и их воспроизведение, буквальное, несколько вульгарное и искусное. Допустите, что они так же совершенны, как и знамениты, и тогда перед вашими глазами возникает единственная в своем роде антитеза, – по выражению Лабрюйера, «противоположность двух истин, освещающих одна другую». Я не буду говорить о ван дер Хельсте ни теперь, ни потом. Это прекрасный живописец, из-за него мы могли бы позавидовать Голландии, так как в дни оскудения он мог бы достойно служить Франции как портретист и в особенности как парадный живописец. Но в области искусства, представляющего в точности людей в их общении, Голландия имеет художников куда сильнее. И после того как мы видели в Харлеме Франса Хальса, ничто не помешает нам повернуться спиной к ван дер Хельсту и заняться исключительно Рембрандтом.
Я никого не удивлю, сказав, что «Ночной дозор» лишен всякого обаяния: это беспримерный случай среди действительно прекрасных произведений живописи. «Ночной дозор» удивляет, смущает, заставляет уважать себя, но он совершенно лишен той вкрадчивой прелести, которая нас с первого взгляда покоряет. Почти всегда «Ночной дозор» при первом знакомстве разочаровывает. Прежде всего картина противоречит логике и привычной прямолинейности нашего глаза, любящего ясные формы, легко Читаемый, сформулированный четко замысел. Что-то подсказывает нам, что воображение, как и рассудок, не будут целиком удовлетворены, что даже наиболее податливый ум подчинится не сразу и не сдастся без сопротивления. Это зависит от различных причин, в которых не всегда виновата картина: во-первых, от скверного освещения, затем от темной деревянной рамы, в которой картина как бы тонет и которая не выделяет в ней ни средних валеров, ни бронзовой гаммы, ни мощи и придает ей еще более закоптелый вид, чем это есть на самом деле; и, наконец, и это главное, от тесноты помещения, не позволяющего повесить полотно на должной высоте, так что, вопреки самым элементарным законам перспективы, мы вынуждены смотреть на него, находясь с ним на одном уровне, так сказать, в упор.
Я знаю, что, по общему мнению, это место, наоборот, вполне соответствует характеру произведения, поскольку сила иллюзии, достигнутая такой развеской, приходит на помощь усилиям художника. В этих немногих словах много противоречий. Я знаю только один способ хорошо повесить картину: определить ее дух, понять, исходя из этого, ее требования и повесить в соответствии с ними.
Говоря о произведении искусства, в особенности о картине Рембрандта, подразумевают плод не лжи, но воображения, который никогда не будет ни полной правдой, ни, тем более, ее противоположностью; во всяком случае, искусство отдаляется от достоверности внешних форм жизни, по возможности глубоко продумывая внутреннее сходство. Фигуры движутся здесь в особой, большей частью вымышленной среде, в созданной умом человека отдаленной перспективе. Если, произвольно смешивая точки зрения, переместить фигуры в реальное пространство, то они перестанут быть тем, чем их сделал живописец, и все равно не стали бы тем, во что их ошибочно хотели превратить. Между ними и нами помещается, выражаясь языком оптики и театра, рампа. Здесь эта рампа очень узка. Если вы всмотритесь в «Ночной дозор», то заметите, что из-за несколько рискованного размещения фигур на холсте две первые фигуры картины, стоящие в плоскости рамы, почти не отступают вглубь, как это требуют законы светотени и условия правильно рассчитанного эффекта. Подвергать Рембрандта испытанию, которое мог бы выдержать разве ван дер Хельст, да и то при известных условиях, – значит мало понимать его дух, характер его творчества, его стремления, сомнения несколько неустойчивое равновесие. Добавлю, что полотно художника умеет хранить тайны и говорит только то, что хочет сказать, говорит издали, когда ему неудобно говорить вблизи. Всякая картина, дорожащая своими секретами, плохо висит, если развеской вы вынуждаете у нее признания.
Вы знаете, наверное, что «Ночной дозор» справедливо или несправедливо считается произведением почти непонятным, и именно в этом кроется одна из причин его огромного престижа. Быть может, картина наделала бы меньше шума в мире, если бы в течение двух столетий люди не привыкли отыскивать ее смысл вместо того, чтоб изучать ее достоинства, если бы не продолжали с маниакальным упорством смотреть на нее, как на загадку.
То, что мы знаем о сюжете в буквальном смысле этого слова, мне кажется достаточным. Прежде всего нам известны имена и общественное положение персонажей благодаря заботливости художника, записавшего их на картуше, в глубине картины. Это говорит о том, что если фантазия Рембрандта и преобразила многое, то первоначальный замысел, во всяком случае, соответствовал обычаям местной жизни. Правда, мы не знаем, с каким намерением эти люди вышли с оружием в руках – идут ли они на стрельбище, на парад или еще куда-нибудь. Предполагать тут глубокую тайну нет основания, и я думаю, что, если Рембрандт не постарался быть здесь более ясным, значит он этого не захотел или не сумел. И вот уже целая серия гипотез объясняется очень просто – или бессилием, или намеренным умолчанием. Что же касается времени действия, то этот вопрос, вызвавший больше всего споров, мог быть разрешен уже с самого начала. Не было нужды для этого совершать открытие, что протянутая рука капитана отбрасывает тень на полу платья. Достаточно было вспомнить, что Рембрандт никогда не трактовал свет иначе, что ночной мрак – его привычная среда, что тень – обычная форма его поэтики, постоянное средство драматического выражения, что в своих портретах, домашних сценах, легендах, рассказах, пейзажах, в офортах, как и в живописи, он, как правило, изображал день с помощью ночной тьмы.
Может быть, рассуждая аналогично и прибегая к умозаключениям и здравому смыслу, нам удалось бы рассеять и еще некоторые недоумения, так что, в конечном счете, необъясненными остались бы лишь затруднения ума, смущенного неисполнимой задачей, и неотчетливость сюжета, где неизбежно смешивались недостаточная реальность и малооправданный вымысел.
Но я постараюсь дать то, что давно бы следовало: побольше критики и поменьше мудреных толкований. Оставлю без рассмотрения загадки сюжета, чтобы тем более тщательно изучить самую картину, написанную человеком, который редко ошибался. И поскольку эту картину выдают за высшее выражение гения Рембрандта, за наиболее совершенное выражение его манеры, здесь уместно вплотную исследовать это общепринятое мнение со всеми его доводами. Предупреждаю: я не буду избегать диспутов по вопросам техники, когда понадобится спорить, и заранее прошу простить меня за некоторые профессиональные выражения, которые уже просятся на бумагу. Я постараюсь быть ясным, но вовсе не ручаюсь за краткость и прежде всего за то, что не вызову негодования некоторых фанатиков.
Композиция – ив этом все согласны – не составляет главного достоинства картины. Сюжет ее был выбран не Рембрандтом, и способ, каким он хотел его трактовать, не позволил картине сразу же стать ни особо непосредственной, ни особо ясной. Поэтому и сама сцена несколько неопределенна, и действия почти нет, а следовательно, и внимание зрителя очень дробится. Недостаток, присущий основному замыслу, – некоторая нерешительность в понимании сюжета, в распределении и постановке фигур, – сразу же бросается в глаза. Одни люди идут, другие останавливаются, один насыпает порох на полку, другой заряжает мушкет, третий стреляет, впереди барабанщик бьет в барабан, далее – несколько театральный знаменосец и, наконец, толпа фигур, застывших в неподвижности, свойственной портретам. Вот, пожалуй, и все признаки живописности, которыми выражено движение в картине.
Разве этого достаточно, чтобы придать картине характерность, повествовательность, местный колорит, чего мы ждем от Рембрандта, когда он пишет места, вещи и людей своего времени? Если бы ван дер Хедьст вместо того, чтобы усадить своих стрелков, заставил бы их двигаться и действовать, то не сомневайтесь, что он с величайшей точностью, если не с величайшей тонкостью, проследил бы их поведение и манеры. Что же касается Франса Хальеа, то легко себе представить, с какой ясностью, стройностью и естественностью он расположил бы сцену, каким был бы он остроумным, живым, находчивым, неисчерпаемым и великолепным. Сцена же, задуманная Рембрандтом, – из самых заурядных. Смею сказать, что большинство его современников сочли бы ее бедной возможностями – одни потому, что линейный узор композиции неясен, лишен широты, симметричен, сух и странным образом бессвязен, а другие – колористы – потому, что композиция, полная пустот и плохо заполненных мест, не позволяет широко и щедро пользоваться красками, что обычно для художника, мастерски владеющего палитрой. Один только Рембрандт с его особыми устремлениями знал, как выбраться из скверного положения. Композиция – хороша она или нет – должна была в общем отвечать его намерению: не быть похожим ни в чем ни на Франса Хальса, ни на Греббера, ни на Равестейна, ни на ван дер Хельста, ни на кого другого.
Итак, в общем расположении фигур нет никакой правды и мало живописной изобретательности. Но лучше ли в этом отношении каждая из них в отдельности? Я не вижу ни одной, которую можно отметить как образцовый кусок.
Прежде всего бросаются в глаза ничем не мотивированные нарушения пропорций, никем не оправданные несовершенства и, так сказать, беспорядок в характеристике героев. Капитан слишком велик, а лейтенант мал не только по сравнению с капитаном Коком, который его подавляет своим ростом, но и по сравнению с второстепенными, рослыми полными фигурами, рядом с которыми этот физически плохо развитый молодой человек кажется ребенком с преждевременно пробившимися усами. Если рассматривать эти две фигуры как портреты, то, портреты эти малоудачны, сомнительны по сходству и неприятны по выражению лица. Все это удивляет нас в портретисте, который к 1642 году достаточно выказал свое умение, а также несколько извиняет капитана Кока, обратившегося впоследствии к непогрешимому ван дер Хельсту. Лучше ли схвачен часовой, заряжающий свой мушкет? А что вы думаете о мушкетере справа и о барабанщике? Можно сказать, что все эти портреты без рук – настолько неясно те набросаны и так маловыразительны их жесты. Вот почему все, что они держат в руках, – мушкеты, алебарды, барабанные палочки, трости, пики, древки знамени – они держат плохо, вот почему и движениё руки обрывается, ибо кисть, которая должна его завершать, делает это недостаточно четко и живо, где не очень энергично, где неточно, где недостаточно осмысленно. Я не стану говорить о ногах, большей частью скрытых в тени. Таковы неизбежные последствия системы «обволакивания», принятой Рембрандтом; таково повелительное требование его метода, в силу которого темное облако неизменно заволакивает все основание картины, а отдельные формы плавают по ней, лишенные опорных точек.
Нужно ли добавлять, что костюмы не лучше фигур: если даже не вдаваться в детали, они выглядят то вычурными, неестественными, то одеревенелыми, препятствующими свободным движениям тела? Можно подумать, что их не умеют носить. Каски надеты неумело, фетровые шляпы странно выглядят и сидят на голове без всякого изящества. Шарфы, правда, на месте, но завязаны неловкой рукой. Ничего похожего на естественную элегантность, неповторимую непринужденность, на ту остро подмеченную в жизни небрежность в одежде, с какой Франс Хальс умел наряжать людей любых лет, любого роста, любого сложения и, уж конечно, любого ранга. Здесь Рембрандт утешает нас не больше, чем во многих других отношениях. Невольно спрашиваешь себя, нет ли в этом какой-то упорной фантазии, какого-то стремления быть странным, в чем, однако, нет вовсе ничего приятного и ничего поразительного.
Некоторые головы прекрасны, но это не те, о которых я говорил раньше. Лучшие из них, единственные, в чем узнаешь руку и чувство мастера, – это те, которые из глубины полотна вперяют в вас свой искрящийся, изменчивый, загадочный взгляд. Но не будьте слишком строги, когда рассматриваете строение голов, соотношение планов, структуру черепа. Привыкните к сероватой бледности лиц, смотрите на них издали, как они смотрят на вас. Если хотите постичь их жизнь, смотрите на них так, как хочет Рембрандт, чтобы смотрели на его лица, – внимательно, долго, вглядываясь в губы и глаза.
Теперь остается эпизодическая фигура, до сих пор опрокидывающая все толкования. Кажется, что своими чертами, своей одеждой, странным сиянием, ее окружающим, неуместностью самого своего появления она как бы олицетворяет всю магию, весь романтический дух и, если угодно, все противное смыслу в «Ночном дозоре». Я имею в виду маленькую фигурку с лицом колдуньи, не то ребячьим, не то Старушечьим, с прической наподобие кометы, с жемчугом в волосах. Она непонятно почему проскальзывает между ног часовых, на поясе у нее – деталь, еще менее объяснимая, – висит белый петух, который в крайнем случае мог бы сойти за кошель.
Каковы бы ни были причины, побудившие ее затесаться в процессию, эта фигурка подчеркнуто не содержит в себе ничего человеческого. Она бесцветна, почти бесформенна. Ее возраст сомнителен, так как черты ее неопределимы. Ростом она с куклу, походка у нее автоматическая. У нее повадки нищей, и что-то вроде алмазов рассыпано по всему телу; словом, маленькая королева в наряде, похожем на лохмотья. Можно подумать, что она явилась из еврейского квартала, из лавки старьевщика, из театра или цыганского табора и так оделась, спускаясь из царства грез в причудливый мир картины. Она источает слабый свет, подобный мерцанию бледного огня. Чем больше всматриваешься в нее, тем меньше улавливаешь тонкие очертания, служащие оболочкой ее бестелесному существу. Доходишь до того, что в ней не видишь ничего, кроме необыкновенно причудливого фосфорического сияния, не похожего на естественное освещение вещей и обычный блеск хорошо подобранной палитры. И это сияние добавляет к странностям ее облика некое волшебство. Заметьте, что в том месте, какое она занимает, – в одном из темных уголков картины, немного внизу, на втором плане, между человеком в темно-красном и капитаном, одетым в черное, – этот эксцентрический свет тем активнее, чем неожиданнее его контраст с окружающим. Без крайних мер предосторожности этой неожиданной вспышки света хватило бы, чтобы расстроить единство всей картины.
В чем смысл этого маленького существа, вымышленного или реального, этого статиста, завладевшего первой ролью в картине? Я не берусь вам ответить на это. Даже более умудренные, чем я, не боялись себя спрашивать, что она здесь делает, но не придумали ничего, что могло бы их удовлетворить.
Меня удивляет, что о Рембрандте рассуждают так, словно он был рассудочным человеком. Восторгаются его новизной, оригинальностью, отсутствием всяких правил, свободным полетом неповторимого вдохновения – словом, всем тем, что придает, как это верно отмечено, большую привлекательность его смелому и рискованному произведению. И в то же время самое сокровенное его несколько необузданного воображения отдают на суд логики и чистого разума. А что, если бы на все досужие вопросы обо всех причинах, которых могло и не быть, Рембрандт ответил так: «Этот ребенок – просто моя причуда, не менее странная и столь же допустимая, как и многие другие в моих картинах и гравюрах. Я поместил его как узкую полоску света между большими массами тени потому, что сжатый свет сильнее вибрирует, и потому, что мне хотелось оживить яркой вспышкой один из темных углов моей картины. Одежда, впрочем, довольно обычна для моих женских фигур, больших и маленьких, молодых и старых; в моих произведениях постоянно встречаются похожие костюмы. Я люблю все, что блестит, и одел ребенка в сверкающие ткани. Что же касается фосфорического сияния, то здесь ему удивляются, а в других картинах его просто не замечают; но это именно тот самый свет, обесцвеченный и сверхъестественный блеск, каким я обычно озаряю свои фигуры, когда мне хочется осветить их ярче обычного». Не кажется ли вам, что подобный ответ должен был бы удовлетворить самых требовательных критиков и что в конце концов, сохранив за собой права режиссера, Рембрандт должен был бы отчитаться перед нами лишь в одном: как он исполнил картину?