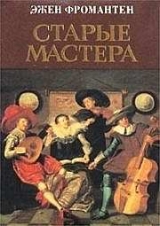
Текст книги "Старые мастера"
Автор книги: Эжен Фромантен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Отсюда я прихожу к заключению, что пейзаж всегда – и находясь еще в тени и став областью профессиональных исканий – вторгался решительно всюду, и примечательно, что, еще не найдя своей собственной формулы, он ниспроверг другие формулы, привел в смущение многие светлые умы и погубил несколько талантов. Тем не менее, справедливо, что все работают только над ним, что все предпринятые в этой области попытки пошли ему на пользу; чтобы искупить зло, причиненное им живописи в целом, можно только пожелать, чтобы пейзаж, по крайней мере, извлек из этого выгоду для себя.
И все же среди меняющихся модных течений тянется как бы одна непрерывная нить искусства. Пробегая залы наших выставок, вы можете заметить кое-где картины, приковывающие внимание своей полнотой, значительностью, мощью цветовой гаммы, истолкованием эффектов и предметов, в котором почти чувствуется палитра больтого мастера. В них нет ни фигур, ни каких-либо прикрас. Они даже совершенно лишены изящества; но зато в них есть сила замысла, глубокий и приглушенный колорит, густые и богатые краски. Под намеренной небрежностью, под несколько шокирующей грубостью ремесла в них скрывается иногда большая чуткость глаза и руки. Художник, о котором я говорю и чье имя я с удовольствием назвал бы, соединяет в себе истинную любовь к сельскому ландшафту и не менее очевидную любовь к старой живописи и лучшим мастерам. Об этом в равной мере свидетельствуют его картины, офорты и рисунки. Не он ли является тем звеном, которое еще соединяет нас с нидерландскими школами? Во всяком случае, это единственный уголок современной французской живописи, где еще можно предполагать их влияние.
Я не знаю, кто из голландских живописцев ценится больше всех в той трудолюбивой мастерской, о которой я рассказываю. И я не вполне уверен, что к ван дер Меру из Дельфта в настоящее время там не прислушиваются больше, чем к Рейсдалю. Об этом говорит некоторое пренебрежение к рисунку, к тонким и сложным конструкциям и к тщательности отделки, чего амстердамский мастер, конечно, не посоветовал бы и не одобрил. Но, как бы то ни было, здесь безусловно сохраняется живое воспоминание об искусстве, забытом в других местах.
Этот яркий, глубокий след – счастливое предзнаменование. Всякий понимающий человек сознает, что этот след ведет прямо в страну, где прежде всего умели писать, и что, придерживаясь его, современный пейзаж обретет некоторую возможность вновь отыскать свой настоящий путь. Я не был бы удивлен, если бы Голландия вновь оказала нам услугу: когда-то она привела нас от литературы к природе и, быть может, когда-нибудь, после долгих блужданий, она приведет нас от природы к живописи. Рано или поздно, но это должно случиться. Наша школа знает очень много, но истощается в скитаниях. Она обладает значительным, богатейшим запасом этюдов, очень им гордится, ради него все забывает и для его пополнения не щадит своих сил, которые лучше было бы употребить на создание новых картин.
Но всему свое время. В день, когда художники и истинные ценители убедятся, что лучшие этюды в мире не стоят одной хорошей картины, общественное сознание еще раз вернется к себе, а это – вернейший путь вперед.
Рембрандт: урок анатомии
Велик соблазн обойти молчанием «Урок анатомии». Эту картину нужно было бы счесть великолепной, исключительно оригинальной, почти совершенной из страха погрешить против приличий и здравого смысла в глазах многих искренних ее почиталей. Она оставила меня холодным, в чем, к сожалению, я и должен признаться. Но, высказав это, я готов объясниться или, если хотите, оправдаться.
С исторической точки зрения, «Урок анатомии» чрезвычайно интересен, ибо, как мы знаем, он происходит от аналогичных по сюжету картин, утраченных или сохранившихся, и показывает нам, как человек великого предназначения воспользовался опытом своих предшественников. В этом смысле «Урок анатомии» – один из многих знаменитых примеров того, что люди, подобные Шекспиру, Ротру, Корнелю, Кальдерону, Мольеру или Рембрандту, вправе брать свое там, где они его находят. Заметьте, что в этом ряду творцов, на которых работало прошлое, я привожу лишь одного живописца, тогда как мог бы назвать многих. Далее, дата картины, ее место в творчестве Рембрандта, ее характер и достоинства показывают нам путь, пройденный художником с момента его первых неуверенных попыток. О них можно судить по двум слишком высоко ценимым полотнам Гаагского музея: я говорю о «Св. Симеоне» и о портрете молодого человека, который мне кажется автопортретом Рембрандта; во всяком случае – это портрет ребенка, довольно робко написанный ребенком.
Если вспомнить, что перед нами ученик Пейнаса и Ластмана, если к тому же вам довелось видеть хотя бы одно-два произведения последнего, то, как мне кажется, вас будут меньше удивлять новшества Рембрандта, которые он вводит уже на первых порах. По правде говоря, если вдуматься глубже, ни в замыслах, ни в сюжетах, ни в живописном сочетании маленьких фигур с грандиозной архитектурой, ни даже в еврейских типах и лохмотьях его персонажей, ни, наконец, в зеленоватой дымке и желтоватом свете, заливающем его полотна, нет ничего неожиданного и, следовательно, ничего вполне ему самому принадлежащего. Надо дойти до 1632 года, то есть до «Урока анатомии», чтобы, наконец, заметить некое предвестие его самобытного творчества. К тому же мы должны воздать должное не только Рембрандту, но и всем другим. Вспомним, что в 1632 году Равестейну было лет пятьдесят-шестьдесят, Франсу Хальсу – сорок восемь и что в период с 1627 по 1633 год этот удивительный мастер написал самые совершенные из своих прекрасных произведений.
Правда, и тот и другой – Хальс в особенности – были, что называется, художниками внешности; иными словами, наружный облик привлекал их внимание больше, чем внутренний, и в своем творчестве они больше доверяли глазу, чем фантазии. Единственно возможное для них преображение модели состояло в том, что они видели ее в изящных красках, в позах, характерных и правдивых, и воспроизводили ее наилучшим образом, насколько позволяли им палитра и рука. Верно и то, что тайна формы, света и тона не захватывала их всецело и что в своих картинах, написанных без особенного анализа, на основе кратковременных впечатлений, они воспроизводили лишь то, что видели, не добавляли ни много тени к теням, ни много света к свету. Таким образом, великое открытие Рембрандта в области светотени осталось у них рядовым приемом, не стало редкостным, так сказать, поэтическим. И все же верно, что если Рембрандта в этом 1632 году поместить среди учителей, многому его научивших, среди мастеров, значительно превосходивших его технической сноровкой и опытом, то «Урок анатомии» безусловно потеряет большую долю своей ценности.
Подлинная заслуга этого произведения состоит в том, что оно отмечает целый этап в творчестве художника, указывает на его большой шаг вперед, раскрывает с очевидностью цель, которую он себе ставит, и если не позволяет еще вполне определить, чем он станет через несколько лет, то, во всяком случае, содержит первый намек на это. В этой картине – только зародыш Рембрандта, и далеко не всего Рембрандта, а поэтому было бы несправедливо судить о нем по этому первому проявлению его таланта. Сюжет «Урока анатомии» уже трактовался до Рембрандта в том же виде – тот же стол для вскрытия и труп в ракурсе, такое же освещение центрального предмета, который нужно было выделить; Рембрандту оставалось лишь лучше разработать сюжет и, конечно, тоньше его прочувствовать. Я не стану доискиваться до философского смысла этой сцены, в которой живописный эффект и сердечное чувство мастера достаточно все объясняют. Я никогда толком не мог понять всю философию, которую усматривали в серьезных и простых лицах и в застывших фигурах, расположенных довольно симметрично и позирующих для портрета, что и составляет недостаток картины.
Самая живая фигура картины, самая реальная и также самая похожая, та, которая больше всех «вышла» – скажем так, вспоминая чистилище, через которое проходит портретная фигура, прежде чем попасть в область подлинного искусства, – это доктор Тюльп. Среди других есть несколько безжизненные головы, которые Рембрандт бросил, не дописав, – не скажу, чтоб они были хорошо увидены, прочувствованы и написаны. И только в двух, даже в трех лицах, если считать и побочную фигуру на втором плане, при внимательном взгляде ясно чувствуется далевая точка зрения, что-то живое и трепетное, неуловимое и пламенное, что станет всей сущностью гения Рембрандта. Они серы, затушеваны, великолепно построены без видимых контуров, словно вылеплены изнутри, и живут своей особенной, бесконечно глубокой жизнью, которую один Рембрандт умеет обнаруживать под внешним покровом реальной жизни. Это очень много, потому что здесь уже можно говорить об искусстве Рембрандта, о его методах как совершившемся факте; но этого слишком мало, когда вспоминаешь, что заключают в себе полноценные произведения Рембрандта, и думаешь о необыкновенной славе этой картины.
Общая тональность ни холодная, ни горячая, она желтоватая. Исполнение вялое, и в нем почти не чувствуется увлечения. Общий эффект резкий, но не сильный. Ни в тканях, ни в фоне, ни в атмосфере картины не заметно особых усилий художника, а тона не отличаются особым богатством.
Что касается трупа, почти все сходятся в том, что он вздут, плохо построен и недостаточно проработан. К этим упрекам прибавлю еще два более серьезных: во-первых, кроме дряблости и мертвенной белизны тканей, в этом теле нет ничего от мертвеца: ни красоты, ни безобразия, никаких характерных или вызывающих ужас черт; художник смотрел на него равнодушным, рассеянным взглядом. Второй недостаток вытекает из первого: труп – не стоит заблуждаться по этому поводу – это попросту эффект мертвенно-бледного света в черной картине. И, как я скажу об этом позже, это пристрастие к свету, вопреки всему, независимо от освещаемого предмета, – я сказал бы даже, без всякой жалости к нему, – будет всю жизнь или чудесно помогать Рембрандту, или вредить ему, смотря по обстоятельствам. Здесь, в «Уроке анатомии», мы видим первый случай, когда навязчивая идея обманула художника, заставив сказать не то, что он собирался. Он хотел написать человека и не позаботился достаточно о форме его тела; он думал изобразить смерть и забыл ее в поисках на палитре беловатого тона для передачи света. Поверьте, что такой гений, как Рембрандт, часто бывал более внимателен, более взволнован, более благородно вдохновлен тем, что должен был изобразить.
Что же касается светотени, которая уже почти точно найдена в «Уроке анатомии», то мы увидим ее и там, где она мастерски применяется для выражения то интимной поэзии, то новой пластики; у нас будут лучшие возможности поговорить о ней.
Подводя итог, я считаю себя вправе сказать, что, к счастью для своей славы, Рембрандт дал впоследствии, даже в этом жанре, совершенные образцы, которые значительно умаляют интерес к его первой картине. Прибавлю лишь, что, если бы картина эта была небольших размеров, ее считали бы слабым произведением. Но если формат картины и придает ей особую цену, то он никак не может сделать ее шедевром, о чем слишком часто приходится напоминать.
Франс Хальс в Харлеме
Я уже говорил, что художник, ищущий хороших и основательных уроков, должен доставить себе удовольствие видеть Хальса именно в Харлеме. Во всех других местах, будь то французские музеи и кабинеты Лувра или голландские галереи и коллекции, впечатление, которое производит на нас этот блестящий и очень неровный по своей манере мастер, может быть пленительным, приятным, занятным, но довольно поверхностным, а потому ошибочным и несправедливым. Там Хальс как человек теряет столько же, сколько проигрывает как художник. Он удивляет, он забавляет. Своею беспримерной быстротой в работе, неистощимой жизнерадостностью и эксцентричностью своих приемов, насмешливостью ума и кисти он выделяется на строгом фоне современной ему живописи. Временами Хальс поражает. Кажется, что он столь же искусен, как и одарен от природы, что его неудержимое вдохновение – счастливое свойство глубокого таланта. Но почти тотчас же он себя компрометирует, роняет себя в наших глазах, разочаровывает. В «Автопортрете», находящемся в Амстердамском музее, Франс Хальс изобразил себя в натуральную величину, в полный рост, сидящим на пригорке рядом с женой. Этот портрет довольно хорошо рисует нам его таким, каким мы представляем его себе в минуты дерзких выходок, когда он зубоскалит и слегка издевается над нами. Живопись и позы, приемы и характеры – все нод стать одно другому в этом слишком уж бесцеремонном портрете. Хальс смеется нам прямо в лицо, жена балагура вторит ему. Не многим серьезнее их и сама картина, несмотря на вложенное в нее мастерство.
Таков, если судить по легкомысленным сторонам его характера, этот знаменитый художник, пользовавшийся в Голландии в течение первой половины XVII века громкой славой. Теперь имя Хальса вновь появляется в нашей школе именно в тот момент, когда любовь к естественному вторгается в нее с некоторым шумом и несколько эксцентрично. Его метод служит программой для некоторых доктрин, учивших ошибочно принимать достоверность всего самого будничного за истину, а полнейшую беззаботность в живописной технике считать последним словом мастерства и вкуса. Те, кто ссылается на Хальса при защите этого тезиса, опровергаемого лучшими его произведениями, заблуждаются и тем самым оскорбляют его. Неужели среди стольких высоких достоинств можно случайно выхватывать и восхвалять одни лишь недостатки? Боюсь, что можно. И я скажу вам, что заставляет меня этого опасаться: это была бы, уверяю вас, новая ошибка и еще одна несправедливость.
В большом зале Харлемской академии, где хранится много полотен, аналогичных картинам Хальса, он заставляет смотреть только на себя. Хальсу принадлежит там восемь больших холстов, размеры которых колеблются от двух с половиной метров до четырех с лишним. Это прежде всего «Банкеты» или «Собрания» офицеров стрелковых гильдий св. Георгия и св. Адриана. Затем, уже позднейшего времени, – «Регенты» – смотрители или смотрительницы госпиталя. На этих картинах фигур много, они написаны в натуральную величину, и это очень внушительно. Картины относятся ко всем периодам жизни Хальса и все вместе охватывают его долгий творческий путь. Первая, 1616 года, показывает нам его в возрасте тридцати двух лет, в последней, написанной в 1664 году, за два года до смерти, он предстает восьмидесятилетним стариком. Можно сказать, что мы видим, как он вступает в жизнь, взрослеет, нащупывает свою дорогу. Расцвет наступает поздно – к середине его жизни и даже немного спустя. В глубокой старости он еще набирает силу и развивается. Наконец, мы видим его на склоне дней и даже тут поражаемся самообладанию этого неутомимого мастера, когда ему отказывает сначала рука, а потом и жизнь.
Мало есть художников, если они есть вообще, творчество которых представляло бы такой свод удачно подобранных и точных биографических сведений. Объять одним взглядом пятьдесят лет работы художника, сопутствовать ему в исканиях, наблюдать его успехи, судить о нем по его же творчеству, по тому, что он создал наиболее значительного и лучшего, – это редко когда удается. К тому же все его полотна повешены на уровне глаз, и мы рассматриваем их без всяких усилий. Его картины сразу раскрывают нам все свои секреты, если допустить, что Хальс их имел, чего на самом деле не было. Мы не узнали бы большего, даже следя за ним во время работы. Поэтому быстро складывается суждение и быстро формируется оценка. Хальс был не более как мастер своего дела, – на это я указываю сразу. Но в своем деле он, несомненно, один из самых искусных и опытных мастеров, какие когда-либо и где-либо существовали даже во Фландрии с ее Рубенсом и ван Дейком, даже в Испании с ее Веласкесом. Позвольте мне привести свои заметки; их преимущество в том, что они кратки, сделаны прямо у картин и анализ вещей соразмерен их значению. Ведь говоря о таком художнике, испытываешь искушение сказать или слишком много, или слишком мало. Как о мыслителе о нем многого не скажешь; как о живописце – можно говорить бесконечно долго: приходится сдерживаться и при этом отдавать ему должное.
«Банкет офицеров стрелковой гильдии св. Георгия» (1616). Первая большая картина Хальса. Ему тридцать два года; он еще ищет себя. Перед ним примеры Равестейна, Питерса, Грёббера, Корнелиса ван Харлема, они могут научить его, но не привлечь. Был ли более способен руководить им его учитель Карель ван Мандер? Живопись звучная по тональности, рыжее преобладает; моделировка назойливая и вымученная; кисти рук тяжелые; черные тона плохо схвачены. При всем этом вещь уже. весьма выразительна. Следует отметить три восхитительные головы.
«Банкет офицеров стрелковой гильдии св. Адриана» (1627). Одиннадцать лет спустя. Это уже Хальс, вот он в полном расцвете. Тона серые, свежие, естественные; черные гармоничны. Рыжеватые, оранжевые или голубые шарфы, белые гофрированные воротники. Хальс нашел свой регистр и закрепил элементы своего колорита. Он использует собственно белый, в свету подцвечивает немногими лессировками, добавляя легкий объединяющий тон. Глухие коричневые фоны, вдохновляющие, кажется, Питера де Хоха, напоминают и Кейпа-отпа. Лица больше изучены, типы совершенны.
«Банкет офицеров стрелковой гильдии св. Георгия» (1627). Тот же год, еще лучше. Техника выше, рука искусней и свободней, В исполнении больше нюансов, и они разнообразней. Та же тональность, белые тона легче. Детали воротников намечены более прихотливо. Во всем – непринужденность и изящество человека, уверенного в себе. Нежно-лазоревый шарф – в нем весь Хальс. Головы не в равной мере хороши по исполнению, но все выразительны и поразительно индивидуальны. Знаменосец стоит в центре: лицо написано в теплых, свободно взятых валерах на фоне шелкового знамени, голова немного откинута набок, глаз прищурен, маленький, тонкий рот еще более сужен; с головы до ног это прелестный кусок. Черные стали более матовыми; Хальс освобождает их от рыжего, составляет и объединяет более широко и более здраво. Рельеф плоский, воздух здесь разрежен, соседние тона сопоставляются без осторожных переходов. Никакой светотени: это естественный дневной свет, какой бывает в равномерно и ярко освещенной комнате. Отсюда разрывы между тонами, ничем не связанными менаду собой, мягкость там, где валеры и локальные цвета натуры соприкасаются и подкрепляют ДРУГ друга, и резкость там, где интервал между ними возрастает. Это уже в какой-то мере система. Я ясно предвижу те выводы, какие сделает отсюда наша современная школа. Она была бы права, полагая, что Хальс и здесь превосходен, несмотря на этот случайно возникший принцип. Но было бы с ее стороны ошибкой считать, что его большое мастерство и достоинства зависят от этого принципа. От такого заблуждения нас предостерегает его картина 1633 года «Собрание офицеров стрелковой гильдии св. Адриана».
Хальсу сорок семь лет. В этом жанре, ослепляющем богатством живописной клавиатуры, это его шедевр, прекрасный во всех отношениях, не самый эффектный, но самый возвышенный, самый богатый, самый содержательный, самый мастерский. Никакой предвзятости, никакого стремления во что бы то ни стало помещать свои фигуры скорее вне воздуха, чем в воздухе, и создавать вокруг них пустоту. Не обойдена ни одна трудность, поскольку верно понятое искусство принимает и преодолевает все трудности.
Быть может, взятые в отдельности, головы менее совершенны, менее одухотворены и выразительны, чем в предшествующей картине. Если не считать этой частности, в которой модели могли быть так же виноваты, как и художник, картина в целом превосходит другие. Фон черный, и, следовательно, валеры имеют обратный порядок. В игре черных бархатов, шелков, атласов больше фантазии; свет разлит по ним, и другие цвета выделяются на них с такой широтой, уверенностью и в таких созвучиях, каких Хальс не превзошел никогда. Краски одинаково прекрасны и метко схвачены, как в тенях, так и на свету, как в своей силе, так и в своей нежности. Это наслаждение для глаза видеть их богатство и простоту, изучать их подбор, число, бесконечные нюансы и восхищаться их совершенным единством. Сильно освещенная левая часть поразительна. Работа кисти сама по себе редкое чудо; краска кладется по надобности густо или жидко, твердо или сочно, жирно или тонко. Фактура свободная, обдуманная, гибкая, смелая; никаких крайностей, ничего незначительного. Каждая вещь написана сообразно ее значению, собственной природе и ценности: в одной детали чувствуется прилежание, другая едва тронута. Гладкий гипюр, легкие кружева, отливающий атлас, матовый шелк, поглощающий больше света, бархат – все это без мелочности, без излишних деталей; мгновенное восприятие сути вещей, безошибочное чувство меры, умение быть точным без долгих объяснений и дать все понять с полуслова, ничего не опуская и лишь подразумевая бесполезное; мазок стремительный, ловкий и точный, как всегда, меткое слово, верно найденное сразу; ничто не утомляет перегрузкой, ничего беспокойного и ничего излишнего; столько же вкуса, как у ван Дейка, столько же технической сноровки, как у Веласкеса, и это при во сто крат больших трудностях, созданных бесконечно более богатой палитрой, поскольку она не ограничена тремя тонами, а дает всю гамму известных тонов, – таковы во всем блеске опыта и вдохновения почти единственные в своем роде достоинства этого прекрасного художника. Центральная фигура в голубом атласе и зеленовато-желтом камзоле – шедевр. Никогда не писали и никогда не будут писать лучше.
Именно двумя этими последними капитальными произведениями Франс Хальс ограждает себя от возможных злоупотреблений его именем. Конечно, у него больше естественности, чем у кого-либо, но не говорите, что он сама наивность. Конечно, колорит его перенасыщен, рельеф плоский, и он избегает привычных округлостей, но, владея собственным приемом моделировки, он в полной мере соблюдает рельеф натуры: в его фигурах, когда смотришь на них в фас, всегда чувствуется спина, а не доска. Конечно, краски его еще просты, холодны в своей основе, смешаны; масло в них почти не ощущается, и само вещество их однородно, а нижний слой слишком плотен; глубокий блеск их обусловлен столько же их первоначальными свойствами, как и оттенками; но зато они подобраны так тонко и с таким безошибочным и трезвым вкусом, который ничего общего, однако, не имеет со скупостью и экономией. Наоборот, художник расточает краски со всей щедростью, которой не решаются подражать даже те, кто видит в Хальсе образец; они не видят как следует того непогрешимого такта, с каким живописец умножает цвета так, чтобы они не вредили друг другу. Наконец, Хальс несомненно позволяет себе большие вольности в исполнении, но до сих пор никто не заметил у него ни одного случая небрежности. Он пишет, как все, но только лучше демонстрирует свою технику. Мастерство Хальса несравненно; он это знает, и ему нравится, что все это видят. Именно в данном отношении его подражатели мало на него похожи. Согласитесь также, что он удивительно рисует – сначала голову, потом руки и затем все то, что относится к телу; он одевает его, придает ему жест, помогает стать в позу, оттачивает его характерность. Наконец, этот автор прекрасных групповых сцен является в не меньшей степени и совершенным портретистом, гораздо более тонким, живым и изящным, чем ван дер Хельст. А это тем более не входит в число достоинств той школы, которая присваивает исключительно себе право хорошо понимать Хальса.
На этом заканчивается в Харлеме цветущая пора нашего превосходного мастера. Я пройду мимо «Офицеров стрелковой гильдии св. Георгия» (1639), выполненных художником в возрасте около пятидесяти лет. По несчастной случайности эта картина довольно неудачно замыкает всю серию.
С картиной «Пять регентов госпиталя св. Елизаветы», относящейся к 1641 году – двумя годами позднее, – мы переходим к новой, строгой манере художника, к гамме, целиком выдержанной в черном, сером и коричневом, отвечающей этому сюжету. Простая и сильная по замыслу, с лицами на свету, черными одеждами, с превосходной передачей тела и сукон, со своей рельефностью и серьезностью, с богатством таких сдержанных тонов, эта великолепная картина представляет нам Хальса совершенно другим, но не лучшим. Головы хороши, насколько возможно, и тем ценнее, что ничто вокруг них не отвлекает внимания от главных и наиболее живых кусков. Не этот ли образец редкой выдержанности, не отсутствие ли колорита, соединенное с совершенным колористическим мастерством, больше всего привлекают неоколористов, о которых я говорю? Достаточно убедительных доказательств этого я пока еще не вижу. Но если именно такова, как они любят говорить, благородная цель их исканий, то какие муки должны были бы причинить всем этим последователям глубочайшая тщательность, мастерский рисунок и поучительная добросовестность, составляющие силу и красоту этой картины!
Ничем не напоминая нынешние не вполне успешные попытки, это капитальное произведение, напротив, обращает нашу мысль к шедеврам. Прежде всего она будит воспоминание о «Синдиках». Та же сцена, сходный замысел, похожие условия выполнения. Центральная фигура, прекраснейшая среди написанных Хальсом, толкает нас на разительные сравнения. Соответствие двух произведений бросается в глаза. Вместе с тем обнаруживается и различие между обоими художниками: противоположные точки зрения, контраст обеих натур при равной силе техники, превосходство руки у Хальса, духа – у Рембрандта; в итоге – полное расхождение. Если в зале Амстердамского музея, где висят «Синдики», заменить ван дер Хельста Франсом Хальсом, то есть «Стрелков» – «Регентами», то какой бы это был прекрасный урок для художников и сколько недоразумений было бы рассеяно! Можно было бы написать по поводу «Регентов» и «Синдиков» специальное исследование.








