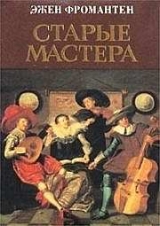
Текст книги "Старые мастера"
Автор книги: Эжен Фромантен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 20 страниц)
Ван Эйк смотрел глазами, Мемлииг начинает прозревать душой. Один мыслил хорошо и верно, другой мыслит как будто бы меньше, но зато сердце у него бьется совсем по-другому. Один копировал и подражал, другой тоже копирует, подражает, но и преображает. Один воспроизводил человеческие типы, не думая об идеале, особенно мужские типы, которые ему приходилось наблюдать во всех слоях общества того времени; другой, наблюдая природу, мечтает и, воспроизводя ее, дает волю своему воображению, иыбирает то, что ему кажется наиболее привлекательным и утонченным в человеке, и создает – особенно в женских образах – некие избранные существа, неведомые до него и исчезнувшие после него. Перед нами женщины, но женщины, увиденные в том облике, в каком любит их его нежное сердце, преданное грации, благородству и красоте. Из этого небывалого женского образа он создает реальное существо и вместе с тем символ. Он ничего не приукрашивает, но замечает то, чего не видел еще никто. Он пишет женщину такой потому, что видит ее прелесть, ее обаяние, ее сердце. Он украшает ее физически и морально. Рисуя ее прекрасное лицо, он показывает и ее нежную душу. Его прилежание, его талант, тщательность его техники служат здесь лишь проявлением трогательного внимания и уважения к женщине со стороны художника. Не может быть никакого сомнения относительно эпохи, происхождения и общественного положения всех этих хрупких, белокурых, целомудренных и при этом вполне светских созданий. Это принцессы, и благороднейшей крови. У них тонкие запястья, выхоленные белые руки. Бледность их лиц – следствие жизни взаперти. Они носят платья и диадемы, держат и читают молитвенник с такой естественностью, которая не могла быть заимствована или выдумана человеком, чуждым высшему свету.
Но если такова была действительность, то почему не видел ее ван Эйк? Он хорошо знал свет, жил в нем, занимая, вероятно, довольно высокое положение как художник и камердинер Иоанна Баварского, а потом и Филиппа Доброго, в самом сердце этого общества, более блестящего, чем королевский двор. И если маленькие принцессы на самом деле были такими, как у Мемлинга, то как случилось, что ван Эйк не дал нам никакого представления о тонких, привлекательных и прекрасных их чертах? Почему он хорошо, видел только мужчин? Откуда эта сила, коренастость, грубость, даже уродливость – стоило ему только перейти от мужских черт к женским? Почему не приукрасил он сколько-нибудь заметно «Еву» своего брата Хуберта? Почему так мало пристойности в фигурах, написанных в верхней части «Мифа об агнце», тогда как у Мемлинга все прелестно, изысканно, целомудренно, всюду красивые женщины с видом святых, с прекрасным, чистым челом, с прозрачными висками и губами без единой складки? Нежное сияние невинности, обаяние, окутывающее ангельскую чистоту, тихое и кроткое блаженство, затаенный внутренний экстаз. Какая небесная благодать снизошла на этого молодого солдата, а может быть, богатого бюргера, и смягчила его душу, осветила его взор, воспитала вкус, открыв ему новые перспективы как в мире физическом, так и в мире духовном?
Мужчины в картинах Мемлинга не столь озарены небесным вдохновением, как его женщины, но и они совсем непохожи на мужчин ван Эйка. Это кроткие и грустные существа, с несколько удлиненным телом, медным цветом лица, прямым носом, редкой пушистой бородой и задумчивым взглядом. В них меньше страсти, но тот же пыл. Мускулы их менее подвижны и менее сильны, но в их лицах есть какая-то значительность и искушенность, что придает им вид людей, которые страдали и мыслили. Иоанн Креститель со своей прекрасной евангельской головой, утопающей в полутени и написанной с бархатной мягкостью, воплощает в себе все черты мужского типа, рожденного мыслью Мемлинга. То же следует сказать и о донаторе с лицом Христа и остроконечной бородой. Заметьте (и на это я обращаю особое внимание), что все святые – мужчины и женщины, – изображенные художником, несомненно, портреты живых людей.
И все это живет глубокой, ясной, сосредоточенной жизнью. В этом столь человечном искусстве нет никаких следов мерзостей и жестокостей того времени. Вглядитесь в произведения этого художника, который, каков бы ни был образ его жизни, должен был хорошо знать свой век; вы не наткнетесь ни на одну из тех трагических сцен, какие так любили изображать после него: ни четвертований, ни кипящей смолы, ни отрубленных рук, ни голых тел, с которых сдирают кожу, ни зверских приговоров, ни судей-убийц, ни палачей. Это может появиться разве что как эпизод жития, деталь. «Мученичество св. Ипполита» – картина, находящаяся в соборе в Брюгге и ранее приписывавшаяся Мемлингу, в действительности принадлежит кисти Дирка Баутса или Герарда Давида. Старинные трогательные легенды – св. Урсула, св. Христофор, мадонны, христовы невесты, верующие священники, святые, заставляющие уверовать в себя, странствующий пилигрим, в котором узнаешь самого художника, – таковы персонажи Мемлинга. И во всем этом – вера, чистота, невинность, граничащая с чудом, а также мистическое чувство, которое не столько проявляется, сколько сквозит, источает аромат, но не придает никакой аффектации формам. Это – христианское искусство, освобожденное от всякой примеси языческих представлений. Если Мемлинг и ускользает от влияний своего века, то он забывает и другие века. У него собственный идеал. Может быть, он возвещает Беллини, Боттичелли, Перуджино, но не Леонардо, не Луини, не тосканцев или римлян Высокого Возрождения. У него нет ни Иоанна Крестителя, похожего на Вакха, ни Мадонны или св. Елизаветы со странной языческой улыбкой Джоконды, ни пророков, похожих на античных мыслителей и философски отождествляемых с сивиллами, ни мифов, ни глубоких символов. Нам не нужно никаких особо ученых толкований для объяснения этого искреннего искусства, полного глубокой веры и неведения. Мемлинг говорит то, что хочет сказать с искренностью человека, простого умом и сердцем, с непосредственностью ребенка. Он пишет то, перед чем преклоняется, во что верит, пишет так, как в это верит. Он углубляется в свой внутренний мир, замыкается в нем, изливает свое сердце. Ничто из внешнего мира не проникает в это святилище душ, обретших полное успокоение, – ни дела, ни мысли, ни слова, ничто из того, что можно увидеть в мире.
Представьте себе среди ужасов века ангельское, идеально тихое и укрытое убежище, где страсти смолкают, где все мятежное стихает, где молятся, поклоняются, где преображается все – и моральные и физические уродства, где рождаются новые чувства, где, как лилии, распускаются небывалая нежность, наивность и кротость, – и вы будете иметь представление об исключительной душе Мемлинга и о чуде, какое совершает он в своих картинах.
Странное дело! Чтобы говорить достойным образом о таком человеке, следовало бы, из уважения к нему и к самому себе, пользоваться особыми терминами, возвратить нашей речи своего рода девственность. Только так можно дать о нем должное представление. Однако необычайно трудно найти подходящие для него слова. Слишком разным целям служили они со времен Мемлинга.








