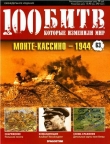Текст книги "Капля крови"
Автор книги: Евгений Воробьев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Там, на броне танка, и ракетница осталась. О ней-то чего печалиться? Она-то уж, во всяком случае, не нужна! Разве что тезке моему, Петру-апостолу, сигналы подавать: открывай, дескать, райские врата, раб божий Пестряков десантом в рай выбросился!..»
Конечно, строго говоря, ракетница не оружие. Но был случай в бою под Румшишками, когда безоружный десантник выстрелил зеленой ракетой в упор и не то убил фашиста наповал, не то выжег ему лицо, так что зеленый цвет был последним, какой увидел фашист в своей жизни.
Если бы про этот случай рассказал Тимоша, сроду бы Пестряков не поверил, решил, что тот снова плетет небылицы. Но Пестряков слышал про ту зеленую ракету от очевидцев, ребят солидных, не чета Тимоше, который соврет – не моргнет…
Пестряков вздремнул, и ему приснился старшина на патронном пункте десантников, веселый сквернослов, шумный, суетливый толстяк. В последний раз он напутствовал Пестрякова: «Бери целый ящик. Дотащишь! Кто же натощак воюет? Не жалей на фашистов боевого питания!»
Он тащит патроны, но ящик вырывается из рук, падает со страшным грохотом, разбивается, и пачки с патронами рассыпаются. Пестряков судорожно собирает патроны, но грохот не прекращается…
Очнулся от мимолетного сна и сразу хватился – где же автомат?
Он привычно ощупал грудь, пошарил по тюфяку и вспомнил все.
С тоской взглянул он в угол подвала, где валялся брошенный Тимошей парабеллум, потом мельком взглянул на Черемных: у него под изголовьем чернел пистолет.
Пестряков старался не смотреть в ту сторону, да это ему и неудобно было, потому что мог лежать теперь лишь на правом боку, спиной к Черемных. И все-таки нет-нет да и вертел головой на длинной худой шее: не мог отвести глаз от злополучного пистолета. Просто какое-то наваждение!
О чем бы Пестряков ни заставлял себя думать, он возвращался мыслями к пистолету Черемных.
Пестряков сердился на себя, но все-таки не мог забыть о том, что у Черемных еще остался патрон. Один-единственный патрон в пистолете, но какая это ценность!
– Ночью пойду оружие промышлять, – произнес наконец Пестряков.
Он говорил себе под нос, глухо, но Черемных понял, что это сказано прежде всего для него.
– С голыми руками?
– Зачем? – Пестряков недобро усмехнулся и кивнул в угол, где стояла мороженица. – Ручку вот сниму медную. Тоже холодное оружие!
Черемных промолчал.
Но теперь уже и он не мог думать ни о чем, кроме своего патрона.
Он готов был возмущаться, протестовать, ругаться, если бы Пестряков предъявил права на этот патрон.
Пестряков тяжело и шумно ворочал на тюфяке свое долговязое тело, без конца кряхтел. И его тревога неотвратимо передавалась Черемных.
Он оставил последний патрон для самозащиты. Ну а Пестряков?
Ведь свой-то боезапас Пестряков израсходовал, когда воевал за обоих! И пропитание он добывал на них на двоих, и разведку вел за двоих.
Значит, и несчастье его с автоматом – несчастье общее.
Товарищи распорядились его, Черемных, жизнью, когда затащили в подвал. Значит, и смертью своей Черемных распорядиться не вправе. Ведь один патрон двух человек от плена не избавит!
Зачем же тогда держать патрон про такой запас?
На каком основании он, Черемных, хочет отдать самому себе предпочтение?
И как его раньше не осенило это единственно правильное и очевидное соображение?
Черемных всегда думал о людях, попавших в плен, с оттенком презрительного сострадания.
Конечно, если в плен захватили человека, истекавшего кровью от ран или в бессознательном состоянии, – разговор особый.
Но солдат, у которого оставалась хотя бы одна пуля, не имел воинского права сдаваться в плен. В подобных обстоятельствах не покончить самоубийством – трусость.
Так рассуждал Черемных прежде.
А сохраняет ли право на последнюю пулю инвалид, которого уже нельзя назвать солдатом, при условии, если инвалид имеет возможность убить той пулей здравствующего фашиста?
Каждый солдат дорожит своей жизнью, и, если уж прощается с нею, пусть противник заплатит за его жизнь самой дорогой ценой.
Эта мысль явилась сейчас из каких-то тайников и закоулков сознания как откровение. Мысль взбудоражила Черемных; он опять приподнялся на локтях, порываясь встать, но боль его мгновенно утихомирила.
Значит, попадали в плен и герои, которые мужественно не позволили себе застрелиться, потому что предназначили последнюю пулю для врага, отомстили врагу, рассчитались с ним на самом пороге смерти. И как было несправедливо с его, Черемных, стороны с презрением думать о тех людях с несчастливой, горькой судьбой.
Трусы, дезертиры, предатели не дождутся сочувствия от него, Михаила Черемных. Но он отказывается зачислить всех без исключения военнопленных в такую грязную компанию.
Ведь нет драгоценнее того героизма, о котором никто из своих и не подозревает. Лишь совесть солдата – судья последних минут, которые он прожил.
Сейчас уже все недавнее его поведение, и не столько поведение, сколько чувства, ход мыслей, когда он считал, что Пестряков не имеет права покушаться на последний, заветный патрон, предстали совсем в ином свете, и он понял, как эгоистично, неблагородно было рассуждать подобным образом.
Черемных снова попытался привстать с лежанки и застонал.
Пестряков, который баюкал правой рукой левую, ноющую в плече, настороженно вытянул голову на худой шее и обратил к Черемных левое ухо.
– Бери. – Черемных протянул свой пистолет.
– Беру.
Пестряков двумя руками бережно взял пистолет и еще более бережно засунул его за отворот шинели.
28 Пестряков с пистолетом на груди быстро забылся сном: сказались переутомление и потеря крови, а может быть, и то душевное успокоение, которое обретает солдат, когда он после трудной разлуки вновь оказывается при оружии.
Черемных же, напротив, одолела тревожная беспомощность; она неминуемо приходит к изголовью раненого, безоружного солдата. Он был не в силах отделаться от ощущения полной беззащитности, он уже совсем иначе, чем какие-нибудь несколько минут назад, прислушивался к шорохам ночи, к порывам ветра на дворе, к грохочущей бессоннице земли и неба.
И страшная тоска по жизни, зависть ко всем, кто остался по ту сторону фронта, овладели им. Те фронтовики, все до одного, надеются на возвращение домой. А на что может надеяться он, Михаил Черемных, обезоруженный, обреченный на смерть то ли от голода, то ли от палаческой пули, то ли от гангрены, которая, наверное, уже подымается к сердцу?
И как называется это лекарство, которое помогает от заражения крови, – о нем твердил сердобольный лейтенант? Вроде на букву «ц». Черемных все не мог вспомнить, как называется это лекарство, приготовленное из плесени, и так был огорчен своей забывчивостью, словно от того, вспомнит он сейчас или не вспомнит это название, зависит его выздоровление.
Не думать о ранах, забыть о боли, а только вспоминать, вспоминать, вспоминать…
И как всегда, в самые трудные минуты, когда Черемных хотел освежиться душой, он вспоминал дом, Стешу, а чаще и охотнее всего – сына.
Вот Сергейка, еще совсем карапуз, приходит домой из детского сада и хвалится пятерками. Воспитательницы в детском саду ставили отметки за поведение, еду и лежание. Пятерки за еду и лежание ставили тому, кто съедал без остатка свой завтрак и не баловался во время мертвого часа. У них там в детском саду и хор дошкольников создали. Смешно: певцы все беззубые, как раз у ребятишек молочные зубы выпадали.
Еще когда Сергейка ходил в детский сад, Черемных купил ему зеленое пальтецо. Всем было хорошо пальтецо, но не обратил он внимания на то, что пуговицы застегиваются на левую сторону. Стеша пальто застегнет, а чуть Сергейка за дверь – душа нараспашку. А ведь можно было прорезать петли на правом борту, перешить пуговицы, и Сергейка перестал бы стесняться этого пальто, которое застегивалось «на девчоночью сторону»…
Сергейка еще не ходил в школу, когда отец впервые взял его на электровоз. Пусть прокатится по руднику, пусть поглядит с горы на крышу своего дома, на свою улицу. Сергейке очень понравилось в будке электровоза и вообще на руднике. Все заговаривали с ним, показывали разные разности. Когда возвращались домой, Сергейка спросил у отца: «Почему одному мне вопросы задают? Вот у тебя никто не спрашивал, сколько тебе лет и как зовут».
А день поступления в школу! Сергейке не хватало полутора месяцев до восьми лет. Новый учебный год вот-вот начнется, а по– прежнему неясно – примут или не примут. Сергейка совсем извелся и клянчил, чтобы ему купили портфель. Он был убежден, что все дело в портфеле, и если купят – в школу примут обязательно. Портфель купили, и с того дня Сергейка спал, положив его под подушку – боялся, что отнимут.
В первый день занятий шел проливной дождь, а Черемных, помнится, работал в ночную смену и днем оставался дома. Вот он и вооружился тещиным зонтиком, пошел встречать сына. В вестибюль школы битком набились родители. Ребятишки выходили из школы возбужденные и чем-то уже отрешенные от домашнего мира – тот мир перестал быть для них всеобъемлющим. Иные выходили с портфелями, которые лишь подчеркивали, сколь малы их владельцы. У одного малыша портфель даже волочился по полу. Ведь первого сентября можно увидеть самых маленьких школьников, какие только бывают…
«Знаешь, папа! – сказал Сергейка по дороге домой, шлепая по лужам. – Мне в школе очень понравилось. Я решил завтра тоже пойти». Мальчонка и не знал, что в школу поступают на десять лет!
Из дому Сергейка уходил в школу как бы и не очень торопясь, степенно так прощался, а только за дверь – бегом бежал. Ходикам не верил, все боялся опоздать.
А когда подошли первые каникулы, Сергейка очень томился тем, что они такие длинные: как бы не разучиться писать. Тогда же он вдруг спросил: «Скажи, папа, почему учителя придумали таблицу умножения, а нет такой таблицы деления?» В другой раз Черемных долго и неумело объяснял Сергейке, что такое грош. Мальчик не мог уразуметь: разве это возможно – меньше копейки? И монетки такой – грош – он сроду не видел. А после того как учительница рассказала им о мамонтах, о ледниковом периоде, Сергейка задал отцу вопрос: «А можно было на том леднике кататься на коньках?..»
А вот как учился Сергейка потом, как втянулся в школьные занятия – этого Черемных не помнил. До обидного мало подробностей Сергейкиного детства сохранилось в памяти. Как же он, отец, бывал к сыну невнимателен, равнодушен, ненаблюдателен! А сейчас Серега уже большой, в четвертый класс перешел.
Стеша писала: с матерью не ходит в баню, стесняется, а одного посылать еще рано. Кто же спину вымоет мальчику, если отец не вернется?
И он с жгучей и сладкой болью вспомнил, как ходил с сыном, еще маленьким, в баню и как тер ему спину. Вода стекала по затылку, по плечикам, между острыми лопатками мальчика. Смуглое тело нежно лоснилось, все в мыльной воде, податливое под мочалкой. Сергейка, чтобы не остаться в долгу, старательно, невольно подражая отцу, пыхтя и отдуваясь, тер отцовскую спину. А потом в глаза ему непременно попадало мыло, и отец торопливо вел ослепшего парнишку к холодному крану.
Стоило Черемных представить себе струю обжигающе холодной воды, как ему нестерпимо захотелось пить. Он облизал потрескавшиеся губы и взглянул на спящего Пестрякова, но будить его не отважился – потерплю!
Накануне отхода эшелона на фронт, когда на платформы уже грузили танки, Черемных пошел с сыном в баню. В тот день довелось ему в последний раз надеть выстиранную жениными руками свою собственную, а не казенную рубаху.
Вымыл тогда мальчонку на славу, но разве можно его вымыть впрок: на год, на полгода, ну хотя бы на месяц? Минет неделя, придет время вести мальчонку в баню, а вести некому. Стеша пишет: прошлой зимой Сергейка ходил в баню с соседским стариком Матвеичем, у которого пенсии хватало только на хлеб и на сахар, так что тот охотно ходил с Сергейкой, лишь бы вымыться чужим мылом. Матвеич умер, и теперь Стеша приходит с сыном к бане, стоит у входа и ждет: может, встретится кто из знакомых…
С мучительной отчетливостью увидел Черемных, как жена, держа сына за руку, стоит у входа в баню и ищущим взглядом провожает мужчин: кому бы доверить мальчонку?
Черемных тоже спешит в баню со свертком белья под мышкой, и странно, что Стеша его не видит, не окликает, не подводит к нему Сергейку – не узнала, забыла?
«Это же я, твой Миша!» – захотел крикнуть, а может быть, в самом деле закричал Черемных и очнулся после забытья…
Ему по-прежнему видится Сергейка, но с ним почему-то играют в мяч, куда-то бегут наперегонки, вместе с ним едят что-то очень вкусное, смеются, а чаще плачут немецкие дети.
Дети, с глазами озабоченными, как у взрослых; с глазами, которые уже успели увидеть в жизни столько страшного, что разучились плакать; тех детей трудно чем-нибудь испугать.
Стремительное приближение фронта застигло жителей Восточной Пруссии врасплох. Фашисты уверяли, что русские далеко, что Гитлер ни за что не позволит им перейти границу.
Русские пушки загрохотали страшным октябрьским громом. Беженцы запрудили все дороги, а дороги те остались в тылу нашего танкового корпуса. А бывало и так, что танки двигались по шоссе, обгоняя колонны и обозы беженцев. По асфальту, по брусчатке громыхали танки, батареи, а беженцы плелись по обочинам узких дорог, к которым вплотную подступала осенняя распутица, и тысячи, тысячи ног месили злую, прилипчивую глину.
Черемных видел сквозь люк эту убегающую, но так и не убежавшую Восточную Пруссию.
А иные беженцы, убедившись, что идти некуда и незачем, повертывали обратно, к своим брошенным домам, и эти встречные потоки порождали бурные людские водовороты, создавали тугие пробки на объездах, у мостов, на перекрестках дорог.
Черемных казалось, что вся Восточная Пруссия населена только стариками и детьми.
Девочка и мальчик везут в кресле-коляске дедушку, разбитого параличом. Ноги старика закрыты цветным пледом, в руке он держит белый флаг.
Еле бредет, с трудом вытаскивая немощные ноги из глины, старуха с палками в обеих руках. Ее сопровождает внучек лет пяти, на нем заплечный мешок.
Шагает девчушка и впереди себя катит маленькую коляску с куклой.
Молодая женщина в пестрой кофте и в брюках ведет дамский велосипед без шин и почти без спиц, он катится на колесных ободьях; через сиденье переброшены и болтаются два узла, а раму внизу оседлал мальчик – так женщине легче вести велосипед и соблюдать его равновесие.
Множество детских колясок вышвырнула война на фронтовые дороги, и почти все коляски уже брошены там. Они оказались беспомощными перед воронками, выбоинами и глиняным месивом.
Несколько дней назад Черемных высунулся на стоянке из люка и глазел на беженцев.
И вдруг один мальчик остро напомнил ему Сергейку: те же крутые плечики, тот же шелковистый затылок, та же чуть пританцовывающая походка, рожденная избытком энергии.
Черемных выскочил из танка, рванулся вслед и увидел красивого мальчика со страдальческим выражением лица; страдание таилось в глубине васильковых глаз, в складках горько сжатого рта.
Мальчик вопрошающе, без испуга, без надежды и даже без особого любопытства взглянул на русского танкиста. А позже, когда Черемных подозвал мальчика к танку и протянул полбуханки хлеба, он лишь удивленно поднял брови и тихо сказал:
– Данке шён.
Он слегка наклонил голову, шаркнул ножкой и тут же отдал хлеб шедшей рядом девочке лет четырнадцати, с длинной косой и такими же васильковыми глазами.
В тот момент чинный мальчик уже ничем не напоминал Черемных его Сергейку, мимолетное и сомнительное сходство их испарилось. Но прилив нежности к мальчику в короткой курточке, в чулках до колен – у нас таких чулок не носят, – к мальчику, который и русского слова «хлеб», может быть, никогда не слыхал, долго не оставлял Черемных.
И сейчас, когда он, лежа в темном подвале, вспоминал своего Сергейку, рядом с сыном, как его неведомый приятель, товарищ в играх и сосед по парте, сверхъестественно возникал синеглазый немчонка с голыми коленями.
29 Сегодня вечером Черемных и Пестряков снова заспорили о немцах. В сущности, это был один и тот же надолго затянувшийся спор, в котором ни один не мог убедить другого в своей правоте.
– У тебя сын живет в безопасности, – так Пестряков пытался объяснить мягкосердечие Черемных. – А моя дочь, если жива, у Гитлера на каторге мытарится. Твой дом за тридевять земель от фронта. Сам же говорил: один раз только за всю войну затемнение в Магнитогорске вашем затеяли. И то, кажись, учебное. А мой дом Гитлер сжег. Вот почему ты добрее меня.
– Никогда не поверю, Пестряков, что вся твоя месть живет на таком корму!
– Просто моя память подлинней твоей. Я не только на добро – и на зло памятливый.
– А мне что же – меньше зла доставили фашисты?
– Выходит – меньше.
– Настенька твоя, изба твоя – это все так. Но ты и меня самого прими во внимание. Я вот не знаю, в какой части света числить себя: жив еще или… – Черемных запнулся. – Меня-то писарь списал в потери законно. За что мне-то любить фашистов?
– И я говорю – не за что.
– Но одно дело – фашисты, другое – немцы.
– Да у них каждый второй и третий – фашист. За Гитлера «хайль» кричит. Это у них – с молоком матери. Еще пеленки пачкают, а «хайль» орут.
– Насчет детей – это ты зря…
Пестряков смолк, но по жесткому выражению глаз, по тому, как он смотрел исподлобья, как угрюмо теребил усы, видно было, что Черемных и на этот раз ни в чем его не убедил.
Пестряков рассказал, как у них на Смоленщине каратели мстили партизанам, которые минировали дороги.
Насажают на подводу детей мал мала меньше, старика какого-нибудь кучером и гонят ту подводу по дороге, а следом за теми ребятишками, соблюдая дистанцию, движутся каратели. А то еще случай был в Непряхино: повел каратель на огород расстреливать пятилетнюю дочку партизана, увидел, что на ней ботиночки целые, и велел их снять. Девочка-то не понимает, зачем ей дяденька разуться велел и что собирается с ней делать. Сняла она один ботиночек, другой и спрашивает: «А чулочки тоже снимать?..»
– Были же среди немцев такие, кто шел против Гитлера, против войны, – напомнил Черемных. – И за это сейчас гниют в тюрьмах. А может, казнили их…
– За спины тех противофашистов весь гитлеровский народ спрятаться не сможет.
– Такого народа нет. Немцы – одна статья, Гитлер – другая.
– А если фашистов тех – миллионы? Получается фашистская нация! Без малого весь народ на Гитлера молился. Сколько тысяч немцев в палачи записалось? Одних только эсэсовцев, наверно, больше миллиона наберется. Почему так приключилось у них? Может, если изо дня в день одно и то же втемяшивать, человек и неправде поверит… Война закончится, замирятся все государства, а долго еще наши непряхинские бабы будут ребятишек словом «немец» пугать. Как сейчас пугают: «Цыц, не то придет фриц!..» Когда еще татары свое иго ввели и Русь оккупировали! А до сих пор русская пословица незваного гостя с татарином равняет… – Пестряков пристально вгляделся в лицо Черемных: – Сам ты не из татар, случаем? Фамилия у тебя православная, а если на личность поглядеть – восточное сословие на память приходит.
– Русские мы. Казацкого звания. Дед мой носил голубой лампас. А какой-то предок участвовал в первой Отечественной войне. Во Франции служил в гарнизоне. После Наполеона. Фершампенуаз называлось то место. А потом всем казакам того гарнизона нарезали землю в башкирской степи. И сейчас селение так называется. Есть даже Фершампенуазский сельсовет… И деда, и отца моего, и меня крестили в одной церкви. В станице Магнитной. Той церкви давно в природе нет. И той станицы. На ее месте разлился заводской пруд. Волны ходят. Река Урал. Бывшая река Яик… Наверно, мать засмотрелась в молодости на какого-нибудь башкира…
– А может, прапрабабушка согрешила? – повеселел Пестряков. – Еще при Емельяне Пугачеве?
– Возможное дело, – охотно согласился Черемных.
Он вспомнил первый их спор о немцах после перехода границы.
Пестряков сидел на броне, когда Черемных провел танк мимо пограничного, в черно-белую полоску столба под номером 64 по мостику через речку с неподвижной, пепельной водой.
– Вот она, Восточная Пруссия! – торжественно провозгласил кто-то в минуту короткой остановки.
– Это по-ихнему – Восточная Пруссия, – откликнулся с брони Пестряков. – А по-нашему, по-русскому, – берлога фашистского зверя.
– Между прочим, берлога – слово не русское, – пояснил лейтенант Голованов, – Бер – медведь, а лох – нора. Слово немецкого происхождения.
Пестряков был несколько обескуражен этим объяснением, но продолжал сердито осматриваться вокруг себя.
Бессолнечное, серое небо висело над головой. И в ту минуту ему казалось невероятным, что в этой берлоге бывает хорошая погода, что здесь тоже светит солнце.
Ржавое небо, ржавые поля, ржавые кусты у дороги, ржавая вода в пограничной речке, ржавые рельсы, ржавые перила мостика у железнодорожного переезда.
Нет солдата, который долгие годы войны не мечтал об этой заветной минуте: вот она, Германия!
Но с разными чувствами пересекли Черемных и Пестряков границу. Оба были взволнованы, но Черемных взглянул из люка на столб с добродушным удивлением, – вот он каков, оказывается! – а Пестряков глядел из-под нависших бровей, с недобрым огоньком в глазах.
Черемных счастлив был сознавать, что вся родина, из края в край, от прусской границы до милого сердцу Магнитогорска и еще дальше на восток, до самого до Тихого океана, лежит за его спиной.
Значит, отныне снаряды не будут кромсать родную землю. Значит, гусеницы танков и солдатские сапоги не будут больше топтать свою рожь. Значит, его танк не будет разрушать свои дома, выбивая оттуда фашистов, и он, Черемных, не будет озабочен тем, что разрушает родной кров, который ведь – наступит скоро такое время – нам придется восстанавливать!
А Пестряков, не тая злобы, поглядывал на серые, будто сдавленные в каменных плечах дома с островерхими черепичными крышами, с узкими оконцами, враждебно смотрящими на него, русского солдата, с дверями, недружелюбно прячущимися под темными арками, с ржавыми буквами непонятных вывесок, прибитых к стенам.
Стекло и черепица муторно хрустели под гусеницами, но для Пестрякова этот хруст звучал победной музыкой.
Танк миновал рыночную площадь. Пестряков вертел головой во все стороны; он читал в «Красноармейской правде», что на таких вот рыночных площадях фашисты устраивали невольничьи рынки. И замполит Таранец об этом же рассказывал. Немецкие фрау выбирали себе служанок, горничных, а фермерши, помещики из ближней округи – скотниц и конюхов. Может, и Настенькена стежка-дорожка привела на такую рыночную площадь?
И Пестряков со злорадством думал, что пришел час расплаты для всех этих прусских городков, фольварков, господских дворов.
Значит, гитлеровцы, отступая, будут отныне рубить свои сады, взрывать свои мосты, будут бить из пушек по своим особнякам, киркам, вокзалам, ратушам, будут бомбить свои дома, свои мельницы, свои элеваторы, свои фабрики, свои дороги.
30 Перед последним наступлением Пестряков сидел на броне мрачный, встревоженный. На исходной позиции он несколько раз соскакивал с танка, обходил соседние экипажи и просил:
– Так пожалуйста. Увидите невольников – спросите про Настеньку. Или письма попадутся…
Многие танкисты и десантники уже знали историю Пестрякова и выслушивали просьбу во второй, если не в третий раз.
Замполит Таранец заверил:
– Можешь, батько, не сомневаться. Дивчину твою повстречаем – зараз на танк погрузим. Шинель ей пошукаю, шлем танковый. Мое слово – як штык!
В первом же бою на чужой земле Пестряков удивил всех удалью: расстрелял расчет немецкого пулемета, втащил тот пулемет на танк и повел огонь, лежа за башней. Трассирующими пулями Пестряков указывал цели командиру своего орудия, и орудие било без устали. В тот день «большой хозяин» по радио прислал Пестрякову благодарность и обещал в награду орден Славы.
Перед вечером танки ворвались в фольварк Варткемен.
Замполит Таранец надумал, пока не стемнело, обойти фольварк, и Пестряков увязался за ним.
Пуст господский дом, пусты скотные дворы, амбары, пусты конюшни. Лошадей угнали, осталась лишняя сбруя и упряжь. Зато сарай битком набит пролетками, каретами, санями самого разнообразного вида, покроя и возраста. Особенно странно выглядел ярко-желтый фаэтон – он походил на модника, одетого не по сезону…
Но почему стены конюшни чуть ли не в метр толщиной? Зачем в каменной кладке сделаны амбразуры? Для чего под господским домом устроен подвал с бетонными перекрытиями? К чему такая просторная площадка для обмолота хлеба?
Таранец объяснил Пестрякову: вся усадьба заблаговременно строилась с расчетом, чтобы ее можно было использовать как узел обороны.
Амбразуры в конюшнях, подвальные окошки и в самом деле превратили в бойницы. С площади для обмолота хлеба вела огонь тяжелая батарея.
Подобные хуторки-крепости разбросаны столь густо, что имеют между собой огневую связь: один фольварк прикрывает подступы к другому. Дороги густо обсажены и скрыты от наблюдения. Строения прикрыты зеленой маской, но в то же время сады и палисадники не мешают самим немцам вести наблюдение. Окна домов и слуховые окошки на крыше, как правило, обращены во все стороны. Строения в усадьбе расположены так, чтобы прикрыть огнем друг друга и закрывать подходы к ним.
На подступах к фольварку сооружен дот, он замаскирован под стог сена и снаружи имеет весьма безобидный вид. Таранец и Пестряков спустились но лесенке. Под стогом прячется бронеколпак с перископом и амбразурами для кругового обстрела, а все железобетонное тело дота глубоко врыто в землю.
Пестряков недоумевал: какой смысл помещику, фермеру класть стены в четыре кирпича, если для конюшни вполне хватило бы и двух? И Таранец объяснил, сам при этом негодуя, что в пограничной зоне Восточной Пруссии никто не имел права строиться без учета военных требований, вне общего плана укрепления района. На дополнительные затраты гроссбауэр получал от государства специальную ссуду в банке «Остхильф», что в переводе значит «Восточная помощь».
Таранец и Пестряков вошли в амбар и увидели нары в два этажа. Высокое маленькое окошко в кирпичной стене забрано решеткой, и от этого вся комнатенка приобрела вид тюремной камеры.
Когда глаза привыкли к полутьме, Таранец смог разобрать надпись на стене, нацарапанную чем-то острым, скорее всего гвоздем:
«Товарищи, нас угоняют дальше вместе со скотиной. Вчера слышали ваши пушки. Догоните нас, пока мы еще не старухи. Отбейте у собаки-помещика. Пожалейте молодые жизни. Храни вас господь от пуль! С приветом в сердце. Лена. Настя. Катя. Зина».
Оба помолчали, потом Пестряков сказал:
– Руки не разобрать. Может, моя Настенька, может, другая.
– Их, наверное, видимо-невидимо в Германии, Настенек.
Таранец вышел из амбара, а Пестряков еще долго стоял у надписи и перечитывал ее про себя, неслышно шевеля губами, – старался запомнить наизусть.
Он подобрал на земляном полу грошовые девичьи бусы, обломок гребенки и спрятал в карман.
Танкисты прожили на господском дворе Варткемен без малого сутки. Заправляли машины, и на усадьбе стоял острый запах бензина. Из люков выбрасывали снарядные гильзы. Глухо дребезжа, они падали в осеннюю мокреть, в глину, развороченную гусеницами. Танки загрузили снарядами до полного комплекта и даже сверх него.
Заряжающие работали до седьмого пота, а десантники отдыхали в спальне господского дома.
Пестряков пощупал пальцами батарею центрального отопления – холодная. Но помещик, когда хотел, обогревался кипятком, а у девчат в амбаре даже печки не было. Больше всего Пестряков ненавидел сейчас помещика за то, что тот устроил себе на хуторе центральное отопление…
А в кабинете господского дома Таранец провел открытое партийное собрание. Может быть, впервые за всю войну он восседал за огромным письменным столом, да еще на кресле с такой высокой дубовой спинкой, что она едва не доставала до оленьих рогов, висящих на стене. Иные десантники тоже сидели, развалясь в помещичьих креслах.
Пестряков помнил собрания в землянках, блиндажах, тесных избах, а то и где-нибудь в траншее, в ходе сообщения. Планшетка, положенная Таранцом на колени, – стол президиума. Хорошо, если можно зажечь карманный фонарик или лампадку. Бывало, собрание шло в полной темноте, и Таранец узнавал товарищей по голосам, а окликал так уверенно, будто видел их. Бывало и так, что говорили из уместной предосторожности вполголоса – это когда собирались на самом передке, вблизи вражеских позиций. Тот, кто получал слово, продолжал сидеть на корточках или стоять согнувшись. Речи укладывались в несколько скупых слов: то была перекличка мужества, коллективная присяга. Ведь десантники чаще всего собирались на свое партийное собрание после боевого приказа, в минуту, когда они уже получили дополнительно гранаты, подсумки с патронами и запасные диски.
Пестряков хорошо помнил день своего знакомства с Таранцом. Танки сосредоточились в овраге, поросшем мелким кустарником; они вот-вот должны были войти в прорыв. Новый замполит проводил беседу на тему «Права и обязанности членов ВКП(б)». И вот во время беседы фашисты устроили артналет. Замполит приказал всем укрыться под танками: нет безопаснее, укромнее места, – а сам остался сидеть, где сидел, и закругляться со своей беседой не торопился. Пестряков лежал под танком и с тревогой следил за оратором, вокруг которого на все голоса пели осколки. Потом уже, когда и беседа и артналет закончились, Пестряков подошел к новому замполиту и сделал ему строгое внушение. Столько седых волос, а вел себя как мальчишка! И главное – нашел перед кем свою смелость показывать! Перед десантниками! Пестрякову понравилось, как новый замполит воспринял выговор от него, рядового бойца. Он признался, что не прав, и просил не рассматривать его поведение как ухарство. Замполит замялся, но объяснил, что, когда вел беседу на такую тему, ему показалось оскорбительным и недостойным прятаться от внезапного артналета. Пестряков понял его душой, и с тех пор между ними установились приятельские отношения.
Таранец уже не раз заговаривал с Пестряковым о вступлении в партию и предложил свою рекомендацию. Эх, если бы они встретились в начале войны! Если бы Пестряков меньше бродяжничал по госпиталям и не кочевал бы все время из части в часть! А вступить в партию в самом конце войны – еще кто-нибудь потом скажет, а не скажет, так подумает, что он, Петр Аполлинариевич, выжидал всю войну, сомневался в победе, боялся вступить в партию в самую трудную пору. Если говорить откровенно, он и сам уважительнее относился к тем, кто стал коммунистом в самую тяжелую годину, еще до победы на Волге…