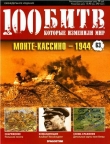Текст книги "Капля крови"
Автор книги: Евгений Воробьев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
«Название одной улицы – пустышка, – рассудил Пестряков. – Нужны два адреса. Вдоль и поперек. Тогда координаты получаются. Вот бы их наводчикам нашим! Или штурманам, которые бомбы в цель швыряют».
Он отодрал уголок афиши со своими каракулями, переметнулся к угловому дому, дождался далекой ракеты. Пестряков прижал обрывок афиши к стене.
Теперь его интересовала табличка, которая смотрела на другую улицу, на запад. Он вглядывался, запрокинув голову, в буквы и одну за другой вычерчивал их на бумаге.
Тимоша наблюдал из канавы, а потому больше тревожился сейчас о своем спутнике.
Он слегка обиделся, что Пестряков не нашел нужным посоветоваться насчет своей вылазки, но в то же время был очень доволен его затеей.
Именно потому, что сам Тимоша смекалистый и хитрый, он ценил эти качества у других. Он не отказывал в уважении даже фрицам, когда им удавалось его, Тимошу, перехитрить, или, как он выражался, «охмурить».
«Что же он так долго?» – мучительно вглядывался Тимоша в фигуру Пестрякова, прижавшегося к стене дома, с руками, поднятыми над головой – в одной руке тот держал бумагу, другой срисовывал буквы.
«Есть ли у этого проклятого названия конец?» – злился в этот самый момент Пестряков.
Он сменил уже несколько угольков, а все еще выводил черточки и линии.
Хорошо, хоть Тимоша так щедро угольками снабдил!
Слабеет ракета, вот уже обрывок афиши – одного цвета со стеной, и Пестряков в полутьме приполз, тяжело дыша, к Тимоше.
Нужно передохнуть, отдышаться, прежде чем двинуться дальше. В канаве по-прежнему остро пахнет чуть подгнившими листьями, и Пестряков на ощупь определяет, что это – листья каштана.
Где-то поблизости на каменные плиты тротуара падают переспелые, пережившие все сроки каштаны, но Пестряков их не слышит.
Их слышит Тимоша, лежащий слева.
13 Хорошо бы передохнуть и отправиться восвояси, не испытывать судьбу до конца, не вслушиваться больше в осколки, – кажется, все они летят мимо уха. Но Пестряков не считает задание выполненным, пока они с Тимошей не подобрались к кирке, которая громадится неподалеку.
Пришлось сделать большой круг, и только после этого дворами и садами вышли они наконец на площадь перед киркой.
Каждая ракета заставляла обоих прижиматься к стене дома или к земле, чтобы ничьи глаза не увидели две их фигуры – долговязую и приземистую, не увидели их тени – длинную и короткую.
Когда они двигались навстречу ракете, тени волочились позади, когда ракета повисала за спиной – тени стлались перед ними.
Каждая осветительная ракета была сообщницей, потому что помогала ориентироваться и делала их более дальнозоркими.
Но одновременно ракета являлась их предательницей: они сами становились видимыми для чужих глаз.
Плиты, которыми был вымощен тротуар, более гулко, чем асфальт, отзывались на шаги часовых. Но эти же плиты труднее принудить к тому, чтобы они оставались беззвучными, когда по ним шагаешь сам.
Наши батареи по-прежнему вели беспокоящий огонь, и на окраине городка время от времени рвались снаряды.
– Калибр сто двадцать два, фугасные, – определил Тимоша уверенно, и Пестряков кивнул в знак согласия.
Обстрел был разведчикам на руку, так как обезлюдил улицы, заставил немцев попрятаться. И опять-таки обстрел этот заставлял самих разведчиков остерегаться.
Тугоухий Пестряков, с опозданием заслышав снаряд, свистящим шепотом командовал: «Ложись, Тимошка!» Ведь никто от своего осколка не застрахован, и нечего играть со смертью в жмурки.
И еще множество условий и обстоятельств могло обернуться для двух ночных бродяг к их выгоде или к страшному урону.
Многое зависело от фронтового опыта этих людей, от их искусства разведчиков, многое зависело от того, сумеют ли они обратить эти условия и обстоятельства себе на пользу, лучше противника использовать обоюдоострое оружие.
Искусство разведчика начинается с драгоценного умения предвидеть и предугадать опасность. Ну а если умения нет – все остальное уже ни к чему, поскольку без этого умения не уцелеет ни один разведчик.
На протяжении ночи Пестряков не раз имел возможность убедиться в том, что Тимоша – разведчик стоящий, а товарищ – надежный. Примется Тимоша нести в подвале небывальщину – всякая вера к нему испарится. Отличится Тимоша, ну вот как тогда с четырьмя гранатами, – мнение о нем менялось к лучшему. Опять Пестряков какой-нибудь похвальбы наслушается, от которой уши вянут, так что даже слышимость ухудшается, – к своему старому выводу начинает тяготеть. Уже сколько раз за двое суток знакомства Пестряков вынужден был менять о Тимоше мнение!
Бахвал, да смелый, болтун, да дельный, простачок, да хитрый – вот ведь, оказывается, натура у него какая двусторонняя. Ну ловкач! Вокруг столба без поворотов пройдет.
– Откуда у тебя, Тимошка, такая сноровка образовалась? – полюбопытствовал Пестряков, лежа в канаве. – Где ты фронтовому уму-разуму научился?
– Самоучка, – Тимоша повернулся вправо: – Из меня разведчика по крошкам собирали…
Еще когда Тимофей Кныш служил шофером и доставлял снаряды с дивизионного обменного пункта на передовую, он однажды удивил комбата своей наблюдательностью.
Тимоша замаскировал в березнячке грузовик, поскольку фрицы просматривали дорогу на передовую и все равно приходилось ждать наступления темноты, а сам, любопытства ради, пополз в боевое охранение. Он обратил внимание на то, что на немецких позициях, в близком соседстве один от другого, подымаются два дымка. А Тимоша знал, что фрицы в ротах полевых кухонь не держат, не так, как мы, фрицы привозят к себе в роты готовый обед. Откуда же вдруг два дымка кухонных по соседству в одной лощине взялись? Значит, дело ясное – два батальона или, может быть, даже два полка локтями трутся.
Наши как раз к наступлению готовились. Ну вот и ударили по той лощине.
Догадка Тимоши подтвердилась: там у немцев как раз находился стык двух частей.
А в другой раз привез Тимоша снаряды на батарею, замаскировал машину в лесу, улегся под ней – никак не заснет. Аккурат на артиллерийскую дуэль подоспел! Мы к немецкой батарее пристреливаемся, а немцы нашу батарею нащупали. Прямо хоть меняй огневую позицию. А позиция такая удобная, на самой лесной опушке, и, главное, все рубежи пристреляны, ориентиры установлены. Было совершенно очевидно, что немецкие наблюдатели следят за своими разрывами и за нашими выстрелами. День был пасмурный, и отблески выстрелов им хорошо видать было, вот-вот начнут бить по огневой позиции.
Тут Тимоша, разозленный тем, что ему так и не удалось заснуть, взял две противотанковые гранаты, пополз на опушку леса, в котором стояла наша батарея. И вот когда немецкий снаряд был на излете – через секунду-другую он разорвется на огневой позиции батареи, – Тимоша швырнул гранату на поляну перед лесом.
Немецкие наблюдатели увидели черный куст разрыва и приняли его за свой снаряд. А что значит – виден разрыв? Значит, недолет, снаряды не достигают леса.
Немцы увеличили прицел.
Тимоша тем временем перебрался поближе к лесу и, когда над головой его угрожающе прошелестел очередной снаряд, снова метнул гранату. Немцы увидели разрыв, решили – снова недолет, и еще больше увеличили прицел. Теперь их снаряды летели через нашу батарею и разрывались далеко позади, кроша и калеча деревья в безлюдном лесу. Тот лес они рубили осколками несколько дней подряд – «вели заготовку дров на зиму».
Командир батареи был в восторге от уловки заезжего шофера. Он представил Тимошу к медали «За отвагу». С тех пор Тимоша был на батарее желанным гостем, так что частенько, выгрузив снаряды, уезжал оттуда навеселе.
Батарея охотно располагалась на опушках лесов, и артиллеристы во время дуэлей пользовались методом Тимоши, чтобы сбить с толку немецких наблюдателей.
Вскоре после того случая Тимошу перевели из шоферов в артиллерийскую разведку, оттуда – в разведку дивизии, ему присвоили звание младшего лейтенанта, наградили Красной Звездой.
Но затем он счел несправедливым, что его так долго не награждают новыми орденами, не повышают в звании, и вот тогда-то ему пришла шальная мысль отправлять в штаб захваченных «языков» поодиночке, чтобы генерал расщедрился.
14 Пестряков и Тимоша благополучно подобрались к площади и залегли в садике у какого-то дома с вычурным балконом и еще более вычурной мансардой.
На противоположной стороне площади, за киркой, разорвался снаряд, и слепящее пламя, как молнией, осветило паперть кирки, памятник кому-то, кто восседал на лошади с саблей в руке и в островерхой кайзеровской каске. А самое важное – пламя осветило зенитки с задранными в небо стволами.
– В скольких городах у фрицев побывал, – прошептал Тимоша в ухо Пестрякову, наблюдая сквозь железные прутья забора, – а штатского памятника не видел.
– Тут, в Пруссии, все – оккупанты со дня рождения. И с древних времен фашисты.
– А памятников у них богато. И в конном, и в пешем строю красуются. Даже больше, чем в Москве. Ты в Москве-то бывал?
– Не привелось, – вздохнул Пестряков. – А давно мечтал. Еще Настеньку примерялся на выставку свозить. И сам бы подивился. Как антоновка и бумажный ранет на одной яблоне растут-уживаются.
– Я Москву хорошо знаю, – соврал Тимоша. – Двадцать семь суток в московском госпитале прожил. Правда, в хромом виде. Ковылял в город по увольнительной. Нормально. Даже посещал зрелищные предприятия. В самом центре жил. На бульваре. Где Александр Сергеевич Пушкин стоит в плащ-палатке.
– А кто вместо тебя наблюдать будет? – добродушно проворчал Пестряков. – Тоже Пушкин? Лучше проследи, Тимошка, куда шестовка с проводом тянется.
Тимоша воспринял замечание как должное. Приглядевшись к Пестрякову, проверив его в деле, Тимоша разрешил тому делать замечания и не обижался больше по пустякам.
Может быть, впервые за всю войну он оказался локоть к локтю с таким бывалым солдатом, что поневоле признал его превосходство.
– Через площадь провод тянется, – высмотрел Тимоша.
– Не станет Гитлер, чесотка его возьми, тащить на шестах провод через площадь, – рассудил Пестряков. – Он бы его вкруговую пустил. И на столбы подвесил. А этот провод в кирку пущен.
– Ясно, не молебен заказывают по телефону! – хохотнул Тимоша. – Не исповедуются. Там, на верхотуре, молятся наблюдатели. Стереотруба у них заместо распятия. А расчетные таблицы для наводки – библия.
– Кажись, твоя правда, Тимошка.
Пестряков дал знак двигаться.
Они благополучно пересекли сад, где стволы были вымазаны известкой, вышли в какой-то тесный дворик. Посредине дворика находился старинный колодец с круглым навесом, похожим на беседку.
Не успели они отойти от этого колодца, как сзади на них набросилась собака. Глаза ее по-волчьи горели, она захлебывалась лаем, одновременно хриплым и визгливым. То не был заливистый, беззлобный лай собаки, которой прискучило молчать и которой представляется удобный повод поддержать репутацию сторожа. Этой овчарке не хватало лая, чтобы выразить всю свою злобу, рожденную голодным и страшным собачьим одиночеством, всеми тревогами, вызванными обстрелом и пожарами вокруг, всеми незнаемыми прежде запахами, всеми обидами, которые были нанесены за последнее время, начиная с той минуты, когда ее так бессердечно бросил здесь, во дворе, хозяин и забыл, что ее полагается кормить, поить, водить на прогулки в городской парк, где всегда можно встретить много знакомых и незнакомых сук… Уже много дней никто, даже гадкий соседский мальчишка, который имел скверную привычку дразнить через забор, не звал ее по имени – будто люди сговорились между собой забыть кличку, которую сами же придумали. Зачем же тогда хозяин учил ее ходить на задних лапах, носить в зубах палку, подавать то левую, то правую лапу? Она давным-давно не грызла костей, не лакомилась сахаром или искусственным медом…
Нападение овчарки было столь неожиданным, что Тимоша попросту оторопел, да и Пестряков не сразу пришел в себя.
Оба прожили ночь в постоянном ожидании опасности. Но кто мог подумать, что опасность явится в виде взбесившегося от ярости, лающего на весь городок пса? Навряд ли мгновение назад Пестряков вообще помнил о существовании собак на белом свете.
Они попытались пройти к калитке, чтобы выбраться на улицу, но овчарка никак не давала дороги, хрипло рычала, и лай ее, после того как оба долго вслушивались в шорохи ночи, в шаги патрулей, – этот лай оглушал даже Пестрякова.
Овчарка рычала и бросалась на Тимошу, шедшего впереди.
Тимоша уже несколько раз пытался стукнуть овчарку прикладом автомата, целясь в горящие глаза, но овчарка была увертлива, и размахивание прикладом только увеличивало ее злость.
«Подождать перестрелки, что ли?» – раздумывал Пестряков; он по-прежнему стоял у колодца, отбиваясь от овчарки – теперь она оставила в покое Тимошу и всю свою ярость обратила на него. Может, ее привлекла короткая шинель и короткие голенища? Этого человека ей легче было ухватить за икру, и он не так быстро размахивал своей толстой дубинкой…
Как назло, автоматы часовых молчат, а овчарка беснуется.
Что опаснее – обнаружить себя выстрелами или оставаться во дворике, где не прекращается истерический лай?
Пестряков дал короткую очередь.
Овчарка полетела кубарем. Светящиеся глаза ее описали в темноте какую-то спираль. Но она была жива и кинулась на обидчика с хриплым подвыванием.
А ведь Пестряков готов был поклясться, что достал собаку пулями.
Тимоша выстрелил – собака продолжала рычать, он выстрелил еще раз, в упор, – и она утихла.
Разведчики прошли к калитке, осмотрелись и пустились наутек по тротуару.
– Однако чумовая, – перевел дух Пестряков. – Ты сколько патронов истратил?
– Два.
– Я, усатый олух, кажись, семь. Да еще промахнулся своей очередью.
– Собаку труднее убить, чем фашиста.
– На хозяев боеприпаса не останется, ежели так с фашистскими овчарками воевать. Кажись, шестнадцать патронов в наличии осталось.
– И моих девять, – невесело подсчитал Тимоша.
Пестряков помрачнел; он еще раз мысленно подсчитал патроны в диске автомата – кругом шестнадцать!
Добрались до канала, о котором Пестряков знал, что тот тянется по восточной околице города, перерезая его с севера на юг. Курица могла форсировать канал, не замочив крыльев. Дно канала и крутые откосы, выложенные скользкими плитами, были устланы опавшей листвой. Она удобна, когда на листве этой неподвижно лежат, но опасно шуршит, когда по ней приходится ползти.
Однако воды хватило для того, чтобы она натекла Пестрякову в худые сапоги.
«Черт с ним, с этим ледяным компрессом, потерплю. Но ведь хлюпать дырявые лапти примутся – вот что скверно…»
Пестряков и Тимоша удостоверились, что канал используется как противотанковый ров. Можно не сомневаться, что горбатый мост через канал фашисты начинят минами.
Это был тот самый мост, от которого строго на запад вела аллея к Церковной штрассе, к тому самому перекрестку, возле которого находится дом с подвалом – приют четырех, их казарма, госпиталь, крепость.
При въезде на мост скопилось множество машин, одна в затылок другой.
Пестряков сразу догадался: это потому, что обочины аллеи и подступы к мосту уже заминированы, машины там не могут разъехаться, оставлен лишь узкий проезд.
И по мосту, вопреки его ширине, движение машин было одностороннее. Догадка Пестрякова подтверждалась.
Он поделился соображениями с Тимошей, тот и сам пришел к такому выводу.
– Мы с тобой, – прошептал Тимоша в ухо Пестрякову, – одного, минного поля ягоды.
И в этом вкрадчивом шепоте можно было услышать все: извинение за былое недоверие и обещание дружбы.
Конечно, Тимоша бахвал и вздорщик, но нельзя отказать ему в том, что он разведчик приглядистый, на него можно облокотиться в самом рисковом деле.
И что еще Пестрякову понравилось, можно даже сказать, тронуло его – Тимоша раз и навсегда запомнил, что Пестряков хуже слышит правым ухом, а потому во время разведки располагался на левом фланге: так и шепнуть на ухо удобно, а Пестрякову не приходится вертеть головой.
Не один час прошел в скитаниях по городу, и пора было уже подумать о возвращении домой, если только можно назвать домом тот подвал.
Вернее всего было ползти и шагать обратно старой дорогой, вкруговую. Но Пестряков боялся, что они не успеют дойти этим маршрутом до света – ночь уже на исходе, – и потому решил двинуться напрямик вдоль аллеи, ведущей от моста строго на запад, до той штрассе, которая в переводе с немецкого называется Церковной.
Пестряков и Тимоша благополучно, без особых происшествий добрались до своей улицы, но здесь, возле углового дома, соседствующего с тем, в котором они оставили товарищей, впритирку к фасаду, выходящему на аллею, стояла цуг-машина с пушкой на прицепе.
«Хуже нет углового дома, – успел подумать Пестряков. – На бойком месте. Хорошо, мы туда не забрались».
Они обошли квартал кругом. Пестряков решился, несмотря на присутствие немцев в соседнем, угловом доме, все-таки проникнуть в подвал.
Они подошли по Церковной улице к дому номер двадцать один, поравнялись с забором из неотесанного камня, со знакомой калиткой…
15 После того как Пестряков и Тимоша ушли на разведку, лейтенант улегся, закинув руки за голову, по соседству с Черемных.
Тот негромко стонал, но каждый раз, когда лейтенант давал ему фляжку с водой, успокаивался: не так судорожно хватал воздух пересохшими губами. Утолив жажду, он вновь пытался совладать с болью, притерпеться к ней.
– Недавно из Лондона передавали по радио, – сообщил лейтенант. – Найдено средство от заражения крови. Плесень какую-то вывели, вроде грибка. Называется пенициллин. Уже во многих английских лазаретах пользуются. Совершенно сказочный препарат! И от воспаления легких. И от гангрены. И от венерических болезней.
– Венерических болезней за мной сроду не водилось. А вот бы заражение крови миновать… – тяжело вздохнул Черемных и спросил после долгого молчания: – А у нас такие грибки не водятся?
– Это ведь не простые грибки. Антибиотики! Микроорганизмы.
– В этом я малосведущий. Однажды, когда в ФЗУ учился, смотрел в микроскоп на какого-то микроба…
Черемных очень хотелось услышать еще что-нибудь про фантастическое средство от заражения крови. Он понимал, что лейтенант неспроста заговорил об этом. Но от утешений только тяжелее на сердце, и лучше всего заставить себя думать о чем-то совершенно постороннем, вот хотя бы о том микробе, который вырос в микроскопе до размеров комара. Он вдруг вспомнил, как Сергейка спросил у него: «Сколько километров может без отдыха пробежать микроб?»
Но тут же память вернула его к танку:
– А прицел на танке?
– Оптический прицел у нас в танке – тот же микроскоп, – пояснил лейтенант. – Во всяком случае, принцип совершенно одинаковый.
Пожалуй, сейчас, когда они, двое танкистов, остались наедине, потребность думать о своем танке, об экипаже стала у Черемных еще сильней.
Вот он, старшина Михаил Михайлович Черемных, и отвоевался, вот он и снял навсегда ноги с педалей, не поддавать ему газу, не видеть ему ни своего танка, ни чужого.
Не видеть ему больше и старенького электровоза, на котором он работал помощником машиниста, не подыматься ему больше по железной лесенке в будку, не раскатывать по горизонтам магнитогорского рудника, где под рельсами не земля, а руда. Богатимая руда на горе Атач! И машины туда не ходят, все-все возил он: и горняков на работу, и взрывчатку, и газеты, и хлеб в столовую.
Он был помощником машиниста. Жаль, не перевелся в машинисты – он бы работал намного лучше.
Вот что значит чувство ответственности! Поначалу оно угнетает, даже стесняет движения. Но стоило Черемных приобвыкнуть, приучиться к самостоятельности, увериться, что экипаж танка доволен своим механиком-водителем, почувствовать, что ответственность ему по плечу, – и плечи расправились, и даже роста у него вроде прибавилось…
Ведь он был неплохим механиком-водителем, честное слово, неплохим. Как ухаживал за машиной!..
Где тот корреспондент из фронтовой редакции, в очках и кожаном пальто, который наведывался к Черемных на исходной позиции? Условились после боя договорить. Вот и договорили. Как же, пожалуй, разыщет его теперь корреспондент на том свете…
Да, много бы он мог молодым механикам подарить опыта, а теперь весь этот опыт при нем останется и сгинет…
Снова и снова в сознании Черемных возникали подробности последнего боя.
Он часто и быстро менял позицию, чтобы вспышки от выстрелов не выдали местонахождения танка. Он все время вел машину на малых оборотах, чтобы фашисты, услышав шум, не смогли по выхлопам мотора определить, куда движется танк.
Как же произошло несчастье?
Танк вдруг содрогнулся, наполнился гарью.
Черемных попытался понять, что произошло, но в ушах стоял такой звон, словно он сидел в огромном колоколе, а кто-то непрерывно бил молотом по гулкой меди, по ушам, по голове.
Черемных, как все опытные танкисты, любил встречный или боковой ветер, потому что таким ветром быстро сносит дым после выстрела и механик-водитель видит дорогу, а в башне видят, накрыта ли огнем цель и что с противником.
А все последние дни погода была тихой; такие деньки проклинают в танках, на парусных яхтах и на ветряных мельницах.
Безветрие мешало Черемных вести наблюдение и делало воздух в танке еще более удушливым, особенно после того, как открывался автоматический затвор и выбрасывал стреляную гильзу. Пороховые газы ударяли в уши и в нос, слезились глаза, нечем становилось дышать, и кружилась голова. А открыть люк нельзя, и не только потому, что это опасно, а главным образом потому, что танк превращался при этом в резонатор и после каждого выстрела весь экипаж оглушало бы еще сильнее.
Девятнадцать километров прошел танк с боями той ночью. Черемных отлично помнит, что лейтенант усомнился: «Может, испорчен спидометр? Я бы скорей поверил, что прошли сто девятнадцать километров». Лейтенант сидел на своем обычном месте, ближе всех к механику-водителю, справа от него. У лейтенанта, так же как у Черемных и других членов экипажа, – шлемофон, но он не мог перекинуться даже несколькими словами. В тесной и жаркой сутолоке боя он редко отрывался от своего лобового пулемета.
Что Черемных знал о лейтенанте Голованове? Да почти ничего, кроме того, что его зовут Олегом, что он сочиняет стихи, знает немецкий и английский языки, так что нередко слышал, как говорят фашисты и союзники, а был случай, когда подслушал по радио речь самого Гитлера.
И дружбы никогда Черемных не водил с этим молоденьким, всегда таким обходительным радистом-пулеметчиком, который любил рассказывать о всяких новинках науки и техники.
И вот, оказывается, этот рослый лейтенант и вытащил Черемных из горящего танка. Об этом ему сообщил десантник Пестряков, когда лейтенант и Тимоша дежурили наверху, в доме.
«А когда я усатого десантника впервой увидел? – силился вспомнить Черемных. – Кажется, перед границей. Или на Немане? И фамилии его не слыхал».
И еще Пестряков рассказал, когда они остались вдвоем, о том, как Тимоша прикрыл огнем их эвакуацию. Дым тогда долго стлался по земле черным облаком, и не нужно было бояться, что ветер быстро раздерет его в клочья. Выходит, от безветрия в тот вечер не только вред, но и польза была.
А кому, собственно говоря, польза, что его выволокли из танка, притащили в подвал?
Товарищам это не пошло на пользу. Так им бы, возможно, удалось пробиться к своим, а сейчас из-за него, безногого, они мыкаются в немецком тылу и навряд ли выберутся подобру-поздорову.
Но товарищи не только мыкаются – они воюют в тылу! Хорошо, ночи темные, длинные. Хуже пришлось бы летом, да еще если угодить в полнолуние…
Оставил бы его лейтенант в танке – все было бы давным-давно кончено, поскольку танк вскоре загорелся, а Черемных все равно был тогда без сознания. И не узнал бы, что сделался калекой. И уберегся бы от мучений. И не подавлял бы сейчас желание стонать от боли. И не нужно было бы прислушиваться к каждому выстрелу там, наверху, на земле, к каждому шуму и шороху, которыми до краев наполнена ночь.
Вот ему снова начали мерещиться шаги над головой, и Черемных пристыдил себя: нельзя же до такой степени опускаться, самому себе на нервы действовать!
Надо заставить себя поразмыслить о чем-нибудь совершенно постороннем.
Однако шаги над потолком становились все отчетливее, и вскоре сверху донеслись голоса.
«Что это нашим взбрело в голову снова забраться в дом? Наверно, Тимоша, трофейная его душа, вознамерился еще что-нибудь перетащить в подвал. Все заботится обо мне… Но почему он разговаривает так громко?»
То был чужой голос, то были чужие шаги.
Черемных затаил дыхание.
В горле у него сразу пересохло, в висках застучало.
Он потянулся к пистолету.
16 Лейтенант спал, как бы все время сдувая с губ легкие пушинки. Огонька, который трепетал на конце фитиля, хватало на то, чтобы осветить все черты красивого лица; только глазные впадины и ямочка на щеке оставались в тени.
Черемных позвал шепотом – лейтенант не слышал, позвал вполголоса – не слышал.
Как же быть?
А вдруг он чихнет во сне, кашлянет или всхрапнет?
И плошку нужно погасить осторожности ради.
Черемных уже решился было позвать лейтенанта во весь голос, но в это время над головой затопали сильнее, голоса раздались отчетливее, и лейтенант проснулся.
Он сел на тюфяке, взлохмаченный, розовощекий.
Черемных приложил палец к губам, а затем показал на потолок.
Лейтенант схватился за пистолет.
– Немцы в доме, – сказал он прерывающимся голосом и таким тоном, будто первым сообщал Черемных эту новость, – Вдруг хозяева?
– Плохо дело. – Черемных опасливо вгляделся в тот угол, где темнела дверь.
Лейтенант тоже не отрывал взгляда от двери, ведущей в дом.
Он поспешно погасил огонь.
Оба помолчали, прислушиваясь к темноте. И, наверно, оба мысленно воздали должное Пестрякову за его мудрую предусмотрительность.
– Это не хозяева, – сообщил лейтенант тем пронзительным шепотом, который явственней громкого разговора. – Женских голосов не слышно.
О чем там немцы разговаривают? Отдельных слов, как он ни напрягал слух, разобрать не удавалось, но голоса какие-то недовольные, сварливые.
Может, немцы тоже ищут и не могут найти провизию? Но зачем немцам искать провизию в брошенном доме? Будто у них в роте нет каптенармуса.
Расположились в доме на ночлег и ругают хозяев, которые увезли с собой постельные принадлежности? Вполне возможно. Тимоша вчера и в самом деле развил бурную деятельность, перетащил в подвал тюфяк, перины, подушки, белье.
Наверху снова затопали, затем шаги стихли, кто-то запел столь хорошо знакомую лейтенанту песенку «Лили Марлен», опять донеслись отзвуки короткого, но резкого спора.
Наконец все смолкло.
Тишина, гнетущая тишина повисла над подвалом. Стало слышно, как Черемных проглатывал скопившуюся слюну.
Лейтенант уже оправился от страха. Как в спорте существует второе дыхание, так к лейтенанту в минуты самой большой опасности, после того как ему удавалось перебороть страх, являлось второе самообладание.
Хорошо, что Пестрякова и Тимоши нет на месте. Есть даже что-то справедливое в том, что у знамени танкистов, рядом с Черемных, остался именно он, Олег Голованов, товарищ по экипажу.
Ну что же, значит, судьба.
Он вспомнил вдруг слова, которые как– то написал Ларисе. В письме он рассуждал о закалке характера: трус не любит жизни, он только боится ее потерять; трус не борется за жизнь, он только охраняет ее.
Ну а он, Олег Голованов, до конца постоит за Черемных и за себя. Пистолет заряжен, есть запасная обойма. Буду биться до последней капли крови!
Он прекрасно знает, что выражение «до последней капли крови» нельзя понимать в буквальном смысле слова. Человек, который лишился одной трети крови, уже находится между жизнью и смертью, а человек, потерявший половину крови, умирает.
Нет, не надежда вдохновляла его сейчас, скорее, он почерпнул силы в отчаянии. Но он был счастлив тем, что переборол всякий страх, что к нему пришло отчаяние, хладнокровное и воинственное.
Снова шаги над потолком, и возня, будто кто-то вздумал там бороться или драться, и визгливый смех, и сердитый голос, зовущий кого-то, и окрик «шнель!».
Черемных лежал недвижимо, не смея застонать. И сейчас ему казалось: это вот безмолвное лежание – самое мучительное из всего, что ему пришлось пережить; если бы разрешено было сейчас издать хоть один стон – сразу прекратились бы или, во всяком случае, утихли его страдания.
Какой, оказывается, мучительной может быть необходимость соблюдать тишину, когда гибельным может оказаться даже шумное дыхание, покашливание, легкий стон, который не удалось унять, слово, неосторожно произнесенное, шорох, стук.
Черемных с удивительной отчетливостью вспомнил задымленный и окровавленный день 13 июля, когда они освободили город Вильнюс и их танк оказался под конец боя на узкой, кривой старинной улочке, такой узкой, что ему, механику-водителю, не хватало мостовой и одной гусеницей он корежил край тротуара.
Фашисты устроили в том районе гетто. Лишь несколько евреев выжило на улочке, превращенной в кладбище.
Ему показали людей, которые уцелели благодаря тому, что сами замуровали себя; они выбирались из своего убежища, чтобы подышать воздухом, только по ночам, через печную трубу. В семье часовщика, где, впрочем, все больше походили тогда на трубочистов, была двухлетняя кучерявенькая и глазастая девочка; на несчастье, она простудилась и сильно кашляла. А улочку все время мерили немецкие патрули. Самая большая опасность надвигалась, когда патруль шагал по тротуару мимо замурованной стены: он мог услышать кашель. И вот каждый раз, когда шаги часового приближались, дедушка зажимал рот внучке своим ртом, и та дышала вместе с дедушкой через нос. И лишь благодаря этим мучительным поцелуям дедушки выжила девочка, а вместе с нею и вся семья.
Черемных с волнением выслушал тогда сбивчивый рассказ из смеси польских, русских и еврейских слов, перемежаемых причитаниями и всхлипываниями. Этот рассказ записал в свой блокнот корреспондент из фронтовой газеты, в очках и в кожаном пальто, который катался в тот день с десантом на броне. Он напечатал потом в «Красноармейской правде» очерк под названием «Геттэла» – так прозвали девочку, поскольку она выросла в гетто. Черемных послал газету домой Стеше и с тех пор о той еврейской девочке не вспоминал, а тут вдруг она как живая встала перед его глазами. Не потому ли, что Черемных, лишенный возможности не только кашлянуть, но даже застонать, оказался сейчас в таком же положении? Только в том и разница, что семья часовщика проникала в свое убежище через печную трубу, а товарищи – через оконце, заставленное ящиком и заткнутое подушкой…