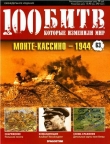Текст книги "Капля крови"
Автор книги: Евгений Воробьев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
– А Настенька, может, десять раз в своей жизни кино смотрела. К нам в Непряхино этот кинопередвижник никак дорогу найти не мог. И хорошие товары в нашу лавку тоже дороги не находили. Где-то в больших городах товары заблудились. У нас даже иные девушки в лаптях ходили. Не слыхал про такую моду: «Баретки – сорок четыре клетки!..» А все равно хоть и в лаптях, а по счастливым тропкам ступали. Вот и Настенька моя едва среднего образования не достигла. Восемь зим в школу отходила. С шестого класса уроки стала при электрической лампочке готовить. А почему крестьяне еще так весело с керосином расстались? Не догадываешься?.. – Пестряков выдержал паузу: – Да потому, что у нас керосина сроду в сельпо вдоволь не завозили. Чтобы того керосина на все лампы хватало…
– Что правда, то правда, – вздохнул Черемных. – Скупо в нашей деревне жили.
– Вольно было тебе, Тимошка, – продолжал Пестряков сварливо, – смотреть кино без антрактов, ходить в ресторан с белой скатертью или в буфет с горячими напитками. Твое дело было холостое, у тебя дите пить-есть не просило…
Тимоша растерянно заморгал белесыми ресницами.
– И зарплата шоферская тебе веселую жизнь позволяла.
– Зарплата мне как раз не позволяла, – мрачно признался Тимоша. – Я еще доход получал…
– Левак? – сразу догадался Черемных.
– Левые рейсы ездил редко. Зато накипал приварок от пассажиров. Особенно доходные пассажиры, кто торопится на базар. Или с базара. С мешками, с бидонами, с корзинами. Чего только не возил! Даже раков полные решета. Раки крупные, можно сказать, наркомовские. Их у нас ловят в гирлах Дона, в лиманах, в протоках. Потихоньку от властей местных.
– Выходит, хорошо жил, потому что ловчил? – насупился Пестряков.
– Меня еще сызмальства жизнь заставляла ловчить. Помню, в школе у нас учитель был подслеповатый. И на отметки забывчивый. Зазевается он. А я найду в раскрытой тетрадке минус против своей фамилии и перечеркну тот минус на плюс. Порядок. И что же вы думаете? Сходило!.. А когда экзамен на механика по автоделу сдавал? Самому корпеть лень было. С этими занятиями и от танцев отстать недолго. Занял чертеж у одного чудака. Отрезал край листа, где помещалась его фамилия. Сам расписался в другом месте. А инструктор попался раззява. Вторую пятерку за один чертеж поставил. Вежливо…
Пестряков только передернул плечами.
Уже не впервые Пестряков и Тимоша, чтобы скоротать время, принимались рассуждать о жизни.
Тимоша охотнее вспоминал, и воспоминания у него обычно были радужные. А Пестрякову не все прошлое представлялось в светлых красках, и он чаще Тимоши обращался помыслами к будущему.
Черемных напряженно вслушивался в эти разговоры, иногда вставлял реплики. И хотя сам дожить до мира не надеялся, ему было приятно слушать и думать о будущем, потому что это было будущее его Сергейки.
Подолгу вели эти разговоры Пестряков и Тимоша, иногда жарко препирались, но не могли прийти к согласию, к единодушию.
Да и как им было сговориться, если Тимоше добываемое в муках войны будущее представлялось лишь как восстановленное прошлое, как воскресшая довоенная жизнь, а Пестряков этим не удовлетворялся, он предъявлял к будущему значительно большие требования…
– Я всю жизнь нарушал обязательные и необязательные постановления, – чистосердечно признался Тимоша. – Но только не во вред людям, а на пользу…
– На пользу своему карману! – дружелюбно уточнил Черемных.
– А бывало – и на пользу обществу! – заступился Пестряков за Тимошу. – Навезут леваки на базар овощей, рыбы и всякой сметаны – цены снизятся. Значит, и трудящимся выгода…
Он уже готов был схлестнуться по этому поводу с Черемных, но тот промолчал. Пестряков продолжал:
– Я вот в свое Непряхино наведался, когда деревню от Гитлера освободили. Замполит Таранец отхлопотал мне у генерала ту экскурсию. Так верите ли? Из нашего Непряхино в партизанском отряде душ восемьдесят воевало. И колхозники, и единоличники, и партийные, и беспартийные. На похвалу не прицеливаюсь, но и я бы в том отряде оказался. Если бы опоздал самодеятельно мобилизоваться… Ты, может, думаешь, я – мобилизованный? Ничуть не бывало! Добровольного призыва. Съехались-сбежались мы к военкомату. А мотоциклы гитлеровские уже в соседнем районе стрекочут… И комиссии медицинской не проходили. И признаться, присягу тогда принять не успели. У кого совесть была – сам взял винтовку в руки, прибился кто к кому смог и воевать принялся… Совесть – она с человеком нигде не разлучается.
– А я что же, выходит, бессовестный? – обиделся Тимоша; он заподозрил намек, которого вовсе и не было.
– Совесть у тебя есть. Но только жаль, не всегда дома ночует… – Пестряков небрежно отмахнулся от Тимоши.
Он продолжал думать о своем, а так как Черемных лежал с закрытыми глазами и других собеседников у него не было, спустя какое-то время вновь обратился к тому же Тимоше:
– А вот хочешь знать, кто в начале войны на Смоленщине отрядом «Народные мстители» командовал?
– Капитан какой-нибудь? – предположил Тимоша, – Или повыше брать?
– Бери выше.
– Полковник, что ли? Или генерал?..
– Были в том отряде и майоры, был и подполковник инженерной службы, много офицеров собралось. А только командовал тем отрядом товарищ Т., бывший киномеханик. А то еще другой отряд, в Белоруссии мы с ним встретились, так там бывший кассир сельпо в командирах хлопотал.
– Чудеса в решете! – удивился Тимоша.
– Оказался бы ты, Пестряков, в партизанах, – сказал Черемных, – тоже командовал бы отрядом.
– Откуда брались такие случаи? – Пестряков пропустил комплимент мимо ушей. – Кассир сельпо, а у него под началом кадровые офицеры. В чем тут закавыка? – Пестряков исподлобья посмотрел на Тимошу – так глядят на собеседника, когда сидят за столом и пьют чай из блюдца, – покосился на Черемных, но тот лежал закрыв глаза. Пестряков продолжал: – Все дело в том, что у них там, у партизан, не в моде были всякие анкеты, гори они огнем вместе с другими бумажками. Кто лучше воевал – тот и командовал. Без волокиты. В бою людей проверяли – вот в чем самая суть. А думаете, у нас в дивизии в начале войны не было таких капитанов, которые по своим талантам полковников обогнали? Поменять бы их местами – и вся недолга!
– А война, если к ней приглядеться, так и решила. Конечно, бывают ошибки, – вздохнул Черемных. Он имел в виду фронтовую судьбу самого Пестрякова, но тот или не понял этого, или из самолюбия притворился недогадливым. – Но разве это наша военная слабость? Если сельский кассир или киномеханик отрядом командовал? Сила наша здесь скрывается. Вот какими талантами и героями мы богаты! Растут в партизанском лесу, как грибы. Когда идет священная война!..
– Война свой экзамен назначила – это верно…
Пестряков видел, как трудно Черемных спорить с ним. Он то приподымался, опираясь на локти, то снова лежал неподвижно, закрыв глаза, с лицом, на котором окаменело страдание.
Уже само состояние Черемных давало Пестрякову в спорах преимущество, которым он тяготился.
Разговор принципиальный, и Пестряков не собирается делать какие-то поблажки-скидки на самочувствие собеседника. Трудно спорить? Не берись!
Но в то же время Пестряков не хотел, чтобы тяжелое состояние Черемных лишало того возможности высказать все возражения, привести все доказательства, отстаивать свое мнение так, как если бы он был совершенно здоров.
У Черемных не только книжечка, но и душа партийная. Он не откажется признать правоту Пестрякова, если только сам убедится в ней.
И именно поэтому Пестряков раздражался, глаза зло сужались, и появлялось жесткое выражение, когда Черемных стонал, вздыхал, но продолжал стоять на своем и оспаривал слова Пестрякова, считая их несправедливыми.
Стоило Черемных с твердостью отстоять свой взгляд, как Пестряков неминуемо начинал колебаться, а затем, сам того не подозревая, принимал точку зрения Черемных.
Из упрямства Пестряков никогда не признавался в своей неправоте, как это делал при подобных же обстоятельствах Черемных. Ну никак язык не поворачивался признаться, что переубедили его, Пестрякова Петра Аполлинариевича.
Он хмуро отмалчивался, заставляя Черемных, как тому ни было мучительно, заново, до полного изнеможения, что-то доказывать ему, в чем-то убеждать.
И Пестряков уже переставал дуться на Черемных, а начинал злиться на себя самого, не очень-то отчетливо представляя себе, чем же он, собственно говоря, рассержен: своим неразумным упорством или своей разумной непоследовательностью?..
– А если ты столько недостатков помнишь, почему так прилежно воюешь? Почему?
Тимоша задал вопрос язвительным тоном, которого но хотел скрывать, а, наоборот, выставлял напоказ. В поисках поддержки он оглянулся на Черемных.
– Ты что же, ветрогон, думаешь? – рассердился Пестряков. – Если я плохое вспоминаю, значит, хорошего не помню? Может, жизнь всех нас сейчас на последнюю поверку вызвала. На исповеди, Тимошка, грехи вспоминать полагается…
Пестряков, крайне возбужденный, каким Черемных его еще не видел, привстал с тюфяка, повертел длинной худой шеей так, словно его душил воротник шинели, и очень значительно, как бы подчеркивая каждое слово, произнес:
– Я потому и бьюсь до последнего, иду на кровопролитие, что дорожу своей властью. Как же советский человек может свою власть от Гитлера до последней капли крови не оборонять? Ведь поддаться фашисту – значит все, что мы построили, все слезы и народные мозоли, все, что вытерпели и что вперед на долгие годы загадали, все забыть, от всего отступиться. Тогда, выходит, и Ленин зря недосыпал, понапрасну мечтал, боролся и после покушения от ран мучился. И Чапаев тогда ни за что утонул.
– В нашей реке Урал утонул, – вздохнул Черемных.
– Я воюю и мечтаю дожить до победы, – продолжал Пестряков с ожесточенным вдохновением, – чтобы Настенька моя, если жива, Михал Михалыча сынок и другие дети – только ты, Тимошка, бобыль бездетный в нашем гарнизоне, – чтобы вся молодежь наша до своего счастья дожила. А то счастье Ленин давно, раньше всех, своим острым зрением увидел. Человек только тогда счастливым просыпается и спать ложится, когда рядом с ним другие люди не мыкаются, никто не обижен понапрасну… Я вот одиннадцать благодарностей ношу за войну. Дивизию нашу окрестили Смоленской, и еще два других имени она приняла, длинное теперь у нее прозвище. В одиннадцать приказов Верховного Главнокомандующего угодили. Одиннадцать благодарностей! Но я надеюсь на такую жизнь после войны, что сам сердечную благодарность нашему правительству вынесу… Я вот – рядовой и приказывать никому не имею права. Ну а благодарить кого или не благодарить, любить или не любить – этого за меня решить никто не может. В таком вопросе я – самый главный. Я бы за прошлую и за будущую жизнь еще лучше воевал. Если бы только был обучен. А то – кто я есть? Гвардии рядовой!
– Были бы все такие рядовые! – подал голос Черемных. – Давно бы Гитлеру устроили капут. Будь моя воля, я бы тебе, Пестряков, сразу присвоил звание лейтенанта…
В подвале прозвучало слово «лейтенант», и все, как сговорившись, оборвали разговор и завздыхали.
Сердце Пестрякова зачастило. Ах, сынок, сынок!
– Может, лейтенант обиделся, что я командование над подвалом принял?
– Зачем ему мельчить? – промолвил Черемных. – Он и сам понимал, наверно.
– Ах, сынок, несчастливый какой! – Пестряков удрученно махнул рукой, сильно вылезшей из рукава шинели. – В берлоге гитлеровской пострадал. Как-то он интересно объяснял слово «берлога».
– Что-то про медведя, про нору, – напомнил Черемных.
– Сюда, в Восточную Пруссию, ни один уважающий себя медведь не забредет. Ты их леса видел? Все под метелочку. Хворост в кучи собран. Каждой шишке счет ведут.
– То ли дело у нас на Урале! – оживился Черемных. – Тайга золотая!
– На Смоленщине тоже леса подходящие. И прокормят тебя. Особенно вокруг Рудни. На Духовщине. Чащоба! Или окрест Дорогобужа. Там партизанская столица была.
– Мы теперь тоже наподобие партизан, – сказал Черемных.
– Партизаны, между прочим, тоже не все свое звание оправдывали. – Пестряков нахмурился. – Иные на лесных дачах от фашистов прятались. Вроде дачников. Ну а нам некогда прятаться. Те разведданные, которые лейтенант нес, устарели. Значит, айда в новую разведку!
Тимоша вскочил на ноги и уже потянулся к оружию, но Пестряков остановил его:
– Ты, Тимошка, отдохни. А я свой НП отсюда на чердак переношу. Если смотреть – так уж в оба глаза!
Пестряков надел каску, повесил на грудь автомат, ощупал левое плечо и решительно шагнул к подоконнику.
41 – Открой форточку, Тимоша.
– Опять зубами стучать приметесь, Михал Михалыч. Зябко на дворе. Снегом пахнет.
– Все-таки открой, – попросил Черемных. – Хочу послушать.
– Замерзнете, – предупредил Тимоша. Он выдернул из проема подушку.
Серый свет просочился в подвал, но его не хватало, чтобы осветить дальний угол и кушетку, на которой лежал Черемных.
– Пулеметы спорят, – прислушался Тимоша. – Наши, слышите?
– Откуда ты, Тимоша, знаешь, чьи это пулеметы?
– Что ж, я их по голосам не различаю? Ну как же! Это вот фашист. Басовитый такой. А это наш, голосистый. Он почаще бьет.
– Пестрякова не слыхать?
– Во дворе тихо. Наверно, на чердак забрался. Опосля, точнее сказать после, и я подамся туда. Дать воды?
– Только напился.
– Горшок не требуется?
– Покамест нет.
– А вы не стесняйтесь. Если подошла нужда. Прикрыть перинкой?
– Ноги прикрой. Что-то они стали слышать холод.
– Хуже, если бы не слышали. Значит, идут на поправку. Порядок…
Тимоша укрыл ноги Черемных, отошел к оконцу, взял свой автомат, выглянул во двор – пора вылезать.
Но в последний момент он передумал, опустил ногу, уже занесенную на подоконник, и заговорил глухим, сдавленным голосом:
– Повиниться хочу перед вами, Михал Михалыч… – Он приблизился к Черемных; сейчас Тимоше очень важно было видеть его лицо. – Ведь вот какая история… Иначе сказать – целое приключение. В общем, дело такое… Нарушил я устав семейной жизни… – Тимоша с трудом принудил себя к смешку: – У меня ведь тоже сынок. Где-то дышит, играет, растет.
– Как понять – где-то?
– В точности не знаю. Жила она в Ростове. На Темернике. Потом уехала куда-то вверх по Дону. На Пухляковский хутор, что ли.
– Что-то не пойму. При чем тут «она», ежели сынок?
– Ну она с сыном. Гулял с ней, с Фросей этой. Нормально. Больше чем полгода. Не отрицаю. Но жениться не собирался. И вдруг – пожалуйста. Письмо из родильного дома. Я не пошел. Почему меня не спросилась? Ну народный суд, алименты.
– Платишь?
– Что с меня теперь возьмешь? У меня деньги не водятся. Забыл, как они выглядят.
– Ну а раньше? Когда в офицерах состоял?
– Сказать всю правду? – Тимоша еще больше приблизился к Черемных и перешел на шепот, словно кто-то мог его сейчас подслушать: – Открутился я от тех алиментов. Еще в конце сорок третьего года.
– Как же ты?
– Случился такой случай. После одной разведки. Объявили нас без вести пропавшими. А погодя явились мы с того света. Все оповестили своих домашних, воскресли. А я так и не выписался из пропавших.
Писарь полковой забыл отправить извещение. За флягу водки. Меня там, в тылу, похоронили давно… Но вот странность какая! Гулял я с барышнями разными. И до Фроси. И после вращался с женщинами напропалую. А все-таки никого не вспоминаю на войне. Одну ее. Хорошая девушка! Такая моральная. Работала на табачной фабрике. Бывшая фабрика Асмолова. Пальцы у Фроси такие тонкие! После работы пахнут табаком. Волосы светлые, капризные. Никак не спрячет под косынку. Я от Фроси не слышал ни одного черного слова. Глаза темные, большие. Смотрит внимательно. Я больше ее глаза помню в слезах. И ведь от меня произошли все эти слезы. Откровенно признаюсь – от меня… Лежишь ночью в госпитале. Куришь под одеялом. Я ведь курил самым заядлым способом. Врачи только удивлялись утром. Почему накурено? Окромя, то есть кроме, меня, никто в палате не додумался до курения. Не умели спички и табачок прятать… Ночи в госпитале длинные-предлинные. И заскучал по Фросе да по сыну, которого не видел. Ну просто ничем не успокою сердце! Они теперь для меня – целое переживание. Давно хотел написать ей. Попросить за все прощение. А никак не найду столько смелости… Писем получал видимо-невидимо. А более одинокой личности на Третьем Белорусском фронте нет. Последний раз, когда занял круговую оборону на госпитальной койке, у меня были персональные наушники. Так я от скуки собирал адреса разных девиц. Выступали по радио. Или книжка попадется. Отзыв просят о ней прислать. Так я всем отзывы писал. Автору. Редактору. Корректору. Художнику. Вежливо. А еще квиточек такой бывает положен в книгу: «Проверщица номер пять. В случае обнаружения брака просим вернуть ярлык вместе с книгой». И так далее. Вот я и проверщице этой самой номер пять тоже пишу письмо. И все отвечают мне, раненому герою. «Добрый день, а то и вечер, может, утренний рассвет, как получишь, то узнаешь, от кого пришел ответ!» Иные даже шлют фотографии. Культурно. А того не знают, что с их карточек на меня смотрят Фросины глаза. И не то чтобы строго, а с какой-то даже нежностью, что ли… Или это она уже покойному, мне то есть, простила мой поступок! Вы слышите?
Тимоша сморщил лоб, вгляделся в затененное лицо Черемных.
– Слышу.
– Сердце свое кладу в ваши руки. Я все хочу сказать. – Тимоша говорил страстным шепотом, с придыханием, но Черемных понимал, что ему сейчас не шептать хочется, а кричать криком.
– Слышу, Тимоша.
– Как же я мимо своего счастья прошел, проходимец? Нарочно пропал без вести. Отрекся от сына. Надо было меня еще тогда спровадить в штрафной батальон. А я ловчить принялся опять…
Черемных понимал состояние Тимоши – он рассказывает о себе со всей искренностью, на которую бывает способен человек, когда им владеет страстная потребность взглянуть на себя, может быть, в последний раз.
В такую минуту человека нельзя ни укорять, ни оправдывать, можно лишь молча слушать его, и хорошо, если для него находятся слова искреннего утешения.
Черемных произнес глухо:
– Может, еще и сына растить будешь.
– Это я-то? В штрафном виде? Ну убьют – дело житейское, одна кожура от меня останется… А ранят? Вы себя со мной не равняйте… Если только отсюда выкарабкаемся – вас вылечат. Это я обещаю авторитетно. Ноги на поправку идут и при вас останутся. Даже если, на худой конец, прибудете домой не своим ходом – все равно вас и такого ждут не дождутся. А куда я после ранения денусь? Какая меня ждет оценка? Бесполезное ископаемое! Чтобы Фрося подумала: жив-здоров был – отрекся, а инвалидом стал – вернулся поневоле.
Даже при свете плошки заметно было, что Тимоша залился краской.
Это волнение объяснялось не только тем, что Тимоша впервые решился на такую откровенность.
Волнение было вызвано прежде всего тем, что Тимоша, рассказывая о своей жизни раненому товарищу, только сейчас вот сам впервые свою жизнь осмыслил, взвесил.
– Да, оттепель твоя поздняя, – сказал Черемных после длинной паузы, когда Тимоша уже перестал надеяться, что тот вообще как-нибудь откликнется. – Чуть ли не зимой сердце оттаивать стало.
– Простите меня, Михал Михалыч, за откровенность. Окромя, – Тимоша, насилуя себя, хохотнул, – вернее сказать, кроме вас, и рассказать некому…
Тимоша не мог уразуметь: что именно с ним случилось? Все началось после того, как фронтовая судьба свела его с Черемных, Пестряковым и этим несчастливым лейтенантом. То, что раньше в жизни казалось Тимоше важным и значительным, потеряло для него былой интерес. А заботить его стало и оказалось крайне важным то, на что раньше он смотрел сквозь пальцы, да еще поплевывая при этом…
– За доверие спасибо. Но… – Черемных передалось волнение Тимоши: – Строгости из-за того уменьшать нельзя!
– Без строгости со мной нельзя, – заморгал Тимоша с выражением покорности. – Ведь вот дело какое… Человек-то я плохой!..
– Я сделал такое наблюдение. – Черемных надолго задумался. – Война делит всех людей на плохих и хороших. Был человек хороший – на войне лучше станет. Плохой человек – обязательно сделается хуже. Конечно, ржавчины, окалины к тебе, Тимоша, пристало много.
– Сам себя забыть стараюсь…
– Верю, Тимоша. И потому, что верю, – Черемных приподнялся с кушетки и произнес очень значительно, тоном, каким отдают приказание, – со всей строгостью выговариваю тебе за прошлую жизнь!..
Тимоша неожиданно обрадовался строгому тону товарища, чье душевное превосходство ощущал. Тимоша больше всего боялся сейчас и был бы несказанно огорчен, если бы Черемных отнесся к его исповеди без всей должной серьезности. Снисходительное отношение только показало бы, что Черемных ему не доверяет. Не много времени отпущено Тимоше в этой жизни, чтобы выправить все свои вывихи, и только самое строгое дружелюбие может помочь в таком положении. Поблажки ему не нужны. Он не дите, чтобы горькое лекарство разводили на сладкой воде. Тимоша и операцию перенес без всякого наркоза, когда в медсанбате не хватило медикаментов, и не закричал, не застонал, только зубами скрипел, чуть не раскрошились. Какое же может быть обезболивание души?..
– Ну я пойду, Михал Михалыч… – Голос Тимоши дрогнул. Он нерешительно закинул автомат за плечо.
– Пестряков ничего не знает?
– Ничего. – Тимоша помедлил с уходом.
– Нужно было ему тоже рассказать. И дать Фросин адрес. На всякий случай. – Черемных говорил медленно, как бы все время прислушиваясь к своим словам: – Сам понимаешь. Из меня душеприказчик плохой. Исповедоваться передо мной – все равно что самому себе вслух повиниться. Ты Пестрякову скажи. Все-таки он ближе к жизни. А тебе, чтобы сердце облегчить, нужно все рассказать живому человеку.
– И ему расскажу! Но я не потому вас выбрал, что… – Тимоше и в голову не приходило, что Черемных может так объяснить обращение к нему, и эта внезапная мысль повергла Тимошу в смятение. – Вы своим Сергейкой разбередили душу. Слышите, Михал Михалыч?
– Слышу.
– А верите?
– Верю, Тимоша. Говорю, как солдат солдату.
– Вам ничего не нужно?
– Ничего.
– Ну тогда бывайте.
Тимоша погасил плошку, ловко, как это делал всегда, вылез наверх и бесшумно ушел.
Михал Михалыч, сколько ни вслушивался, не услышал ни шагов его, ни скрипа калитки.
Сейчас, после слов Тимоши, впервые Черемных представил себе, как он на костылях приковылял домой, а Стеша прячет глаза, полные слез, чтобы он не подумал, что это слезы печали, ведь это слезы радости.
Вспомнилась история, которую рассказал кто-то из танкистов соседнего экипажа. Вернулся домой танкист, который горел в машине, с обезображенным лицом – все в шрамах, в рубцах. Жена от него, от урода, ушла, а молоденькая девушка, санитарка госпиталя, которая его выходила, полюбила. Вышла замуж и родила ему девочку, да такую красавицу! Она и сама, та санитарка, прехорошенькая, а танкист-погорелец в свое время писаным красавцем был, хоть девушка его таким не застала и даже представить себе не могла, как он выглядел. А танкист тот, рассказывали, все не мог на свою дочку наглядеться и все удивлялся, как у него, безобразного страшилища, и вдруг родилась такая красоточка – синеглазый ангелочек с шелковыми кудрями. Будто шрамы, рубцы, все увечья от ожогов и в самом деле могли перейти по наследству!..
Какое это счастье – твердо быть уверенным в жене, знать, что, каким бы он ни вернулся, Стеша примет его с нежной преданностью, и этой преданности хватит на самую долгую и трудную жизнь.
Вначале физические страдания подорвали у Черемных, приговоренного к лежанию на кушетке, всякую веру в спасение.
В последующие дни он примирился с тем, что если выживет, то останется безногим калекой.
А сегодня у Черемных впервые затеплилась надежда на счастливый исход – признаков гангрены, которой можно ждать, не было. И жар как будто спал. И боль унялась. Может, в самом деле помогли медикаменты, перевязки Пестрякова и шнапс, которым он промывал раны?
И какое все-таки счастье, что боль, неотступная и ненасытная боль, так и не стала последней, что он не утратил способности терпеть. У него теперь достанет сил все, все, все перенести, только бы не разминуться с жизнью!
Черемных пожаловался, что у него снова начали мерзнуть ноги, а Тимоша шумно тому обрадовался:
– Ноги мерзнут? Очень хорошо! Замечательно!!! Значит, жизнь чувствуют.
Черемных боялся довериться радостному предчувствию, но чем отчетливее восстанавливалось ощущение бытия, его принадлежность к жизни, которая вновь обретала будущее, тем он все больше стыдился своего давешнего поведения.
«Не доживу! Не дотяну! Не увижу!!!» – передразнивал себя Черемных, стыдясь своего поведения и бесконечно счастливый тем, что ему приходится стесняться былого малодушия, что у него появились для этого серьезные основания.
42 Грохот ящика, отодвинутого от оконца, прервал полузабытье, в котором находился Черемных.
Он схватился за парабеллум, но тут же увидел хорошо знакомые, со сбитыми набойками и прохудившимися подметками сапоги Пестрякова. С подоконника свесились короткие голенища сапог, а вслед за ними показалась перекошенная спина их долговязого владельца в шинели с задранными полами.
Что-то случилось, если Пестряков забыл об установленном им же самим сигнале – три удара прикладом о ящик.
Вслед за Пестряковым в подвал со всегдашней ловкостью, но на этот раз очень шумно спрыгнул Тимоша.
И оба на сей раз не осторожничали, никто не торопился закрыть оконце.
– Михал Михалыч, наши! – сообщил Пестряков радостно, – Танки за мостом гуляют.
Он, как все, разучился за эти дни громко разговаривать, а сейчас наслаждался возможностью говорить не таясь. Ах, друзья– товарищи и не подозревают, наверное, как трудно было все время умерять свой голос человеку, который сам плохо слышит; ведь недаром глухие – первые крикуны…
Ну а Тимоша? Он кружился по подвалу, топоча сапогами, пританцовывал, орал что-то несусветное и ругался последними словами. Тимоша уже совсем иначе, чем прежде, осматривался в подвале, он мысленно прощался с ним навсегда.
– Не ошибаешься, Пестряков? – Черемных боялся довериться столь счастливой новости, он тоже отказался от шепота.
– Что же я, свои танки не признал? – громогласно обиделся Пестряков.
– Фрицы ведут отсечный огонь из минометов. – Тимоша спешил показать свою осведомленность. – Наши жмут!
– Ну, Михал Михалыч, держись! – Пестряков все еще не мог отдышаться.
– Неужели близко?
Черемных порывисто приподнялся на локтях. В эту минуту он совсем не чувствовал боли.
– От нас тоже зависит. – Пестряков озабоченно потеребил ус. – Сидеть сложа руки? Этого Гитлер – ревматизм его возьми! – от меня не дождется! Ну-ка, Тимошка, айда на НП!
И Пестряков первый, как всегда неуклюже, вылез из подвала. Тимоша расторопно последовал за ним.
Оба прошмыгнули мимо сарая, пробрались во двор соседнего углового дома.
Они стояли, принюхиваясь к ветру, – дует в сторону перекрестка.
«Ветерок подходящий, – отметил про себя Пестряков. – Не ветерок, а ветряга! Такую погоду механики-водители уважают. И Черемных, сиди он сейчас в танке, обрадовался бы. Дым глаза не застит».
Тимоша поджег поленницу дров, сухие щепки и в этом дворе лежали под навесом в изобилии: сосед-домовладелец тоже припас топлива на всю зиму. Тимоша набросал на поленницу какое-то тряпье, выброшенное им когда-то грязное белье, конскую сбрую, густо смазанную салом, дегтем. Пусть дымит как умеет!
Тимоша убедился, что дым сносит ветром на угловой дом, и сказал, отступая от костра, уже набравшего жаркую силу:
– Теперь дыму не оберешься!.. Воевать сподручнее… Культурно. Никто к нам не сунется.
– А сгорит дом – тоже не заплачу, – отозвался Пестряков зло. – Ихние дома застрахованы. Гитлер – пусть он живьем сгорит! – за все заплатит. Заместо страхового общества.
Они заняли в угловом доме удобную позицию. Оба стали на колени у соседних окон. Стекла уцелели, и выбивать их прежде времени не стали, маскировки ради. Автоматы положили на подоконники не дисками, а кожухами – тоже для незаметности.
Тимоша сладко зевнул и, судя по всему, не прочь был соснуть тут же, на полу под окном, но Пестряков его растормошил. Нужно вести наблюдение на два фронта – из окон, глядящих на восток и на юг.
Тимоша торопливо кивнул в знак согласия и, чтобы разогнать сон, принялся напевать один из бесконечных вариантов любимого «Синего платочка»:
Маленький синий платочек
Немец в деревне украл…
Тимоша взглянул еще раз в окно и сердито оборвал песню. Он принялся ругать хозяйку этого дома, поленилась, такая-сякая, напоследок вымыть и протереть окна. А сейчас вот по ее вине Тимоше приходится до боли в глазах вглядываться в запыленное стекло. И ведь не протрешь его, это проклятое стекло! Пыль-то, грязь и копоть с улицы пристали!
– Будем на этом перекрестке уличное движение регулировать, – усмехнулся Пестряков и прищурился. – Наподобие милиционеров в большом городе. У нас в Смоленске тоже перед войной завели такую моду. Стоит, машет палочкой во все стороны…
Тимоша горячо заговорил о чем-то, но Пестряков его не расслышал.
– Со мной тихо говорить – все равно что глухому звонить, – напомнил Пестряков.
Тимоша проворно сменил позицию у окна. Теперь он расположился, как бывало в разведке, слева от Пестрякова.
Пестряков слегка сдвинул набекрень каску. Он полагал, что у Тимоши есть к нему важный разговор.
– Я вот интересуюсь, – Тимоша озабоченно морщил безбровый лоб, – кто на этой войне сделает самый последний выстрел?
– Ну и пустельга! А я-то ухо навострил. Вечно ты, Тимошка, от нечего болтать небылицы сочиняешь… Последний выстрел? Кто его знает! Может, даже мне оказия выпадет – напоследок по Гитлеру пальнуть.
– Возьми такой эпизод. Пушку зарядили. Снаряд уже дослали. А тут замирение подоспело. И команда: «Прекратить огонь!» Как быть?
– Согласно наставлению, орудие следует разрядить выстрелом. Ствол опустить. Открыть затвор и смыть нагар мыльным раствором.
– Нормально. Но вот как разрядить пушку? Стрелять-то уже некуда будет! – Тимоша весело ругнулся и заерзал, сидя на полу; каской он едва доставал до подоконника. – По своей территории – нельзя. По Германии – тоже нельзя. Фриц уже руки поднял. Гитлеру капут. Хорошо, если та батарея рядом с морем окажется! Довернут тогда пушку и вежливо выстрелят в море. А на сухопутье? Хлопот не оберешься. С этим самым последним снарядом…
Вот ведь, ветрогон, о чем заботится! Словно уже победу празднует!
Пестрякову и самому бесконечно приятно было думать сейчас о последнем выстреле, о победе, о будущей жизни.
Сколько мин нужно еще на свет вытащить, которые притаились в мирной земле, а заряд свой держат. Сколько могил обозначить и украсить! Сколько окопов, траншей и воронок засыпать! Сколько черных штор с окон сорвать! Сколько злых сорняков выполоть! Сколько синих лампочек вывинтить! Сколько изб поставить-срубить и печей в них сложить! Сколько соскоблить со стекла бумажных полосок!