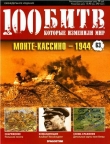Текст книги "Капля крови"
Автор книги: Евгений Воробьев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
– В этом я с тобой согласен, – вздохнул Черемных.
– Конечно, на заставах герои насмерть стояли. Но кое-где от внезапности и в панику ударились… Мы Гитлеру – чума его возьми – сдали Смоленск в конце июля того же сорок первого года. Сколько мы еще потом окопов нарыли на левом берегу Днепра, за Дорогобужем! И только месяц спустя объявили в газетах и по радио, что Гитлер занял Смоленск. А кого перехитрили-то? Гитлера? Он и так знал, что Смоленск под его властью. Я даже фотографию видел в листовке ихней: Гитлер и Муссолини шпацируют по Смоленску… Хоть бы жителям сообщали вовремя, каких мест неприятель в то лето достиг!.. Как знать, может, и Настенька моя с деревенской молодежью в эвакуацию подалась бы…
– А все-таки пользы от той скрытности накопилось больше, чем вреда, – возразил Черемных. – Ты вот тыла нашего совсем, наверное, не видел.
– Из вагона видел. Да из окна госпиталя…
– Ты сердцем не болеешь о тыле. Разве близкого человека не стараются подготовить к печальной новости?
А то – обухом по голове! Три недели войны – и Смоленск отдали. Сразу передать такое сообщение? Могли бы чьи-нибудь руки опуститься. А этими руками работать, воевать надо было…
Черемных говорил через силу, осекаясь и делая паузы. Спор обессиливал его, но одновременно придавал ему новые силы.
– Воды! – потребовал Черемных и закрыл глаза.
Тимоша расторопно вскочил, как это делал всегда. Но Пестряков отстранил его, сам отвинтил крышку фляги, сам напоил Черемных.
– Ты вот железнодорожника из Бреста вспомнил. А слышал про ту крепость? – Черемных от возбуждения приподнялся на локтях, воспаленные глаза его горели. – Как там воевали? Может, их всего горстка была. А воевали так, что дивизии с ними сладить не могли. Может, их кормила надежда, что наши близко. Придут на выручку. Так вот, полезно было то сообщение насчет Смоленска вложить в уши защитников крепости? Или тем, кто еще только в партизанский отряд собирался? Или тем, чей путь лежал в эвакуацию, подальше от оккупантов…
– Вот если Настенька вернется… из оккупации… – сказал Пестряков после долгого молчания. – Может, и на ней черное пятно поставят в какой-нибудь канцелярии?
– Ваша дочь, по-видимому, даже паспорта еще не получила, – поспешил лейтенант с утешением, – когда ее немецкая биржа схватила.
– А в неволе взрослые годы ее догнали.
– Тамошние годы не в упрек, – сказал Черемных.
– Кто мне в том поруку даст? – Пестряков обвел товарищей строгим взглядом.
– Поручитель-то из меня квелый, – заморгал Тимоша, – В штрафном звании. Не имею полного права ручаться. Не позволяет моя личная жизнь…
– За дураков никогда ручаться нельзя, – вздохнул Черемных. – Особенно если те дураки – злые…
В подвале наступила сосредоточенная тишина, слышно было только прерывистое дыхание Черемных: вот так тяжело дышит Пестряков после того, как залезает в подвал.
Черемных, обессиленный разговором, уронил голову на подушку и закрыл глаза. Тень заштриховала его веки и легла на щеки, заросшие черной щетиной.
21 Пестряков понимал, какую ценность представляют разведданные, собранные минувшей ночью.
Все, все было бы очень важно знать там, где готовятся к контрнаступлению на городок. И насчет противотанковых пушек в засаде. И адрес штаба. И месторасположение зенитной батареи. И про наблюдательный пункт на кирке. И про новую дивизию со знаком «скрещенные топоры». И насчет горбатого моста, начиненного минами.
Пестряков перестал бы считать себя настоящим солдатом, если бы не попытался сообщить эти сведения командованию, переправить их через линию фронта.
– Конечно, вечер для этого – время неподходящее. В такое путешествие нужно после полуночи отправляться. Подождем. Перед светом патрулей-часовых ко сну клонит и чуткости у них убавляется…
Тем временем Тимоша, захлебываясь от восторга, самозабвенно рассказывал Черемных и лейтенанту о том, как он в сквере удачно засек орудия какого-то невиданного доселе калибра; не случайно их фашисты так тщательно замаскировали! Как знать, может быть, это и есть секретное оружие фау-три, о котором фрицы прожужжали все уши?
Затем последовал рассказ Тимоши о том, как он едва не ввалился к фашистам в штаб, а скорей всего то был штаб армии или всей восточнопрусской группировки немцев – уж больно толстые пучки проводов туда тянутся.
Пестряков слушал эти разглагольствования без всякого раздражения, с доброй снисходительностью.
«Вот ведь все-таки удивительный парень! Пустомеля – да деловой, хвастун – да бесстрашный, трепач – да надежный в деле!»
Пестряков с готовностью отправился бы через линию фронта, взяв себе в напарники Тимошу.
Однако оставить Черемных на попечение лейтенанта рискованно. Хлопотать в подвале за разведчика, часового, санитара и кормильца-поильца труднее трудного, и Пестряков понял, что его место здесь, в подвале, где лежит Черемных и где спрятано знамя.
А в случае чего, если наши отойдут еще дальше и вернутся домовладельцы или если наши опоздают прийти на выручку, он разделит участь Черемных. И это будет справедливо хотя бы потому, что лейтенанту и Тимоше, вместе взятым, столько же лет, сколько ему одному, и каждый из них годится ему в сыновья.
Пестряков долго сидел у плошки, сосредоточенно изучая расстеленную на столе карту, и наконец сказал:
– Я так полагаю, товарищ лейтенант, что время скликать добровольцев. Через линию фронта. К нашим добраться.
Лейтенант, а следом за ним Тимоша поспешно выразили готовность идти.
– Вдвоем и двинетесь, – решил Пестряков, – А мы тут с Черемных оборону держать будем. Как ночь соберется, так и тронетесь. Сегодня луна еще не подоспеет. Сплошной линии фронта не наблюдается. Попробуйте просочиться южнее вот этого леска. Между населенными пунктами.
И Пестряков ткнул длинным обкуренным пальцем в карту:
– Командует лейтенант Голованов Олег. – Значительность момента была подчеркнута и тем, что Пестряков впервые назвал лейтенанта по фамилии и по имени. – Кныш у вас под началом.
– Есть, быть под началом! – весело отозвался Тимоша.
То, что лейтенанту предстояло быть старшим, наполнило его тревожной ответственностью.
Он начертил план восточной окраины городка, пометил, где стоит зенитная батарея, где прячутся в засаде пушки. Не был забыт перекресток Гитлерштрассе, Людендорфгассе и горбатый мост через канал.
Пестряков хотел было сказать лейтенанту, чтобы копию этого плана он срисовал и дал Тимоше, но потом передумал. Пожалуй, в штабе не примут на веру Тимошкины сведения, если тот доберется один. Начнут проверять незнакомца, а из штрафного батальона сообщат, что Кныш давно отбился от своих и шлялся где-то в тылу у Гитлера. Пока проверят-удостоверят штрафную личность, и разведданные устареют.
С другой стороны, если случится беда с Тимошей – лейтенанту одному трудно будет пройти линию фронта.
Вот почему Пестряков, хотя и по совершенно различным соображениям, строго-настрого предупредил обоих:
– В случае беды с товарищем – в одиночку не идти. Возвращаться в подвал.
Тимоша понял, что его задача – только сопровождать и прикрывать лейтенанта. Тимоша знал, что сам-то Пестряков доверяет ему, и, выслушав напутствие, не обиделся, а только огорченно заморгал.
– Наш адрес? – спросил Пестряков.
– Церковная, двадцать один, – поспешно отрапортовал Тимоша.
– Кирхенштрассе, – поправил его лейтенант.
– В случае чего – знамя в мороженице… А теперь проверим оружие. Горячее и холодное.
– Вот мое холодное оружие. – Тимоша вытащил из-за голенища ложку, вытер ее грязной полой шинели и засунул обратно. – Давно без работы…
Пестряков достал пузырек с оружейным маслом.
Он вспомнил, как когда-то, в октябре сорок первого года, брел по лесам от Днепра к Вязьме, выбирался из окружения. Было их одиннадцать рабов божьих, и на всю братию – вот этот самый пузырек. По пять капель на брата отсчитывали, следили, чтобы никому лишняя капля не перепала, потому что в оружии тогда, совсем как теперь вот, вся жизнь хранилась.
Принялись смазывать и чистить оружие. Дело у Тимоши и лейтенанта шло не споро, им не хватало тщедушного света плошки.
– А вот скажи, Тимошка, поскольку ты личность пехотная, где у винтовки номер выбит?
– Кто ее знает! Я больше хлопотал с автоматом…
Брови Пестрякова затопорщились, и он сказал строго:
– Номер у нашей русской винтовки выбит, если хочешь знать, на стволе, на крышке магазинной коробки, на затворе, на затыльнике и на штыке…
Пестряков скользнул взглядом по пустым ножнам, которые болтались на поясе у Тимоши:
– А где твой штык-кинжал?
– Фриц попался чересчур худой. Вежливо так поговорил с ним. Вот кинжал и застрял у него между ребер.
– Между ребер? – переспросил Пестряков подозрительно. – Наверно, потерял свой кинжал, раззява. Или консервы, второй фронт, открывал – да и сломал…
Если бы Тимоша не узнал Пестрякова поближе, он не преминул бы поругаться. А сейчас смолчал, понял, с каким горьким беспокойством снаряжает их в путь-дорогу усатый десантник…
Пестряков первый собрал, зарядил автомат. С незнаемой прежде бережностью рассматривал он каждый патрон: вот царапинка на ободке, вот щербинка на пуле. Он обтер автомат тряпкой, подобранной в углу подвала, и наставительно сказал:
– Наш деревенский пасечник Касьян, старый служака, рассказывал. Был у них унтер в царской армии. Так он заставлял разбирать-собирать затвор в темноте. За небрежность ружье отбирал. И заставлял новобранца исполнять на учении все ружейные приемы, но только с пустыми руками. Срам для солдата какой!.. – Пестряков мрачно помолчал, ожидая, пока товарищи закончат возню с оружием. – Нам ружейные приемы делать некогда. Но как бы пустым оружием размахивать не пришлось. Боевого питания никакого. Объявляю дележ боеприпасов по всей справедливости.
Мобилизовали и патроны из пистолета Черемных.
– Девятый патрон в расчет не берите, – попросил Черемных. – В случае чего… Самому себе точку поставить…
– Милый человек! – воскликнул Пестряков, обрывая выразительную и тягостную паузу, наступившую после слов Черемных, – Да кто же на последний патрон покушается? Твой НЗ! Неприкосновенный запас!
Начали пересчитывать боеприпасы.
У Тимоши оставались две гранаты, а в автомате девять патронов. У лейтенанта – девять патронов в пистолете да восемь в запасной обойме.
У Пестрякова в автомате сохранилось шестнадцать патронов. Четыре своих патрона он передал Тимоше и распорядился, чтобы тот отдал одну из двух гранат лейтенанту. Хорошо, что патроны от пистолета ТТ подходят к автомату! Пестряков собрался было поделить с Тимошей еще и патроны, заем Черемных, но поразмыслил и отдал их; пусть Тимоша заряжает в свой диск!
Группа, уходившая через фронт, стала богаче подвального гарнизона на две гранаты и двадцать пять патронов, поскольку у лейтенанта и пистолет был заряжен полностью, и запасная обойма при нем сохранилась, а у Черемных оставался только его НЗ.
Пестряков озабоченно потеребил ус, отстегнул от пояса кинжал и передал его Тимоше:
– Возьми, Тимошка, ножик… Какому-нибудь часовому – заместо разводящего.
– Сергейка был маленький… – неожиданно подал голос Черемных. – Вместо «ножик» говорил «режик». Режу хлеб режиком…
Все помолчали.
Тимоша повесил кинжал на пояс так торопливо, словно боялся, что Пестряков передумает и потребует свой кинжал обратно.
Лейтенант и Тимоша записали домашние адреса друг друга, а также адреса Пестрякова, Черемных и в свою очередь оставили свои адреса Пестрякову.
Но тяжелораненому никто своих адресов не оставил.
Черемных понял: товарищи, не отдавая себе в том отчета, мысленно уже вычеркнули его из строевой записки, которую с каждым восходом солнца составляет сама жизнь, властно решая, кому состоять сегодня на жизненном довольствии, а кому сниматься.
Пожалуй, и в самом деле не было большого смысла оставлять домашние адреса ему. Но бесконечно обидна и горька была эта нечаянная жестокость товарищей.
Поначалу она осталась незамеченной всеми. Только лейтенант спустя какое-то время спохватился и сунул записку со своим адресом в карман гимнастерки Черемных.
До полуночи было еще далеко, и Пестряков посоветовал лейтенанту и Тимоше прилечь, поспать перед дорогой; придет время, он их разбудит.
Тимоша улегся на матрац, пропел, нещадно фальшивя: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят», и тут же заснул беззаботным сном, будто собрался сегодня сходить с барышней в кино на последний сеанс…
22 А лейтенант долго не мог уснуть, он тяжело ворочался на тюфяке, который едва доставал ему до лодыжек.
На правом боку лежать неудобно, потому что он заткнул за пояс гранату. Запал в гранату не был вставлен, однако лейтенант с непривычки касался ее очень осторожно. На левом боку он вообще не умел спать: мама отучила еще в детстве. «Кто же спит, стеснив сердце? В жизни нет ничего более вредного!»
Он лежал на спине, по обыкновению закинув руки за голову, подложив под нее планшет, уставясь в низкий потолок подвала.
Плошка с трудом освещала подвал, так что в углах его скапливалась темнота. Фитилек по-прежнему подмигивал каждому близкому снаряду.
Обрывки воспоминаний, мыслей, мечтаний, самых интимных впечатлений бытия, смешиваясь все вместе, подступали к сердцу.
Память снова возвращалась к тем минутам, когда он сорвал с древка знамя, судорожно свернул его и сунул за пазуху, когда вытащил из люка бесчувственного Черемных, когда Пестряков впервые прикрикнул на него – он в самом деле весьма неловко нес раненого.
Ведь вот как случилось: сидел, или, по выражению десантников, загорал на броне, этот самый рядовой, козырял ему, лейтенанту, а дошло до критического момента – старшим оказался.
Лейтенант не раскаивался в том, что добровольно подчинился Пестрякову.
Конечно, было бы весьма героично обвернуть знамя вокруг груди под гимнастеркой и самому доставить, да еще, может, своей кровью пропитанное, в бригаду. А надежнее все-таки оставить знамя в подвале.
Если хоть один из четверых жив останется – знамя найдут.
Приятно размышлять сейчас о том, как он вернется к себе в бригаду. С каким шумным восторгом встретят танкисты его, пропавшего без вести, кого уже похоронили! Он возвращается чуть ли не с того света, да еще приносит с собой ценные разведданные, которые обеспечат успех нового наступления, да такого наступления, перед которым сама крепость Кенигсберг не устоит.
И вот уже после победы он возвращается к себе домой в Ленинград. Он нащупал в кармане гимнастерки ключ от английского замка, от парадного. В том же кармане хранится квитанция на сданный в самом начале войны радиоприемник СВД-9, и там же, в кармане, лежит заветный гривенник. Вот он звонит маме с вокзала из телефона-автомата и кричит ей голосом, который перехватывает спазма восторга: «Мамочка, я приехал!»
Они живут совсем близко от вокзала – Надеждинская, угол Невского проспекта. Не нужно и на трамвай садиться, когда приезжаешь с Московского вокзала. Шагай прямо по четной стороне Невского, мимо булочной-кондитерской, парфюмерного магазина «Ленжет», сосисочной, которую все называли «Три поваренка», мимо ателье, химчистки, комиссионного магазина, парикмахерской, цветочного магазина, мимо вывески «Соки – воды», мимо кинотеатра «Колизей», салона фотографии, мимо кафе, магазина галантереи – и вот ворота их огромного, о пяти дворах, дома. Галантерея, косметика и комиссионный магазин нисколечко не интересуют Олега. Но, черт возьми, какие существовали когда-то на белом свете сказочные заведения и как они волшебно назывались – «Булочная-кондитерская», «Сосисочная», «Кафе», «Соки – воды»!
Олег был бесконечно счастлив, что с наступлением позднего вечера навсегда выкарабкается из этой темной ловушки, в последний раз пролезет через узкий оконный проем, ведущий в мир.
Ему не придется больше вслушиваться в каждый шорох, грохот наверху и подавлять в себе тревогу. То даже не боязнь самой опасности, то боязнь, чтобы кто-нибудь не заметил, что ему вообще бывает страшно, и эта вторая боязнь намного больше первой…
Он мысленно перелистал заветную тетрадку со стихами, лежащую в планшете, и произнес про себя, отпечатывая на губах каждое слово:
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все ж хотелось почивать!
При этом Олег совсем не задумывался об испытании, которое ожидало его ночью: пройти к своим при такой насыщенности фронта войсками, при такой плотности огня! Сам он не хотел, не умел думать о том, что ведь и его может догнать какая-нибудь пуля.
Завтра он будет среди своих, по ту сторону фронта, он снова займет место в танке. Ах, как бы он хотел снова протиснуться своими негабаритными плечами через башенный люк!
Какое это все-таки счастье – воевать на своем посту, делать умелыми руками то дело, которому обучен!
Трудно быть героем в одиночестве, когда и поведения твоего оценить некому. Легче воевать на глазах у экипажа, когда ты стараешься заслужить одобрение товарищей, отличиться.
Да, завтра, послезавтра Олег уже будет в танковой бригаде. Весьма возможно, что пришли письма от Ларисы, от мамы. Может, в «Красноармейской правде» напечатали его стихотворение «Граница», которое он переправил в редакцию с тем самым очкастым корреспондентом. А вдруг уже несколько писем из Ленинграда ждут его не дождутся у бригадного почтальона Харитоши!
Блокада давно снята, но Олег по-прежнему представляет себе Ленинград таким, каким он знал его по рассказам фронтовиков и каким, конечно, его не описывала Лариса в письмах, просмотренных военной цензурой: с неподвижными трамваями, застигнутыми обстрелом на полпути между остановками, в зареве горящих домов, которые некому тушить, в снежных сугробах на Невском проспекте, с детскими санками, которые сделались основным видом городского транспорта, с очередями за хлебом и кипятком, с прохожими-скелетами, с трупами людей, умерших на улице голодной смертью.
За дни пребывания в подвале Олег впервые узнал, что такое голод! Но он голодает всего какую-то неделю, а Лариса и другие ленинградцы живут впроголодь уже три года с лишним.
Чьи-то берущие за сердце стихи вложила недавно Лариса в письмо:
Сто двадцать пять блокадных грамм
С огнем и кровью пополам!..
Лишь после отъезда Олега на фронт Лариса познакомилась с мамой: сама пришла к ней домой. Почему же он не познакомил их прежде? Наверное, потому, что сам не отнесся поначалу к своему знакомству с достаточной серьезностью. Ну вместе ходили в Дом писателей на вечер одного стихотворения. Ну ездили в Петергоф на проводы белых ночей; это было перед самой войной. А в одну из белых ночей Олег вернулся домой под утро. Он покривил душой и сказал маме, что на Неве развели мосты и он остался ночевать у друзей, чтобы не идти пешком с Петроградской стороны вкруговую, через Сампсониевский мост и Выборгскую сторону.
Но и после той белой ночи Олег не сразу понял, что Лариса заняла в его жизни совсем не то место, какое до нее занимали другие. Он едва не обокрал себя, приняв событие в своей жизни за мелкое происшествие. Как же вышло, что после расставания на каких-то запасных путях станции Ленинград-Навалочный, когда их воинский эшелон уже стоял под парами, Лариса стала ему дороже, чем была во время их вечерних и ночных прогулок по Ленинграду, когда они читали наперебой друг другу стихи, причем Лариса выше всех ставила Маяковского, а Олег предпочитал ему Есенина и Багрицкого!
Еще до того как он получил от Ларисы первое письмо, он узнал, что она побывала у мамы, подружилась с ней, помогла эвакуироваться с эшелоном типографии «Печатный двор», где работал отец Ларисы.
И в первом же письме без всякой ложной стыдливости Лариса написала, что очень скучает о нем, что Олег и сейчас стоит у нее перед глазами такой, каким она его тогда проводила.
Долго-долго стоял Олег на подножке теплушки, а она все шла, шла за уходящим эшелоном, и вот мысль ее все идет, идет вслед за Олегом.
Лариса просила не слишком строго судить: ее ошеломило собственное легкомыслие в те белые ночи. Но, может быть, это вовсе не легкомыслие, а убеждение, что иначе она поступить не могла. У нее большая-большая и единственная просьба: пусть Олег не думает о ней хуже, чем она есть на самом деле.
Все ярче и отчетливей вспоминал Олег их расставание. Прощаясь, она завладела его руками и не спешила их отдавать, ее пальцы льнули к его рукам. И горячие, податливые губы, и повлажневшие глаза, и плечи, которые задрожали под рукой Олега, и слезы, слезы, которые она вытирала и никак не могла вытереть, так что слезы стекали по запястью ей в рукав.
На фронте Олег стал ощущать все большую нежность к далекой Ларисе. В его представлении она непрерывно хорошела, становилась все прекраснее, желаннее, и он, подобно герою какого-то прочитанного им перед самой войной романа, бродил по воспоминаниям одной-единственной ночи, как по сказочной стране.
Он теперь не мог унять радостную дрожь в руках, когда распечатывал конверт, на котором уже бесконечно знакомым, неровным почерком был выведен номер их полевой почты 29902, а под этим номером значилось: «Олегу Геннадиевичу Голованову».
В былые дни им не надоедало спорить, и что Олегу в этих спорах правилось – Лариса не требовала, чтобы он обязательно соглашался с нею. Наоборот, когда у них возникало какое-нибудь разногласие, Олег всегда ощущал, что Лариса понимает и учитывает его суждение, его взгляд и относится со всем уважением к его мнению, с которым остается несогласной.
Когда он, отъявленный и неизлечимый коротковолновик, принимался рассказывать Ларисе о своих радионовостях, она слушала его с напряженным вниманием. То не было показное внимание к вещам, в которых она плохо разбирается. То не было стремление изобразить интерес к его интересу. Это было честное и прилежное желание понять, о чем идет речь, чтобы глубже войти в круг его привязанностей, увлечений и сокровенных мыслей.
Одно письмо Лариса вдруг закончила цифрой «73», что на языке коротковолновиков означает «привет». Олег когда-то между прочим упомянул об этом, а Лариса запомнила.
Только спустя много месяцев, уже из писем, он узнал, что Лариса перечитала все книги, которые ему нравились и о которых он упоминал: она хотела проникнуться мыслями, чувствами, которые владели им при чтении этих книг.
Теперь и его одолевало желание как можно больше знать о Ларисе, о ее вкусах и склонностях, привычках и интимных подробностях жизни, ее симпатиях и антипатиях, интересах и привязанностях.
Он не отдавал себе отчета в том, что это взаимное стремление познавать друг друга есть не что иное, как наиболее страстное желание любить друг друга.
Олегу казалось, нет такой минуты, когда он не помнил бы, что на Петроградской стороне, на Гатчинской улице, где в летние ночи всегда настежь раскрыты окна «Печатного двора» и стелется запах типографской краски, живет его Лариса.
Олег твердо верил, что его ждут, ждут преданно, но тем не менее, отдавая дань всеобщей моде, написал ответ на популярное стихотворение «Жди меня» под названием «Не жди меня». Это стихотворение он тоже переписал в свою заветную тетрадку.
Не жди меня. Не жди меня. Не надо.
Какая радость в том, что будешь ждать
И, никому не подарив ни взгляда,
Не от тоски – от верности страдать?
Не жди меня, как не ждала впервые,
Когда иначе и скучней жила,
Быть может, были лучшими другие,
Но я пришел, хоть ты и не ждала.
Не жди меня: я не люблю притворства.
Вздыхать, когда не хочется вздыхать
И перед кем-то притворяться черствой
Лишь потому, что ты решила ждать!
Не жди меня, но я вернусь нежданный,
И с кем бы ты в то время ни была,
Увидишь вдруг, что, как это ни странно,
Не ждав меня, ты лишь меня ждала!
Он несколько раз читал вслух стихотворение «Не жди меня» танкистам. Командир башни с соседней машины даже списал его и отослал кому-то в Шую. Но сам автор так и не решился отправить стихотворение.
Он готов умолять Ларису, чтобы та ждала его возвращения.
И ему снова видится день его приезда в Ленинград, уже после победы, в таких отчетливых подробностях, словно война давно закончилась и он вовсе не находится в подвале дома на Кирхенштрассе, 21, в маленьком городке Восточной Пруссии, северо-восточнее Гольдапа, в окружении противника, словно ему не предстоит пробиться через линию фронта, а затем идти с боями до победного конца.
Поезд подходит к самому Ленинграду. Как быстро промелькнули за широким окном пассажирского вагона Тосно, Поповка, Колпино, Фарфоровый пост; там и перрона-то никакого нет!
Вот они уже миновали Ленинград-Навалочный, вот запасные пути, где когда-то стоял их эшелон, где он распрощался с Ларисой.
Странно лишь, что поезд идет под обстрелом, и лампочка на столике в купе все время мигает, отзываясь на каждый разрыв. Ведь блокада давно снята, мама вернулась из эвакуации. Ленинград снова в глубоком тылу. А какое имеет значение – глубокий это тыл или неглубокий, ведь война уже закончилась, потому он и получил долгожданный отпуск домой!
Поезд с разгона громыхает по стрелкам, скоро перрон Московского вокзала, поезд прибывает на знакомую пятую платформу, замедляет ход, но Олег никак не может очнуться, и проводник вагона трясет его за плечо.
23 Олег вскакивает, протирает глаза, видит знакомую плошку на столе.
– Пора, – глухо говорит проводник, чьи обязанности почему-то исполняет Пестряков. – Тимошка уже собрался.
Черемных видел, что Пестряков долго-долго стоял у изголовья спящего и все не решался его разбудить, словно лейтенант мог выспаться за несколько лишних минут или минуты эти могли отвести от него предстоящую опасность.
Лейтенант повернулся и увидел, что Тимоша, с гранатой и кинжалом на поясе, с автоматом, висящим поперек груди, производит нечто подобное бегу на месте.
– И тебе советую, – подморгнул он лейтенанту. – Проверить себя перед поиском. Культурно. Чтобы ничего не бренчало, не звенело, не гремело. А то можно обнаружить себя благодаря пустяку.
Лейтенант тоже принялся имитировать бег на месте. Планшет шумно зашлепал по кожанке, и лейтенант заправил ремешки под пояс.
– Так пистолет способнее носить. – Пестряков сам подтянул кобуру лейтенанта по поясу вперед и налево. – На ихний манер. Наши зря пистолеты за спиной прячут, да еще под правой рукой…
Тимоша вывалил на столик содержимое всех своих карманов и вывернул их наизнанку. Чего там только не было! Кисточка Для бритья, запал от гранаты, орденская книжка, огрызок карандаша, пуговицы, янтарный мундштук, колода игральных карт заграничного рисунка, обрывок бикфордова шнура, свисток, лейтенантские погоны, какие-то монеты, половинка крупной сырой картофелины.
– Как же я про нее забыл? – Тимоша очистил пестряковским кинжалом срез картофелины, к ней налипли крошки хлеба, табаку, чаю, пороху. – Питайся, механик!
Черемных принялся грызть картофелину:
– Откуда она у тебя?
– Моя лаборатория, – приосанился Тимоша. – Найдешь спирт. И до того попадается крепкий – огонь! На сапог капнет – дыра. И не знаешь – можно пить или нельзя. Вдруг отрава? Ну, сделаешь срез на картошке, окунешь. Потемнеет – выливаю спирт, конечно, с переживаниями. А если белая картошка остается – можно пить. Порядок.
– Ну и дошлый же ты парень! – усмехнулся в усы Пестряков.
– Весьма остроумно! – похвалил лейтенант. – Крахмал! Моментальная реакция…
Потому ли, что Тимоша нашел эту жалкую картофелину и она так аппетитно хрустела у Черемных на зубах, потому ли, что зашла речь о крахмале, но лейтенант с мучительной силой ощутил голод.
Последние дни лейтенант все чаще и с большими подробностями вспоминал бригадную кухню: вкусный, до головокружения сытный дымок подымается над варевом…
В последний раз лейтенант обедал на рассвете, перед тем как танки совершили марш-бросок. Повар налил ему в котелок наваристого борща. Мяса было столько, что ложка стояла торчком, а на поверхности борща плавали золотые кружочки жира. Жаль, человек не устроен так, чтобы наесться впрок: на три дня, на пять дней, на неделю…
Пестряков озабоченно оглядел лейтенанта. Как осунулся парень, как спал с лица! А все-таки румянец стойко держится на его щеках.
Не хотелось, ох как Пестрякову не хотелось отправлять лейтенанта без автомата в такую прогулку! Пистолет и граната – небогатый арсенал, но что поделаешь? Ведь сам Пестряков тоже не может остаться без оружия! В диске у него осталось только двенадцать патронов и один патрон особого назначения – у Черемных.
– Вот оно, мое секретное оружие фау-один. – Тимоша поправил кинжал на поясе. – А это нехай будет фау-два. – Он похлопал по гранате. – Между прочим, слово «фрау» я хорошо понимаю. А «фау» – дело темное…
– Фау? Первая буква немецкого слова» «фергельтунг», – разъяснил лейтенант с обычной готовностью. – В переводе значит возмездие.
– Фау – оружие опасное. Самолеты-снаряды, – напомнил Черемных. – Геббельс давно стращает этим секретом…
– Такой секрет Геббельс может только своим мертвецам доверить. – Пестряков недобро усмехнулся. – На погосте народ надежный. Не разболтают…
Лейтенант от всей души рассмеялся, показав белые зубы, и добавил:
– Как только спросят у пленного про фау-три, так он, поверите ли, сразу начинает ругаться. И грозит Геббельсу кулаком. Один пленный пошутил, что фау – начальная буква слова «ферзагер» – неудача, отказ, осечка.
– Осечка есть, оружия нету, – повеселел Тимоша.
– А фаустпатрон? – напомнил Черемных. – И почему-то не получилось осечки, когда сожгли наш танк…
– Самовар изобрели на Руси. Надо было и такую самоварную трубу смастерить, – посетовал Пестряков. – В той же Туле!..
– И в хвост и в гриву полыхает. Собственноручно видел! – похвастался Тимоша. – Из этой трубы пальнуть – раз плюнуть.
Черемных тяжело вздохнул.
Лейтенант подошел к нему, склонился, поправил подушку, одеяло. Чем бы ему помочь?
Лейтенанта не оставляло неловкое и виноватое сознание своего здоровья; возле тяжелораненого здоровье ощущается особенно остро.
Прощаясь с Черемных, лейтенант старался уверить, что разлучаются они совсем ненадолго. Скоро, очень скоро он вернется сюда на танке. Главная задача – воспретить противнику движение по рокадному шоссе, лишить противника свободы маневра и привести к молчанию батареи, которые противник держит в глубине своей обороны.
Когда лейтенант рассуждал о военных операциях, он всегда называл немцев значительно и строго – противник.
– А городок у противника отобьем – сразу наши танки выйдут на оперативный простор, – обещал лейтенант.
Черемных, разумеется, уже будет к тому времени в госпитале. И лейтенант снова напомнил про чудодейственный грибок: он как рукой снимает заражение крови.