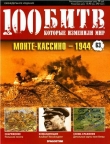Текст книги "Капля крови"
Автор книги: Евгений Воробьев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Вот и это окно Гитлер крест-накрест белыми полосками выклеил, а все равно придется сейчас это стекло пулями прошить…
43 Пестряков с особенной жадностью вглядывался во все, что его окружало. Он так исстрадался в своих ночных скитаниях, что даже ходить приучился, как все слепые – приподняв лицо и очень сторожко.
Он отвык от ярких красок дня и сейчас вдруг с интересом отметил, что деревья обожжены первым морозом. Одни прощально желтеют, другие оделись в багряную одежду.
Каждый порыв ветра срывает с кленов пятипалые пестрые листья.
Листья летят черенками вниз, долго планируют, прежде чем ложатся на землю, незамощенную аллею, покрытую гравием, – аллея тянется до самого моста.
Невесомые кленовые листья подобны хлопьям желтого снега, и Пестрякову с внезапной и невыразимой силой, овладевшей всем его существом, захотелось дожить до снега, до зимы.
Тогда он увидит свое Непряхино в белых сугробах, наметенных по самые окна уцелевших изб, а избы эти – в белых шапках, нахлобученных на крыши. Если снегопад был с ветром, шапки надеты набекрень. И странная фантазия пришла вдруг в голову Пестрякову: ветхие соломенные крыши потому так изнемогают зимой под тяжестью снега, потому их заваливает сверх меры, что крыши теперь наперечет.
Они принимают на себя снег, который в мирные зимы ложился на все крыши еще целехонькой деревни, не знавшей увечий, ран и ожогов войны…
Ну а если победа замешкается, припоздает в дороге и не успеет прийти по снежному следу?
Тогда он хочет увидеть свое Непряхино в зеленом вешнем наряде.
Сойдет снег, который так умело и прилежно маскирует землю своим необъятным белым маскхалатом, и проступят черные приметы войны – обугленные насмерть деревья, которые зимой были незаметны в ряду всех других, а сейчас зловеще чернеют рядом с зазеленевшими; остовы печей, стоящих под открытым небом; черные квадраты золы на месте пожарищ; куры, у которых от вечной возни в пепле и золе перья на груди и на ногах черные; плетни, огораживающие пустыри и калитки, уже никуда не ведущие. Зимой эти плетни, пережившие свои дома и своих хозяев, тоже заносило снегом…
И привиделось ему, как он идет-направляется в свое Непряхино. Он бы охотно прибавил шагу, чтобы скорее дойти до соседей, расспросить про Настеньку, да вот ведь дело-то какое: ему нельзя шибче идти, поскольку шагает не один, а ведет за руку махонькую немецкую девочку, или, если по-ихнему выразиться, медхен.
Может, сиротка – дочка того самого часового, который гулко шагал по улочке и стучал о плиты сапогами на подковках? Несчастливая у него была линия жизни, тоже ведь в самом конце войны заземлился.
Война ту немецкую девочку осиротила, а он, Пестряков Петр Аполлинариевич, ее удочерил. Русские дети в плену к немецкому разговору приспособились. Значит, и немецкие киндеры быстро по-русски научатся. Чужому языку ребенок быстрее взрослого научается. А вот научится ли та медхен заново смеяться, в куклы играть? Это потруднее…
Он поднимает приемыша на руки, бегом бежит по околице в гору, бежит и одышки своей совсем не слышит. Земля податливо пружинит под ногами. Сейчас, в полдень, от земли и от уцелевших крыш подымается легкий парок…
Весна, весна во всей форме!..
В его воображении представилась самая ранняя весна – та пора, когда на огородных грядках только проклюнулись первые ростки и побеги, когда деревья только одеваются во все зеленое, так что черный цвет сучьев и веток еще спорит с нежно-зеленой листвой, а черные гнезда грачей отлично видны в просветах – голые деревья стоят за тонкой-тонкой зеленой кисеей…
А весной попозже, будто вовсе не было войны, в Непряхино снова прилетят соловьи. «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат…» Бывало, он вдвоем с Настенькой заслушивался их пением в Заречной роще.
«Только вот услышу ли я соловьиное пение? – встревожился Пестряков. – Может, не отойдут мои уши? Так и проживу свой век глухой тетерей…»
В каждом из времен года, которые являлись сейчас воображению Пестрякова, была заключена своя неповторимая прелесть.
И он подумал с горечью: а есть ли вообще среди четырех времен года такое, когда легко расстаться с жизнью?
Такого времени года нет!
Кто его знает, если бы завелось на белом свете еще одно, пятое время года, оно бы не было таким заманчивым. Но те четыре времени года, которые перебрал в своей ненасытной памяти Пестряков, не годились для разлуки с жизнью…
Пестряков зажмурился, открыл глаза и тяжело встряхнул головой в трофейной каске. В доме воняло поджаренной кожей, тряпьем и еще какой-то горючей дрянью.
– Ну и разит от твоего костра, Тимошка!
Бесконечно далекой, сказочно-несбыточной стала милая сердцу смоленская весна, а перед усталыми, воспаленными от едкого дыма глазами Пестрякова предстала неприглядная, бесприютная, ржавая, пропахшая горькой и какой-то ненашенской, чужой, не берущей за сердце гарью прусская осень…
Вот и решетка деревянная, переплетенная корнями, ветвями, стеблями, жмется к кирпичной стене дома напротив. Пестряков смотрел на оголенные ветви с добрым чувством – крепкие! Как выручили, когда, цепляясь за них, перелезал через высокий забор с автоматом в руке…
На деревянную решетку, увитую плющом, села какая-то птичка-невеличка. Откуда она, такая безбоязненная? Понимает пичуга, что сейчас – затишье.
– Ах ты, птичка-канарейка, ты утешница моя… – вслух вспомнил Пестряков слова песни. – Ты утешь горе мое!..
Пестряков прежде и не подозревал, что бензиновая колонка на углу – он не раз прокрадывался мимо нее ночами – ярко-желтая, будто вымазанная яичным желтком, что почтовые ящики у немцев – красного цвета.
Видимо, Тимоше этот красный ящик тоже мозолил глаза, потому что он вдруг задал вопрос:
– Интересуюсь – ящик пустой? Или, может, там письма застряли?
Пестряков молча пожал опущенным плечом, а Тимоша расхохотался.
– Что ты смеешься во всю варежку? Сам себе обрадовался!..
– Вот было бы фартово – послать письмо бабе Гитлера. Конечно, доплатное. Я бы ей объяснился в любви до гроба. Конечно, до его гроба. Вежливо. И стихи вложил бы про ее хахаля:
Адольф в поход собрался,
За ним гналася тень.
Он к вечеру…
И умер в тот же день!..
Пестряков нахмурил брови и уже собрался было пристрожить своего развеселившегося помощника, но тот сам помрачнел и сказал после молчания:
– С кем только не держал я сердечную переписку… – Тимоша шумно передохнул. – А вот Фросю свою и сынка обошел письмами. Мне бы только не угодить в жмурики. Добраться до полевой почты…
– А не забудешь, губошлеп, написать женке, воскреснуть?
– Клянусь своей красотой! Или пусть от меня одна дыра останется!.. – Тимоша потемнел лицом.
Пестряков искоса сочувственно поглядел на него, а прикрикнул строго:
– Наблюдение за местностью вести нужно! Тоже мне «глаза и уши»!
В ответ Тимоша виновато потер глаза грязным кулаком и снова откинул на затылок каску, чтобы она, такая-сякая, не налезала на уши…
Возле углового дома некогда стоял телеграфный столб. Внизу он сгорел, а останки его с изоляторами повисли на проводах. Провода тянули каждый в свою сторону, и очень странно, почти фантастически выглядело это обугленное бревно, распятое в воздухе…
«Тимошкина судьба – вроде этого телеграфного столба, – неожиданно подумалось Пестрякову. – Такой же парнишка неприкаянный. Он мне, как залез на НП, повинился. Женку бросил. От сынка отказался. Сам себя за это клянет. А доведется ли дожить, исправить ошибку – еще неизвестно…»
Тимоша первый услышал тяжелую поступь нашего танка.
Пестряков, как ни напрягал слух, так и не мог ничего услышать, пока танк не подошел ближе.
Танк стоял перед мостом, затем развернулся и ушел искать брод через канал – опасался мин.
Еще несколько наших танков показалось справа.
Танки обтекали окраину городка с юга.
На аллее, ведущей к мосту, появилась группа немецких солдат. Они пятились, оттаскивая свой тонконогий пулемет.
– И русский говорит «гут», когда немцы бегут, – подал голос Тимоша, изнуренный долгим молчанием.
Один из солдат, дюжий детина в очках и почему-то не в каске, а в пилотке, держал под мышкой нечто похожее на самоварную трубу, но только диаметром покрупнее, а длиной побольше метра.
Фаустник повернулся в профиль, затем снова попятился и посмотрел назад. Видимо, он намеревался спрятаться за углом дома.
Пестряков, потрясенный встречей, забыл о всякой осторожности. Уже не только немецкая каска его и немецкий автомат торчали над подоконником. Пестряков по грудь высунулся в своей шинели с непомерно широким, измятым воротником, являя собой странную помесь обличья солдат, воюющих между собой.
Да ведь этот самый фаустник поджег танк Михал Михалыча! Тогда сумеречило, но в зареве боя Пестряков отлично приметил фашиста в очках.
И вот спустя семь дней, таких дней, что каждого хватило бы на месяц, судьба свела Пестрякова с его обидчиком.
Так вот где мы с тобой снова встретились, очкастая сосиска! Ну конечно же, это он – угловатые плечи, сутулится, роговые очки и пилотка.
Чумовой, однако, длинноногий черт! Это ведь не каждый решится-догадается – схватить гранату на взводе и отшвырнуть ее в сторону, за каменный забор!
Очкастый фаустник зарос рыжим волосом, и огненные космы выбивались из-под пилотки, напяленной на уши.
«Что ты рыжий – не заметил тогда. А с трубой дьявольской пришло тебе время расстаться. И с жизнью тоже».
Руки Пестрякова задрожали от жажды нетерпеливой и лютой мести. Вот уж ни к чему эта дрожь!
Грязное стекло и клочья дыма от Тимошкиного костра – их нет-нет и проволакивало ветром мимо окна – ухудшали видимость.
Пестряков приказал Тимоше, дыша при этом так, словно только что перелез через высокий забор:
– Сейчас расквитаюсь. С тем рыжим жердяем… А ты бери на себя пулемет, Тимофей!
Пестряков взглянул искоса – Тимоша положил свой ППШ на подоконник кожухом и придерживал приклад снизу левой рукой, плотно прижимая его к плечу.
Тимоша дал короткую очередь. Пули со звоном прошили оконное стекло.
Хорошо бы ему, Пестрякову, для большей меткости подложить ладонь под рожок трофейного автомата. Но левая рука побаливала, и дрожь от нее передавалась всему телу.
Он никак не мог унять дрожь в руке и сдержать дыхание, перед тем как нажать на спусковой крючок.
Пестряков так боялся сейчас промахнуться, как, может быть, еще не боялся за всю войну, хотя целиться-жмуриться ему на фронтовом веку пришлось столько, что недолго было и окриветь на один глаз…
Пестряков совладал и с рукой своей, и с одышкой.
Долговязый фаустник хотел спрятаться за углом дома. Пятясь назад по тротуару, он прокричал своим товарищам, отставшим от него, что-то гортанное и злое, чего Пестряков не понял, затем помахал кому-то длинной ручищей.
Но это было последнее, что он успел сделать в жизни.
Фаустник выронил свою трубу. Тимоша услышал, как она, дребезжа, покатилась по тротуару, стукнулась о тот самый угол дома, за которым фаустник пытался спрятаться от пуль.
«Один мулек от фрица остался, – отметил про себя Тимоша. – Да еще очки на носу застряли».
А Пестряков обратил внимание на то, что у фаустника, упавшего навзничь, на рукаве мундира нет даже лычек ефрейтора или обер-ефрейтора, а на воротнике никаких знаков различия.
«Неужто рядовой? – удивился Пестряков, и в нем шевельнулось даже нечто похожее на внезапное сочувствие к фаустнику. – Загадка природы! А какой трюк тогда с моей гранатой вымудрил! По всему видать, солдат стоящий. Может, этого жердяя чинами обошли?..»
И что еще вызвало у Пестрякова подобие сочувствия к фаустнику – он тоже был обут в изношенные донельзя сапоги. Теперь, когда фаустник лежал, Пестряков увидел дырявые подметки и сбитые набойки на его старых, порыжевших сапожищах.
44 Тимоша бил по пулеметному расчету. Пестряков увидел, как он авторитетно управился с тремя фашистами.
«Что-то Тимошка патронов не экономит, – забеспокоился Пестряков. – Во-он какую очередь сочинил! Пока свои не подоспеют, ему диету соблюдать надо. Иначе боевого питания никак не хватит…»
Между тем Тимоша решил, что таиться дальше от фрицев не к чему.
Он громыхнул прикладом по раме, со звоном посыпались стекла, проклеенные крест-накрест бумажными полосками. Настежь распахнулось окно, но не свежим воздухом, а еще более злым дымом понесло с улицы.
– Прикрой меня, дядя Петро! – прокричал Тимоша, да так громко, что туговатый на ухо Пестряков встрепенулся.
Тимоша прокричал «дядя Петро», уже перепрыгивая через подоконник, подобрав полы шинели.
Он стремглав бросился к беспризорному немецкому пулемету. Тот остался стоять на своих тонких ногах среди трех бездыханных тел в серо-зеленых шинелях.
Тимоша схватил пулемет, схватил ящик с лентами и, так же пригнувшись, понесся обратно к дому.
Скоро худощавое тело пулемета уже хищно подрагивало, вбирая в себя ленту, а за пулеметом, глядящим из окна дома, лежал Тимоша. Он взял на прицел мост, круто выгнувший каменную спину в конце аллеи, мост, по которому пятились немцы. Несколько солдат упало, донеслись крики, кто-то метнулся в сторону.
Пулемет за спиной вызывал замешательство – русские обошли с тыла, окружили?!
Пестряков в полной мере оценил тактический маневр Тимоши. Конечно, рискованно было расстрелять весь диск автомата в надежде на трофейный пулемет, но риск был умный. Пестряков посматривал на Тимошу с уважительной теплотой, как никогда не смотрел прежде.
«Хорошо, что я не обидел человека самой последней жалостью. Не пожелал, чтобы его сейчас легонько подранило. А из штрафников Тимошке самое время увольняться…»
Поджог во дворе Тимоша совершил как нельзя более кстати. Дрова, сложенные в поленницу, добросовестно горели, да и как им было не разгореться при такой растопке! От костра уже занялись конюшня и каретный сарай, но дом под черепичной крышей пока что противился огню. На дом этот, в котором засели Пестряков с Тимошей, сносило густой дым; немцам за дымом не видны были вспышки выстрелов, а отступающие обходили горящий дом стороной.
Танк наш медленно приближался.
Пестряков крайне встревожился, когда разглядел, что люк открыт, а на броне кто-то сидит. Да не в куртке танковой, не в комбинезоне, а в шинели. Ну и заводной десантник! Дорогу, что ли, высматривает?
Форсировав канал, танк не повернул ни вправо, ни влево, а двинулся по аллее прямо к угловому дому, объятому дымом.
«По чужим следам идет. Осторожничает, – отметил Пестряков, очень довольный неизвестным ему танковым экипажем. – На песке все написано».
И в самом деле, гравий хранил следы немецких танков и цуг-машин, прошедших здесь, по-видимому, ночью.
И тут Пестряков подумал вдруг, что очкастый фаустник очень хитро выбрал место для засады. Неужели тот рыжий черт предусмотрел, что наши танки, опасаясь мин, пойдут для безопасности по следам немецких? Какой же он в таком случае был дошлый и опасный вояка, этот жердяй в разбитых сапогах, который не дослужился до ефрейтора, и как справедливо, что он, Пестряков, пустил его в расход, отомстил за Михал Михалыча и других товарищей по десанту и по экипажу.
Пулеметчики уничтожены, и с фаустником тоже покончено, но на другом конце аллеи, метрах в трехстах западнее желтой бензоколонки, не замеченная танком, пряталась в засаде пушка.
Пестряков первым заметил пушку и указал на нее Тимоше обкуренным пальцем. Хорошо бы как-нибудь предупредить танк об опасности!
Пестряков снова почувствовал себя в ту минуту не просто пехотинцем, а десантником, словно он лишь недавно спрыгнул с брони вот этого танка, чтобы воевать в непосредственной близости от него, охранять машину.
Ничего Тимоше не говоря, Пестряков шагнул к выбитому окну, нескладно оберегая левое плечо, перевалился через подоконник, ступил на тротуар, засыпанный битым стеклом, и перебежал через улицу с явным намерением добраться до танка и предупредить о пушке в засаде.
«А что танкистов предупреждать насчет пушки, – рассудил Тимоша, – когда можно и самому распорядиться?»
Тимоша проволок трофейный пулемет по комнате к окну, смотрящему на юг, и открыл огонь, благо пулемет мог вести теперь фланкирующий огонь: орудийный щит стоял к Тимоше боком и оборонить прислугу не мог.
Фашисты бросили пушку и скрылись в западном направлении.
«Одна вывеска от того расчета осталась», – со злорадством подвел итог Тимоша и перетащил пулемет обратно к окну, глядящему на восток.
Тем временем Пестряков попал под отсечный огонь немецких минометов. Он стоял, прижимаясь к стене дома, выжидая, когда огонь стихнет и можно будет сделать перебежку. Он с явным опозданием услышал шелест мины на излете и не очень расторопно упал плашмя на тротуар у дома, на дальней от Тимоши восточной стороне улицы. Мина ударила в стену дома где-то над головой Пестрякова. Он упал у самого цоколя, раскинув руки, сильно вылезшие из кургузых рукавов шинели, вытянув ноги в порыжевших сапогах со сбитыми набойками и худыми подметками.
Один из осколков угодил во флюгер на коньке черепичной крыши. Петушок, первый и последний раз в своей неспокойной, ветреной жизни, взмахнул жестяными крыльями, как бы пытаясь взлететь в дымное небо, и его швырнуло наземь, к ногам Пестрякова.
Стена дома, исклеванная осколками, стала рябой. Пестрели свежие выбоины, ямки, выкрошенные в кирпичах, щербинки рыже-морковного цвета – все они отчетливо выделялись на фасаде кирпичного дома, потемневшего от времени.
Тимоша увидел, как Пестряков, превозмогая слабость, встал, весь с головы до ног обсыпанный кирпичной пылью.
Каска валялась на тротуаре пустым горшком. Волосы Пестрякова тоже запорошило красно-оранжевой пудрой.
Он все покачивал головой, будто безмолвно поддакивал Тимоше или о чем-то горько сокрушался.
Пестряков с трудом держался на ногах и тяжело дышал.
Видимо, он потерял ориентировку, потому что странно шагнул, как бы пытаясь пройти сквозь стену.
Тимоша мгновенно вымахнул из окна, словно его оттуда выдуло ветром, и бросился к пошатывающемуся Пестрякову.
Едва Тимоша успел ступить со своего тротуара на мостовую, как услышал посвист новой мины на излете. Тимоша, как всякий опытный пехотинец, хорошо знал этот посвист, переходящий в зловещее шуршание, – мина вот-вот разорвется, из последних сил она рассекает воздух.
– Ложись! – заорал Тимоша.
Но Пестряков стоял, приклонив голову к выщербленным кирпичам, упершись в стену больным плечом.
– Ложись! – снова заорал Тимоша истошным голосом.
Не слышит! Пестряков ничего не слышит!
Тимоша в несколько прыжков пересек мостовую, бросился к Пестрякову, схватил его за правое, безвольно опущенное плечо, дернул вниз. Он хотел свалить Пестрякова с ног, прикрыть его своим телом.
Желто-фиолетовое пламя разрыва вспыхнуло где-то вблизи.
Тимоша действительно повалил Пестрякова, но сделал это с какой-то странной, неестественной легкостью.
Пестряков упал, но упал не потому, что его увлек вниз Тимоша, а потому, что не упасть он не мог – он был мертв…
45 Тимоша склонился над товарищем. Пестряков лежал непоправимо тихо, бездыханный… Именно потому, что Пестряков всегда после бомбежки, после броска долго не мог отдышаться, так страшно было видеть неподвижную грудь.
«Вылечился наконец наш Пестряков от одышки…»
Его короткую шинель обсыпало той же красной пылью. Эта пыль, пропахшая ядовитой пороховой гарью, продолжала оседать на еще потном лице Пестрякова, на побуревших руках, причудливо перекрасила его пушистые брови и усы. Трофейный автомат валялся тут же, на тротуаре, в оранжевом прахе.
Почему же Пестряков, такой бывалый солдат, не лег на землю, заслышав свист второй мины, не внял окрику Тимоши? Ну, почему, почему?!
Теперь-то Тимоша понял почему.
Да потому, что Пестрякова оглушило первой миной, он не слышал предупреждения.
Тимоша прикрыл лицо Пестрякова трофейной каской, на которую продолжала оседать кирпичная пудра. Подобрал его трофейный автомат. Медленно поднялся с колен.
И острое, мучительное одиночество пронзило Тимошкино ожесточенное сердце, обожгло глаза сухой болью.
А Михал Михалыч?
С той поры как Тимоша забрался в угловой дом и занял позицию у окна, он совсем позабыл о Михал Михалыче, лежащем в темном подвале.
А ведь теперь, после гибели Пестрякова, он, Тимоша, – единственная живая душа, которая вообще знает о существовании Михал Михалыча! Не приди сейчас Тимоша в подвал, Михал Михалыч там и пропадет. Отобьют наши городок, заторопятся на запад – и неизвестно, ступит ли в эту каменную пещеру нога человека.
Только подумать! Михал Михалыч мытарится в подвале и не знает, что делается наверху, за ящиком из-под пива, которым загорожен от него весь белый свет. Его не пристрелят! Ему не угрожает плен! Его отправят в госпиталь! Не нужен ему и последний патрон, с которым он все время боялся расстаться.
Как знать, может, военврачи разных рангов еще поставят его не на костыли – на ноги?!
«Обратно на жизнь выкрутил баранку Михал Михалыч. Теперь его маршрут на поправку…»
Тимоша направился было к подвалу, но в этот момент к угловому дому, в котором воевали Пестряков и Тимоша, подошел танк, разгоряченный боем.
Люк закрыт, а вся броня его в той же кирпичной пыли, сквозь нее едва проступает копоть.
На танк сносило дым от затеянного Тимошей пожара – загорелся уже и чердак дома. По-видимому, танкисты потому и сделали здесь остановку, что им была весьма кстати дымовая завеса.
Тимоша, как заправский десантник – как это наверняка сделал бы Пестряков, будь он жив, – трижды стукнул прикладом о броню.
Крышка люка приподнялась, из нее высунулась голова в танковом шлеме, показались плечи.
Тимоша увидел капитанские погоны и вяло, без обычной лихости, козырнул. Лицо капитана было закопченное, чумазое, ничуть не светлее кожаного шлема.
– Товарищ капитан! Танкист ваш тут лежит. По соседству. Спрятали в подвале. Тяжело раненный.
– С якой машины?
– Та машина давно остыла. А еще раньше сгорела…
– Номер танка не бачил?
– Черемных ему фамилия. Механик-водитель. Михал Михалыч.
Голова чумазого танкиста скрылась в люке.
– По фамилии экипаж не помнит. – Капитан высунулся вновь. – Но все равно проведать нужно.
Чумазый танкист вылез на броню, спрыгнул на мостовую, и Тимоша, крайне удивленный, увидел, что он вовсе не в кожанке и не в комбинезоне, а в обычной шинели. И что этот пехотный капитан в танке позабыл?
– Веди швидче.
Капитан шел налегке – только планшет и пистолет хлопали его по бокам. Он шагал с явным удовольствием, с каким всегда шагают люди, только что вылезшие из танка, и лакомился воздухом – пусть он даже густой от неосевшей кирпичной пыли и минного пороха…
Тимоша с двумя автоматами и в длиннополой шинели едва поспевал за капитаном.
– Это ты, хлопец, спас нашего танкиста?
Тимошу так и подмывало желание нарисовать сейчас в ярких красках картину спасения Черемных, похвалиться, как он огнем прикрыл эвакуацию. Но Тимоша запнулся и ответил без всякой бойкости:
– Тут папаша один отличился с лейтенантом. А моя роль двоюродная. Только – группа обеспечения…
В ушах у него снова зазвучали последние слова Пестрякова: «Бери на себя пулемет, Тимофей!»
«Все время Тимошкой звал, а на прощание почему-то выразился так уважительно. Полным именем. Прямо загадку мне загадал…»
Тимоша подошел к забору, выложенному из неотесанного камня, проскрипел калиткой, завел чумазого капитана в хорошо знакомый двор, попросил обождать. Он снял с себя автоматы и неторопливо полез в подвал. Тимоша не спешил приблизиться к Черемных и необычно долго разжигал плошку. В движениях не было всегдашней расторопности. Тимоша морщил лоб – так он хмурил отсутствующие брови – и переминался с ноги на ногу.
Черемных сразу почувствовал что-то неладное. Вернулся Тимоша в одиночестве. Без оружия. А главное – будто воды в рот набрал, что на него совсем не похоже. Острое предчувствие несчастья сжало сердце Черемных.
– Что за беда?
– Не уберег я Пестрякова…
– А-а-а-ах!!! – Черемных застонал так, словно Тимоша только что с разгона плюхнулся ему на ноги. Черемных еще никогда не стонал так от телесной боли. – Как же это он?
– Скончался в бою… Между прочим, рассчитался с вашим обидчиком. Перед кончиной. Ну с тем фаустником, который танк поджег.
Черемных поморщился, как от новой боли. Ну зачем, зачем Тимоша треплется в такую страшную минуту?
– Где Пестрякова оставил?
– На тротуаре лежит…
– Брат мой старший!
– Руки на груди сложены, и лежит…
– Вечная ему память!
– Лежит, а рядом дежурит наш танк…
– Наш танк? – Черемных приподнялся на руках, пытаясь сесть.
– Разве прежде я не сказал про танк?
– Первый раз слышу.
– Ну как же! Бой в центр города переметнулся, к ратуше. Такая заваруха! А на этой, на Церковной улице, – наши.
– Помоги же, Тимоша.
– Куда вы, Михал Михалыч?
– Не могу здесь больше. – Черемных вложил свой пистолет в карман кожанки, глубже надел пилотку. – Тащи наверх. Воздуха, света, жизни мне!
– Один я тебя не выгружу. Тут требуется взаимодействие с танковыми войсками.
Тимоша позвал на помощь чумазого капитана, тот спустился в подвал. Вдвоем они подхватили Черемных под мышки и потащили к оконцу. Лицо Черемных исказилось от боли, но нельзя сказать, что ноги его безжизненно волочились, что он был сам по себе, а ноги – сами по себе. Сейчас самое главное – не потерять сознания и не сойти с ума.
Черемных не издал ни звука. После того как он узнал о смерти Пестрякова, разве смел он застонать от боли?
Еще труднее было втащить его на подоконник.
И однако вскоре Черемных, исстрадавшийся, глубоко несчастный и вместе с тем бесконечно счастливый, лежал во дворе, на той самой подушке, которой затыкали оконце, возле того самого ящика из-под пива, который недавно загораживал от него весь белый свет.
– Лицо твое знакомое, – пригляделся чумазый капитан к Черемных, густо заросшему черной щетиной. – А вот фамилию уронил из памяти.
– Тут и поважнее дела из головы выбьет, – поспешил на выручку Черемных. – Все из памяти разбежалось… Да и кто меня теперь узнает? Сын родной и тот, наверно, обознается…
Черемных был убежден: после всего, что с ним произошло за эту неделю, он изменился до неузнаваемости.
«Что же Михал Михалыч про знамя не вспоминает? – забеспокоился Тимоша. – Забыл?»
Еще когда Тимоша вел сюда чумазого капитана, не терпелось рассказать ему о знамени танковых войск, которое хранится в подвале. Тимоша с трудом заставил себя промолчать, рассудив, что о знамени должен завести речь сам Михал Михалыч…
Пилотка Пестрякова, подаренная им некогда, сбилась у Черемных набекрень. Видны были иссиня-черные, спутанные волосы, и Тимоша удивился, как смог Михал Михалыч столько пережить и уберечься от седины.
Тимоша попытался представить себе, какого же Михал Михалыч роста, и не смог – никогда не видел его стоящим на ногах.
Черемных лежал, прикрыв глаза. Свет дня был для него нестерпимо ярок, он успел отвыкнуть от света за эту неделю, а кроме того, в темноте легче было черпать терпение и выносливость.
– Потерпи, хлопец, – сказал чумазый капитан, подойдя вплотную. – Мабуть, скоро подадимся обратно на исходные. Вот и захватим с собой, поскольку ходовая часть у тебя того…
– А скоро?
Чумазый капитан, сверкнув белками глаз, оглянулся, склонился к Черемных и сказал ему шепотом, будто разглашал военную тайну:
– Всего три снаряда осталось. Чуешь? И горилку вже усю выпили. Вот-вот мотор зачихает. Погрузим на броню – и до Червонного Креста. – Капитан выпрямился, собираясь уходить. – Чекай мене, я швидко!
– Не забудешь после боя?
Черемных и сам не понимал, как у него вырвались эти слова. Нервы не выдержали, что ли? Вот Пестряков никогда бы не произнес этих слов. Недаром у них, механиков-водителей, поговорка гуляет: «Вся жизнь наша на тормозах и на нервах». Но нельзя же самому себе действовать на нервы!
– Я же сказал, – обиделся чумазый капитан. – Мое слово – як штык. Не веришь? На, держи. – Капитан неожиданно снял с себя шлем и бросил на грудь Черемных. – Пусть в залог остается. Тем более на тебе якая-то пилотка окопная.
Черемных увидел, что капитан совсем седоволосый. Закопченный лоб делал седину еще более приметной. А лицо у капитана моложавое. Или это сажей и копотью замазало все морщины?
– Верю. – Черемных протянул капитану шлем и поправил свою пилотку.
– Мне вообще врать не положено. – Капитан надел свой шлем. – Должность такая. Замполит. Чуешь? Меня все десантники знают. Таранец моя фамилия.
Черемных сделал такое резкое движение, будто собрался вскочить на ноги. Он жадно потянулся к Таранцу, будто захотел его обнять или, наоборот, ждал, что тот возьмет его на руки, что ли.
– Я же вас хорошо знаю! Очень хорошо!!! – воскликнул Черемных, потрясенный.
– Что-то не могу вспомнить. Может, тебя так сильно скрутило?
– Вы меня, товарищ замполит, не вспоминайте. Я вас мельком видел. А вот наслышан много. От Пестрякова, десантника…
– До сей поры сердце за него дюже болит. – Таранец и в самом деле приложил руку к сердцу. – Убит батько. Неделю назад…
– Да он еще утром воевал на всю железку. Полчаса как убит. – Тимоша полез к себе за пазуху: – Вот его документы.
Таранец скорбно снял шлем, как-то ссутулился.
– Пестрякова головной убор. Спасибо доброму человеку, пилотку подарил. А то голова и вовсе нагишом была… – Черемных снял пилотку и обеими руками держал ее, мятую, грязную, так бережно, словно это был хрупкий предмет. – Вместе они воевали. – Черемных кивнул на Тимошу, – В городке этом. Неделю в разведке…
– Где же он, батько, лежит?
– Возле вашего танка, – заморгал Тимоша. – За углом. На тротуаре лежит…
– Як же та горькая беда случилась?
– Пестряков ваш танк выручал. – Тимоша тоже снял каску. – Насчет пушки затревожился. Фрицы прятались. В засаде. Не на таких напали! Ка-а-ак дал им жизни!.. – Тимоша разогнался было с рассказом, но запнулся и, как бы преодолев какое-то одному ему ведомое препятствие, добавил кратко: – В общем, та пушка аннулировалась…
Таранец перелистал красноармейскую книжку Пестрякова, тяжело вздохнул.
– Я ему рекомендацию в партию приготовил. – Таранец полез в свой планшет, достал лист бумаги, развернул его и грустно, про себя, перечитал рекомендацию. – Куда ее теперь? Пойду в карман ему положу. Где мы партбилеты носим. С моей рекомендацией батьку и похороним. Прочту над могилой, чтобы много не гуторить…
– С Пестряковым можно было в огонь и в воду, – сказал Черемных убежденно. – Правдолюбивый. Каждую нашу ошибку переживал. А что в словах резок – согласно характеру. Как воевал, так и разговаривал…
Среди бумаг Пестрякова нашлась боевая характеристика штрафника Т. Кныша, составленная лейтенантом.
Черемных попросил Таранца отдать ему ту характеристику и спрятал ее.