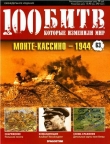Текст книги "Капля крови"
Автор книги: Евгений Воробьев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Он вздохнул и посмотрел в сторону черного проема – там сквозь щели ящика время от времени мерцали какие-то отблески.
Эх, увидеть бы напоследок какую-нибудь звезду!
Но такой возможности подвальное оконце не давало, и Черемных так был огорчен этим, что даже прослезился, его заросшие щеки стали мокрыми.
Он утер слезы и при этом сказал:
– Не нужно, Стеша, плакать… Ну прошу тебя, не плачь…
Боязно было остаться одному после того, как Пестряков отправился на охоту, а сейчас Черемных даже обрадовался своему горькому одиночеству. Так легче собраться с мыслями и попрощаться с жизнью, с близкими.
– Ну что же, Стеша, давай попрощаемся, – произнес Черемных еле слышно, но голос его крепчал, и речь с каждым словом становилась все отчетливее: – И ты, Сергейка, подойди к отцу поближе. Может, лучше, если бы ты совсем не знал меня. Чем вспоминать потом всю жизнь убитого… Простите, в чем был виноват, и живите себе без меня на белом свете. Была ты мне, Стеша, женой, а стала моей вдовой. Был ты мне, Сергейка, сыном, а немцы осиротили мальчонку. Не довелось отцу посмотреть на тебя на большого. Прощай и ты, боевой товарищ Пестряков! Прости, что лег я, безногий калека, у тебя на дороге. Навряд ли ты тоже выкрутишься из этой истории…
Черемных помолчал, как бы собираясь с силами, а затем произнес, отпечатывая на запекшихся губах каждое слово неожиданно звучно и с мужественной печалью:
– Вечная тебе память, Михаил Михалыч Черемных…
Лицо его стало очень серьезным и торжественным. Он напряженно вслушивался в собственные слова, и каждое слово было тяжелым, как непролитая слеза.
36 Пестряков замер, изготовился к броску, но часовой, не дойдя до ворот, вдруг почему-то замедлил шаги.
Почуял опасность? Насторожился?
Хорошо бы услышать дыхание часового. Если дыхание не осеклось, значит, он ничего не заметил.
Но Пестряков вслушивался тщетно: не для его ушей подобная задача.
Тут же в чужих руках загромыхал коробок со спичками, вспыхнул нестерпимо яркий язычок пламени, и до Пестрякова донесся запах табака.
И от этого чужого, но все-таки бесконечно желанного запаха у Пестрякова сразу закружилась голова, задрожали колени и в горле мгновенно пересохло так, что стало першить. Как бы не кашлянуть ненароком…
По руке, держащей пистолет, побежала дрожь. И как он ни пытался унять дрожь, рука своевольничала и слабела все больше.
И ногам своим он в тот момент не мог довериться. Будто стоял на протезах или у него каким-то образом стало две левых ноги…
А ведь какой удачный момент был! И ракета только что отгорела, по обыкновению сгустив после себя черноту ночи.
Каждый гулкий удар все удалявшихся сапог отзывался в ушах Пестрякова стыдом и болью. Изнемог, не сдюжил, заячья твоя душа…
Хорошо, Черемных этого срама не видел. Он ждет его в подвале, мыкается. Пестряков нарочно перед уходом предложил тот уговор насчет детей, рассчитывал тем подбодрить товарища. Интересно, принял ли Черемных уговор всерьез? Или догадался, что тот разговор на равных затеян для бодрости, а сам не подал виду, не огласил свою догадку?
Пестряков разозлился на самого себя, на того, другого Пестрякова, у которого задрожали колени и ослабела рука, который не решился произвести выстрел, истратить последний боеприпас их гарнизона, где Пестряков состоит и санитаром сейчас, и разведчиком, и интендантом, и караульным, и главнокомандующим.
И Пестрякову стало страшно при мысли, что Михаил Михалыч Черемных никогда не дождется своего убитого товарища. Даже если наши войдут в городок, Черемных останется без помощи: кому же придет в голову залезть в подвал, заставленный ящиком?
Эта мысль была сейчас страшнее понимания того, что этим убитым, невернувшимся товарищем будет он сам, Пестряков Петр Аполлинариевич.
И чувство ответственности за жизнь Черемных помогло превозмочь Пестрякову минутную слабость.
Когда фашист в пятый раз приблизился к воротам, Пестряков подстерегал его хладнокровно и уверенно.
Не его вина, что в этот момент снова взвилась ракета, осветив скоротечным светом городок: крутые черепичные крыши и острый штык ратуши, воткнутый в небо.
Ну что же, значит, придется подождать еще несколько минут. Пусть фашист прогуляется еще разок до набережной, полюбуется своей зениткой, а затем пройдет по улочке до этих вот ворот, сорванных с петель.
Чем ближе часовой к воротам, тем замедленней его шаг – так Пестрякову кажется оттого, что каждый шаг остро воспринимается сознанием. Больше успеваешь прочувствовать, переволноваться в промежутках между двумя шагами. Маленький отрезочек времени становится все более емким, удивительно вместительным.
У этого часового особенно звучные, грохочущие сапоги.
Шаг, шаг, еще шаг.
«Теперь пора», – решает Пестряков.
Но еще до этого решения какая-то могучая и неудержимая сила вымчала его из-за кирпичного столба ворот.
Пестряков едва не наткнулся на черную спину часового, и не успел тот обернуться на шум, как грохнулся наземь, сраженный выстрелом в упор.
Часовой упал ничком.
Убит или ранен? Не все ли равно!
Скорей сдернуть с плеча ремень автомата, скорей рвануть футляр от противогаза, отстегнуть кинжал, отцепить фляжку, обыскать.
Левый карман шинели пуст, а в правом – вот они, сигареты, вот спички. Жаль, что за голенищами притихших, совсем беззвучных сапог нет ни единого магазина, набитого патронами. Ну да ведь не пустой же у часового автомат! А вот и патронташ на поясе. Ура, запасные обоймы. Живем, Михаил Михалыч!
Теперь нужно оттащить тело с тротуара во двор, за ворота, чтобы часового не сразу хватились, чтобы было время добраться к себе в подвал.
Надо и каску забрать, она еще теплая внутри. Пестряков напялил каску поверх пилотки.
Жаль вот, фляжка не полная. Была бы полная – не булькала. Зато пачка сигарет только начата.
Пестрякову нестерпимо захотелось закурить, тотчас же закурить. Но об этом и думать нечего под открытым небом.
Он пересек двор, перелез в сад через знакомую дыру в проволочном ограждении, выбрался на противоположную улицу и, прижимаясь к заборам, стенам домов, заторопился подальше от ворот с кирпичными башенками.
Когда в небе разгоралась ракета, он замирал, упершись в стену спиной, локтями, затылком так сильно, словно хотел вжаться в камни. Пустой пистолет Черемных он не стал выбрасывать, а засунул за пазуху – пригодится. Трофейный автомат держал под полой шинели, чтоб не блестел.
При свете зарева он открыл железную коробку противогаза – вот они, бинты, а вот и галеты, целых две пачки.
Вот ведь как пришлось! Лишить жизни одного человека, чтобы перевязать его бинтами и накормить его галетами другого.
Человек в добротных сапогах не сделает больше ни шагу для того, чтобы человек в рваных сапогах, без подметок, мог продолжать свой путь.
Ни малейшего страха не испытывал сейчас Пестряков в своей ночной прогулке по городу, и он знал, откуда это хладнокровие – оттого, что он снова при оружии, что он вновь может воевать и в случае чего не продаст свою жизнь и жизнь Черемных за бесценок.
37 Как хорошо, что в охоте за оружием он забрел так далеко от своего подвала. Когда фашисты хватятся часового, они наверняка устроят облаву. Но не могут же они обыскать весь город!
Лишь бы не сбиться с пути. У встречного не спросишь: «Битте, скажите, господин фашист, как пройти на Церковную улицу, дом двадцать один?» Опять забыл, как эта Церковная по-ихнему называется.
Пестряков старался в своих ночных скитаниях не терять из виду поднебесный штык ратуши – тот возвышался над дальними крышами. В свое время Тимоша указал Пестрякову на ратушу как на удобный ориентир и сообщил, что она находится в центре городка. Пестряков усомнился было в этом, но Тимоша уверил его, что ратуша всегда у фрицев в центре торчит, ратуша – всему городу начало, так здесь повелось еще с самых средних веков.
Ратуша – незаменимый и надежный ориентир, особенно когда скрывается из глаз тяжеловесная макушка кирки. Это бывает на ближних подступах к кирке, квартала за два-три до нее.
Где-то между ратушей и киркой, в створе между этими двумя шпилями – острым, как штык, и тупым, как немецкая каска, – есть еще один ориентир. Это пожарная каланча.
«Вот ведь кривая судьба у этой каланчи! – усмехнулся Пестряков, издали вглядываясь в ее силуэт. – Вокруг было тихо, спокойно – пожарники там без толку топтались. Все огонь высматривали. А когда город огнем горит, никому нет дела до пожаров…»
Видимо, Пестряков был сейчас близко от кирки, потому что, сколько до боли в шее ни запрокидывал голову в чужой каске – с отвычки она была тяжелей тяжелого, – не мог увидеть за домами приплюснутую макушку кирки. А ратушу плотно закрыло столбом дыма. Если бы горело в одном месте, можно было бы рассчитать: поскольку ратуши не видно, ее место за дымом. Но сегодня горит в трех местах, три дымных облака подымаются над городком, и определить, за каким облаком прячется ратуша, и таким образом ориентироваться – невозможно.
Что Пестрякову оставалось делать, чтобы не заблудиться? Он свернул в район, где провел полночи в засаде и где зенитчики каждую минуту могли хватиться своего часового, а может, уже разыскивают его. Но как ни опасно было возвращение в тот район, Пестряков решился на это, потому что сбиться с дороги было еще опаснее, чем вернуться на старую дорогу.
Из той улочки, по которой перестал ходить часовой, Пестряков вновь увидел громоздкий гриб кирки и уверенно двинулся к ней. Теперь не заблудится!
Но вот что Пестрякова чрезвычайно встревожило по дороге – шум мотора. Уж что-что, а мотор танка старый десантник услышит, даже если туговат на ухо.
«Ежели я, глухая тетеря, танк слышу, значит, не один мотор шумит».
Сколько раз, спешившись и разминувшись во время боя со своей машиной, Пестряков затем отыскивал ее по шуму мотора или по звуку пулеметных очередей! Лишь совсем зеленый пехотинец, такой, который редко сиживал на танковой броне, не знает, что звук у танкового пулемета приглушен башней. А кроме того, танковый пулемет более торопливый, он бьет почаще, чем станковый или ручной.
Откуда ж взялись танки? Ведь их здесь не было! И в донесении, которое Пестряков передал с лейтенантом, значится, что танки на юго-восточной окраине городка не обнаружены.
Улица А, ведущая к кирке, была сегодня перегорожена шлагбаумом, около него маячили, перекрикивались патрульные, и Пестряков подался дворами, палисадниками в обход.
Однако уже в первом дворе он увидел при свете зарева танк, стоящий под навесом.
В соседнем дворе танк был замаскирован сеном. Если днем смотреть на него сверху, он покажется стогом.
Разве разберешь, кто здесь расположился в засаде – батальон танковый или полк? Во всяком случае, танкистов околачивается больше, чем хотелось бы Пестрякову; надо улепетывать с улицы А подобру-поздорову.
С беспокойством убедился Пестряков в том, что один из пунктов его донесения оказался неверным.
А как же другие разведданные? Они-то подтверждаются?
Пестряков вышел к площади у кирки. Он высмотрел на паперти штабеля снарядов в плетеных соломенных футлярах. Однако каково же было его удивление – зениток на площади обнаружить не удалось.
Может, кирка со своей приземистой звонницей мешала зенитчикам на старой позиции? У них там сектор обстрела был никудышный. Или немцы опасались, что наши поведут по кирке огонь, заподозрив на верхотуре наблюдательный пункт, и при этом пострадает прислуга зениток?
И шестов с проводами не видать.
Пестряков направился к памятному перекрестку, где стояла афишная тумба, затем к тому месту, откуда он издалека грелся и вприглядку ужинал у костра.
И тут никаких следов от шестовки с пучком толстых штабных проводов, которые еще недавно тяжело провисали между шестами.
«Штаб сменил квартиру», – с нарастающей тревогой отметил Пестряков.
Его бросило в холодный пот, когда он вспомнил, что эти вот координаты – «около ста сорока метров северо-западнее – западнее кирки» – он переслал с лейтенантом за линию фронта.
«Интересно все-таки, что за огонь ведут сейчас наши? Беспокоящий, методический, как его называл лейтенант? Или затеяли артиллерийскую дуэль с той неугомонной немецкой батареей, но при этом сильно мажут? Им бы вправо довернуть метров на четыреста! Или, может, этот огонь – предвестник мощного наступления? Может, сейчас какая-нибудь разведка в городок направилась? Или огонь отвлекающий, а наступать будут вовсе и не здесь?»
Все эти вопросы оставались без ответа.
Наши обстреливали окраину городка весьма кстати – улицы совсем пустынные. Время от времени где-то разрывался снаряд, свистели осколки, и Пестряков ложился на мостовую, на тротуар. Уж очень обидно было бы пострадать сейчас от своего осколка!
Но чем больше вдумывался Пестряков в горький смысл того, что ему удалось выяснить в городке на пути домой, тем становился безразличнее к опасности.
Еще недавно, какой-нибудь час назад, он был счастлив, что снова держит в руках огнестрельное оружие, несет для Черемных флягу, в которой что-то заманчиво булькает, несет медикаменты, галеты, сигареты – пусть бедные, но все-таки трофеи.
А сейчас, осмыслив печальные новости, он готов был клясть себя за то, что послал данные разведки своим, через линию фронта.
Все, все переменилось за эти двое суток.
«Выходит, медвежья наша услуга. Такие сведения не помогут командованию. Хоть кого с толку собьют. А может, штабисты догадаются, что Гитлер теперь – кондрашка его хвати! – каждый день в чехарду играет?
Добрались гонцы благополучно? Или пострадали? Может, еще вернутся? Пусть бы даже несчастье с ними случилось. Только бы не вручили по назначению устаревшие разведданные!»
Не задумываясь, он и сам распрощался бы сейчас с жизнью, лишь бы не дошла по назначению ложная разведсводка.
А если так, кто же его упрекнет в жестокости?
Одно слово – война, а у нее своя справедливость, своя жалость, своя совесть. Главное – дерись! Кровь из-под ногтей, а дерись! И не позволяй нервам собой командовать, не ленись прижиматься к земле, когда снаряд на излете, свои осколки не хуже чужих кожу дырявят…
38 Пестряков шмыгнул в скрипучую калитку, осмотрелся, с удовольствием трижды стукнул прикладом трофейного автомата о ящик, неловко сполз в подвал.
– Живой? – донеслось из темноты.
– Живой покуда, – мрачно отозвался Пестряков, изнутри надвигая ящик на лаз. – Я вообще живучий. Моя пуля еще не отлита…
Замерцала плошка в изголовье у Черемных. После долгой темноты фитилек показался обоим ослепительно ярким. Пестряков прикрыл глаза рукой, а Черемных зажмурился. Долговязая тень Пестрякова металась по стенам, потолку подвала, и тут-то Черемных увидел тени от автомата, висящего за плечом Пестрякова, и от каски. Тень от каски была какая-то по-чужому угловатая.
– С трофеями?
– Подобрал на поле боя.
– Понятно.
– Головной убор получи, – Пестряков достал из-под каски и надел на Черемных свою пилотку.
– Тепло в ней!.. А я уже не надеялся.
– Похоронил меня?
– Сам дожить не надеялся…
Пестряков подобрал в углу подвала трофейный пистолет и набил полную обойму; патроны цилиндрические, без шейки, и чуть потяжелее наших.
Как у нас одни и те же патроны подходят к ТТ и автомату, точно так же немцы могут стрелять своими патронами из автомата шмайссер, из вальтера и парабеллума.
– Получай трофейную пушку! – Пестряков торжественно положил заряженный парабеллум к изголовью Черемных.
Черемных несколько раз засыпал в отсутствие Пестрякова – стыдно признаться – с тайной надеждой не проснуться вовсе. И каждый раз просыпался, чтобы снова ощутить свою беззащитность, страдать от голода, от жажды, от боли и от холода.
Самая точная солдатская примета похолодания – вдруг шинель показалась тебе короткой. Ну никак не удается натянуть ее до подбородка, не обнажая при этом пяток!
А сейчас вот, когда Пестряков зажег плошку, Черемных впервые увидел морозные облачка его дыхания.
В последние дни холод донимал Черемных больше, чем боль. Он уже не понимал – то ли притерпелся к боли, то ли боль в самом деле пошла на убыль.
– Мог бы и раньше управиться. Да вот рука подвела, задрожала… – Пестряков ощутил острую потребность во всем признаться сейчас Черемных. – Сроду за мной такого не водилось, а сегодня…
– У меня – ноги. А у тебя – плечо, – не понял Черемных слов признания. – Лежу вот на твоей шее…
– Отставить, Михал Михалыч!
Пестряков торопливо отвинтил крышку от фляги, принюхался:
– Вроде оно. Ну-ка!..
– Что там?
– Горючее. Жаль только – не до горлышка. – Пестряков потряс флягой, жидкость в ней забулькала. – Вылакал, алкоголик! Но по нескольку добрых глотков наберется. Пригубь-ка, Михал Михалыч, с лечебной целью…
Черемных взял флягу, облокотился, морщась от боли, и осторожно, боясь пролить каплю, отпил из фляги два глотка. Он старался делать такие глотки, чтобы не показаться жадным.
– Оно? – Пестряков сгорал от нетерпения.
Черемных кивнул, но мог бы этого и не делать – воспаленные глаза его засветились горячим блеском, по лицу, заросшему черной щетиной, разлилось блаженство.
Затем пришла очередь пригубить флягу Пестрякову, и тот тоже сделал два умеренных, осторожных глотка.
– Высшего сорта шнапс, – крякнул Пестряков. – Неразбавленный.
Он плеснул самую толику шнапса на табуретку, поднес плошку, лужица жадно взялась синим пламенем и быстро испарилась.
– Градусов под шестьдесят, – определил Пестряков. – Такой шнапс и на перевязку сгодится. Для наружного употребления… Окончилась твоя диета, а точнее сказать, пост… Закусим, что ли, поскольку у нас сегодня банкет?
Пестряков величественно протянул Черемных пачку галет.
Сам он сгрыз одну галету. В еде, поскольку Пестряков опустошал кладовку, а Черемных в то время лежал натощак, никакого равноправия быть не могло.
Вытащили из пачки по сигарете. И когда Пестряков подносил плошку, а Черемных прикуривал, у обоих дрожали руки.
Оба жадно затянулись, и Пестряков подумал: «Эх, сейчас бы не такую вот сигаретку выкурить, а серьезную самокрутку, да чтобы тютюн был черниговский, а если самосад, то самый что ни на есть сердитый».
Но и сигаретка, рассчитанная, по давнему убеждению Пестрякова, на слабонервных рахитиков, у которых кишка тонка, оказалась бесконечно желанной, вкусной.
Огонек быстро подобрался к коричневым ногтям Пестрякова. Он сделал еще одну жадную затяжку, обжигая при этом не только кончики пальцев – губы, и лишь после того выбросил окурок.
Наверное, сказалось давнишнее недоедание, оба опьянели от шнапса, от сигарет…
Черемных кивнул с молчаливой признательностью. Голова его тонула в уютной пилотке, по всему телу разливалось невыразимое живое тепло.
А главное, он снова чувствовал свои ноги – вот она, правая, а вот – левая. После перевязки, которую сделал Пестряков, после того как он промыл раны шнапсом, и боль как будто утихла.
– Не зря тут коптимся, – подумал Черемных вслух. – Самое важное – донесение отправили. Правильно?
Пестряков только прокряхтел.
Не дождавшись отклика, Черемных добавил:
– Вот, наверно, в штабе обрадовались! Когда лейтенант наши разведданные доставил!
Снова молчание.
Пестряков спит? Черемных прислушался – донеслось неровное дыхание.
Нет, не может человек спать, если так дышит.
Но долго Пестрякову притворяться не пришлось.
Как подброшенный пружиной, он вскочил на ноги, схватил автомат и занял позицию у оконца.
Хоть Пестряков и был туговат на ухо, он явственно услышал шаги во дворе.
Тут же раздались три условных удара о ящик.
– Наши вернулись! – крикнул Пестряков и выдернул подушку из оконного проема.
39 Показались сапоги с высокими голенищами, грязные полы задранной шинели, прожженной на спине, и Тимоша легко спрыгнул с подоконника.
Он снял каску, пригладил спутанные белесые волосы и уставился пристальным, невидящим взглядом на фитилек плошки.
Черемных и Пестряков не отводили глаз от оконца, ожидая появления лейтенанта. Ну где он там замешкался? Ведь холодом со двора несет!
Но Тимоша не оглядывался и наконец сказал потупясь и очень глухо:
– Ждать некого. Не придет лейтенант. Убит он…
Черемных простонал.
Пестряков нагнулся за подушкой, чтобы закрыть проем, и остался стоять в такой позе недвижимо, словно подушка стала для него непосильной тяжестью и он был не в силах поднять ее выше.
– Как же это? – Пестряков все еще держал подушку.
– Не уберег я лейтенанта. – Тимоша развел руками, поднял голову и растерянно заморгал.
– Как же это? – Пестряков с трудом разогнулся и пристроил подушку на место.
И Тимоша сообщил печальные подробности, касающиеся его спутника.
Всю прошлую ночь фрицы, опасаясь нашей ночной атаки, освещали свой передний край. Помимо ракет они с этой целью поджигали в пригородных фольварках поочередно дом за домом, стог за стогом. Стога они поджигали не у подножия, а с верхушки. Сено при этом горит неторопливо, света хватает чуть ли не на всю ночь.
Далее Тимоша рассказал, что лейтенант решил пробираться через фронт по мелколесью, между двух озер, ту местность он по-чудному называл – дефиле или как-то еще в этом роде. В той стороне действительно пожары не горели, и на том участке переднего края фрицы не жгли ракет.
Тимоша опасался, что темнота – нарочная. Может быть, фрицы беспощадно минировали ту местность? Или вели другие оборонительные работы? Потому-то они и сидели там в темноте – не хотели себя обнаружить.
Тимоша на этот счет предупредил лейтенанта, но тот возразил, что темнота, какая ни есть, все-таки безопаснее прогулки при свете.
Все шло благополучно до того момента, пока они не миновали трансформаторную будку и мостик, наведенный фрицами из спиленных телеграфных столбов.
Пестряков протянул Тимоше сигарету. Тот машинально взял сигарету, даже не заинтересовался ее происхождением, не размял ее, не кинулся к плошке, не торопился закурить, словно минувшая ночь отучила его от курева.
За тем мостиком, продолжал Тимоша рассказ, по-прежнему не вспоминая о сигарете, которую держал в руке, они с лейтенантом нарвались на фрицев-минеров. Догадка насчет минного поля подтвердилась. Нет, темноте той доверяться нельзя было.
А местность, как назло, голая. Лесочек, хоть и щуплый, остался в стороне. Дерева поблизости приличного нет. Фрицы засветили ракету – видимость прямо-таки убийственная.
Тимоша шел впереди. Лейтенант – по его следам. Шагов на десять сзади.
В этом месте рассказа Пестряков одобрительно кивнул.
Фрицы закричали в несколько голосов «хальт». Застрочили из автоматов. И даже пулемет полыхнул. Просочиться сквозь такой огонь нельзя. Вступать в перестрелку бессмысленно. Тимоша мог отвечать только одиночными выстрелами. Он дал знак лейтенанту отходить.
Здесь Пестряков снова кивком одобрил решение.
Тимоша пятился назад, прикрывая собой лейтенанта. И надо же было так случиться – самого даже не поцарапало, а лейтенанту пуля прямо в лоб угодила.
В этом месте рассказа Тимоша наконец обнаружил, что он держит в руке сигарету, склонился над плошкой, жадно закурил и, пока не сделал несколько глубоких затяжек, не мог рассказывать дальше.
Тимоша залег возле лейтенанта. Со следующей ракетой фрицы что-то замешкались. Тимоша взял у лейтенанта, уже похолодевшего, документы, пистолет, планшет, мобилизовал его гранату. После короткого ближнего боя Тимоша переключился на третью скорость, и ему удалось оторваться от фрицев.
Только сейчас Черемных обратил внимание на планшет, который торчал у Тимоши за отворотом шинели.
Тот протянул Пестрякову планшет, выложил на столик документы и пистолет лейтенанта.
– Может, мы ошиблись маршрутом? Когда нырнули в темноту. Между двух озер…
Тимоша удрученно посмотрел на Черемных, затем поднял лихорадочно блестевшие глаза на Пестрякова, ожидая его ответа, как приговора себе.
– Вот ведь история какая… – Пестряков задумался. – На фронте не одним разумом живешь. И задним умом думать-соображать приходится. Где бездорожье – там и дорога. Где воздуха за осколками не видно – там и спасайся. Где худо – там хорошо. Плохая погода – самая лучшая. На фронте дважды два не всегда четыре. Иногда дважды два перемножишь, а получается ЧП…
Тимоша растерянно заморгал, силясь уразуметь – не звучит ли в этих словах скрытый упрек ему?
– Себя казнить, Тимоша, не за что, – твердо сказал Черемных, а затем добавил со вздохом: – Произвол судьбы!
– Я бы мобилизовался еще раз… В другом месте миновать фронт. Но боялся – доверия в штабе не наберу, сколько потребуется. – Тимоша растерянно развел крупными руками. – А потом, идти без гранат…
Пестряков только сейчас заметил, что Тимоша вернулся без гранат. Где же они?
– Пришлось свою и лейтенантову гранаты израсходовать. И холодное оружие в ход пустить. Когда документы выручал… Зато патроны остались…
Тимоша принялся набивать диск своего автомата патронами из запасной обоймы, из пистолета, взятого у лейтенанта, затем собрался вернуть Пестрякову кинжал и предварительно отер его полой шинели.
Но Пестряков безмолвно показал трофейный кинжал, висящий у него на боку. Тимоша увидел и чужую каску, и шмайссер, лежащие на тюфяке.
– Такие обновки и обмыть не грех. – Тимоша показал подбородком на трофеи.
Пестряков развел руками – кто же знал, что дорога приведет Тимошу обратно в подвал? Знал бы – оставил ему несколько глотков шнапса. Но Тимоша просто к слову сказал, он и не знал о благословенной фляге, ныне уже пустой, да и не такое сейчас у него самочувствие, чтобы думать о спиртном.
Ему очень хотелось вызнать все касающееся этих трофеев, хотя он и понимал, что любопытство сейчас неуместно.
По всему было видно, что Тимоша и сам не прочь похвастаться лихими делами, но не время вдаваться в подробности, а расспрашивать его никто не стал.
Все, что произошло после гибели лейтенанта, было сейчас неинтересно.
– Хорошо, Тимошка, что не ослушался. Один через фронт не подался.
– Приказ твой выполнил. Да что толку? Разведданные-то при мне остались!
– Понимаешь, какая история… – Пестряков все больше мрачнел. – Обстановка изменилась за последние сутки… И штаб переехал. И зенитки. И танки ихние появились. Ну все навыворот!
– А я, шляпа, – Тимоша постучал согнутым пальцем по своей каске, – не заметил ничего, когда возвращался через городок. Вот тебе глаза, вот тебе и уши… Выходит, от данных, какие мы собрали, одна фантазия осталась?
– Может, мне полагается у тебя, Тимоша, и у лейтенанта нашего прощения просить. – Пестряков тяжело глядел исподлобья то на Тимошу, то на Черемных. – Но я, когда последние новости вызнал, душевно не желал вам удачи. Даже опасался, что вы те старые сообщения в штаб сообщите.
– Какое там еще прощение! Дело солдатское, – сказал Тимоша просто и подсел к Черемных на кушетку. – Ну как, механик?
– По совести сказать?
– Как водитель водителю!
– Выздороветь – не хватает сил. А умереть – не хватает смелости.
– Разговорчики! – прикрикнул Пестряков. – Смелость для жизни беречь нужно.
«Тугоухий, а что ему нужно, всегда услышит». – Черемных улыбнулся.
Пестряков перебирал документы лейтенанта, содержимое его планшета – там хранились тетрадка со стихами, радиотаблицы, статья из журнала о какой-то непонятной радиолокации, боевая характеристика Тимофея Кныша, адресованная в штрафной батальон, пачка писем из Ленинграда, фотография девушки.
Девушка, пожалуй, красивее Настеньки – и носик построже, и брови разлетистей, и волосы пышнее, а может, только кажется, что она красивее, потому что одета, не в пример Настеньке, очень нарядно: Настенька сроду такой блузки не нашивала. Но вот глаза у лейтенантовой девушки схожи с Настенькиными – такие же большие, от ресниц тень ложится, а в глубине их живет доверие.
Пестряков сложил все документы и бумаги лейтенанта в планшет и спрятал его в мороженице, где хранился сверток со знаменем.
Только боевую характеристику Тимофея Кныша, составленную лейтенантом, он положил себе в карман.
– Ведь последний, честное слово, последний я уходил, – убеждал Тимоша таким тоном, словно ему не верили. – На себя огонь принимал. А лейтенант сзади меня пострадал. Прямо загадка!
– Загадку твою отгадать нетрудно, – усмехнулся Пестряков горько. – Габариты у вас с лейтенантом разные. Очередь поверху прошла. Тебя, коротыша, не зацепило. А лейтенант при его росте как раз себе пулю высмотрел. Мишень-то легкая! Так что ты себя, Тимошка, понапрасну не виновать.
– Меня все утешить старался, – вздохнул Черемных. – Жизнелюбивый такой!
– А стихи почему-то все больше жалостливые, со слезой, в обращении у него находились… Как он там читал-декламировал? – Пестряков обратил к Тимоше левое ухо.
Тимоша подсказал:
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага…
– Четыре шага? Оказалось – еще ближе, – внес поправку Черемных.
– Мне еще понравилась «Лили Марлей», – признался Тимоша. – Исполнял наш лейтенант. В переводе с фашистского. Между прочим, тоже жалостная песня…
– Какая может быть жалость, если там поется о немке? – Пестряков раздраженно передернул несимметричными плечами. – Вот невесту лейтенантову, ту действительно жалко…
– Ей теперь ждать некого…
– Легко тебе, Тимошка, на войне, – сказал Пестряков. – Один как перст. Душа о семействе не болит. За одного за себя в ответе.
– Родителю труднее, – поддержал Черемных. – Я вот сейчас Сергейку вспомнил – меня даже мороз обнял…
Тимоша ничего не ответил. Он долго шумно вздыхал и как неприкаянный ворочался на тюфяке, которого с избытком хватало на его рост.
40 – Э-э-эх! – бодро потянулся Тимоша после долгого сна. – Вот вспомню довоенную жизнь – хорошо люди жили!
Он проснулся такой оживленный, словно сон помог ему совладать с печалью или о той печали позабыл вовсе.
– О ком речь держишь? – насторожился Пестряков.
– Вообще обо всех. Жили хорошо. Даже вспомнить соблазнительно – до чего хорошо. Возьмите хоть меня. Шикарно жил! Папиросы «Беломор». Покупал сразу по десять пачек. После получки. Нормально. Не любил, когда курево в обрез. Часто пользовался и «Казбеком». Пойдешь в гастроном, там отдел такой был: «Деньги получает продавец». Кинешь на прилавок трешку да пятиалтынный, а продавщица спрашивает: «Вам «Казбек» или маленькую?» Нет, вы только подумайте! Четвертинка водки – три целковых пятнадцать копеек. Порядок. Ну разве плохо жили?
– Жизнь – она ведь не одними четвертинками измеряется.
– Правильно! Теперь возьмем закуски. Пойдешь в ресторан, сядешь за столик. Белая скатерть. Меню длинное-предлинное тебя дожидается. Вежливо!..
– Это все верно, – перебил Пестряков. – Но только какое бы то меню длинное ни было, жизнь еще длиннее.
– Разве речь только про выпивку и закуску? Пожалуйста! У нас на улице Фридриха Энгельса штук десять кинотеатров. Не пропускал ни одной картины!