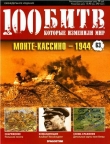Текст книги "Капля крови"
Автор книги: Евгений Воробьев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
А на крутых поворотах у Олега возникало противное ощущение, что танк пытается сбросить его, как сбрасывал сизые пучки хвои, пропахшей бензином…
И Олег снова с завистью взглянул на Тимошу. Тот безмятежно спал, увешанный оружием, на постели.
8 Чтобы скоротать время, лейтенант начал слоняться по комнатам, приглядываясь к обстановке, мебели, чужим вещам. Куда ни повернешься – замки, замочки, запоры, засовы. Одним словом – орднунг!
Ослышался? Нет, не ослышался – сверчок! Стрекотание доносилось из кухни, и непонятно было, как сверчок уцелел возле взорванной плиты. Сверчок в доме – к счастью. Но кого имеет в виду старая примета – хозяина или нынешних квартирантов?
По обеим сторонам трюмо развешана коллекция семейных фотографий. Все мужчины без исключения в военном. Все сидят, стоят, гордо выпятив грудь, выпучив глаза, одни – в старой, кайзеровской, другие – в гитлеровской форме. Выражение лиц от этого не меняется.
Фотографии быстро надоели, и лейтенант взялся за газету, лежавшую на этажерке. «Кенигсбергский ежедневный листок» за 25 октября 1944 года. Тотчас же под заголовком газеты сообщалось, что в этот день Восточная Пруссия должна затемняться с 17 часов 15 минут вечера до 5 часов 55 минут утра. Орднунг!
«Вот и нам эти сведения пригодятся», – подумал лейтенант.
Правда, нужно учесть, что после выхода газеты прошло время, а дни идут на убыль. Но все-таки около восемнадцати часов можно смело перебираться в подвал. До сумерек очень далеко, хорошо, если прожит полдень.
На днях Олег подобрал возле сожженного танка солдатскую книжку – зольдбух; уголок ее обуглился. Каких только сведений не было в той книжке о владельце – все-все, вплоть до того, какая у него группа крови, какой номер каски, номер обуви, чем награжден, от каких болезней сделаны прививки, сколько посылок отправил из России домой, в каких лазаретах лежал, номер пистолета, сколько кусков мыла получил, когда был в отпуске.
Лейтенанту, когда он перелистывал зольдбух сгоревшего танкиста, понравилась чисто немецкая обстоятельность. Орднунг! Он просто необходим на войне. Взять хотя бы радиотехнику, где обязательна скупая и точная мудрость расчетов и схем, а радисту полезно следить за каждым своим движением. Но здесь, в домашнем быту, этот орднунг претил, раздражал…
Где-то по соседству с домом разорвался снаряд, посыпались стекла. Занавески взметнуло взрывной волной, и они долго колыхались на внезапном сквозняке. Сквозь жалюзи проник пороховой угар.
Тимоша чихнул, сел на кровати, скользнул заспанными глазами по занавескам, прислушался. Затем лениво поднялся, проковылял в столовую и вдруг, нещадно топоча, принялся плясать, будто вбивал каблуками в пол видимые ему одному гвозди. Но тут же оборвал сумасбродную чечетку и, возвратясь в спальню, объяснил лейтенанту:
– Надо же подать сигнал. Еще главнокомандующий подумает: угодило в дом. А от нас тут одна копия осталась…
«А Тимоша правильно выбрал место, чтобы сплясать, – отметил про себя лейтенант. – Подвал как раз под столовой…»
Тимоша запустил руку в карман шинели и выгреб оттуда щепотку сора: смесь чая, сахарного песку и махорки. Он с печальным вниманием посмотрел на ладонь:
– Ни чай заварить, ни цигарку скрутить… – и вытряхнул сор на пол. – Да, товарищ лейтенант. – Тимоша поправил ремень. – Голод не тетка, пирожка но подсунет. А я бы сейчас не отказался даже от самых пустых щей…
Тимоша затейливо выругал хозяев дома, пожелал им до конца дней, если они живы, питаться только маком, перцем и лавровым листом.
– Разрешите обратиться с вопросом, товарищ лейтенант.
– Слушаю вас.
– В аптеках, например, продаются средства от запора. Культурно. И обратно – средства от поноса. Правильно я говорю?
– Абсолютно правильно.
– Придуманы лекарства от бессонницы. Для чудаков, которые ленятся заснуть. И обратно – лекарства для бодрости. Чтобы отгонять сон. У меня летчик был знакомый. Дальнего действия. Ему от сна выдавали такое средство. Перед полетом.
– Я вас не совсем понимаю.
– Теперь, скажем, продают аппетитные капли. Чтобы люди питались охотнее.
– Ну и что же?
– А почему медики не придумают обратные капли? От голода. Аппетит временно убивать… Эх, где-то мой паек сейчас бродит! Если только меня не списали с довольствия. Как жмурика… А я на этом свете хотел бы еще съесть краюху хлеба. До чего же он бывает аппетитный, этот хлеб! Корочка золотисто-коричневая. И вся такая хрусткая. У нас в Ростове-на-Дону хлеб пышный пекут. Укусишь немного, а нажуешь полон рот. Нормально. И крошки все подобрал бы сейчас. Ей-богу, не поленился бы. У меня и до войны аппетит был – уйди с дороги!..
Тимоша не без труда выпростался из необъятной перины, подошел к трюмо, сморщил кожу у переносья – так он хмурил несуществующие брови – и невесело сказал:
– Эк скрутило! Даже в землю врос от такой жизни… Меня лет до девятнадцати все мальцом звали или, по-ростовски сказать, шкетом. Чересчур подвеска у меня низкая. Чуть-чуть за землю дифером не цепляюсь…
Лейтенант оглядел Тимошу: верно, ноги у него коротки – этого не может скрыть и шинель до пят. Маленькая голова казалась приставленной к чужому торсу. А крупные, сильные руки были бы под стать человеку богатырского роста.
Тимоша туже затянул ремень с подвязанными гранатами и пустыми ножнами от кинжала, закинул автомат за плечо, вновь надел каску и добавил:
– Тебе-то повезло, товарищ лейтенант. Не обидели родители росточком. И плечи – извини-подвинься…
– Вам бы в танкисты… А мне в танк влезть или вылезть из него – это, поверите ли, акробатический этюд, эквилибристика. От этих люков, острых углов, выступов в башне – вечные синяки на плечах. Меня в танковое училище и принимать не хотели. Но потом, по-видимому, учли: коротковолновик, радиолюбитель, так сказать, «вольный сын эфира»…
– Эфир мне в прошлом году в медсанбате давали нюхать. Общий наркоз.
– Вы допускаете ошибку, смешивая эти два понятия. Видите ли…
Только лейтенант собрался объяснить Тимоше, что такое радиоволны и каким эфиром усыпляют на операционном столе, как в столовой раздалось утробное гудение. Стенные часы поднатужились и начали отбивать мелодичные удары.
Тимоша принялся отсчитывать:
– …двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять… – Будь у Тимоши брови, они бы от удивления уже поднялись высоко-высоко.
Наконец часы угомонились. Тимоша недоверчиво взглянул на них.
– А показывают четверть шестого. Когда день – в разгаре. Да что они, чокнулись?
– Я вас не понял. – Лейтенант тоже не отводил глаз от циферблата.
– Чокнулись – значит по-ростовски с ума спятили… Подарить бы эти часы фашистскому архиерею…
Было что-то жуткое и символическое в ошалевших часах. Они старательно тикали, во при этом потеряли власть над стрелками, над маятником, над временем. Часы контужены, как и вся гитлеровская Германия. Она тоже оказалась вне времени, и, хотя пружина заведена и механизм продолжает работать, стрелки часов давно идут вразброд, время фашистов истекло.
Лейтенант решил когда-нибудь написать об этих часах стихотворение. Он достал из планшета заветную тетрадку и долго что-то туда записывал, шевеля яркими, хорошо очерченными губами, совсем по-мальчишески мусоля карандаш.
9 Когда темнота сгустилась, они перетащили из дома в подвал все, что сочли нужным.
В подвале появились тюфяки, пуховые перины, одеяла, подушки, охапка белья, в том числе новехонькая, нестираная простыня.
Тимоша нарвал ее узкими лоскутами – перевязочный материал.
Большим подарком для всех было чистое белье. Вот это богатство!
На лейтенанта едва налезла рубашка с низким вырезом на груди, на перламутровых пуговичках и с вышитой меткой; рукав кончался где-то между локтем и кистью.
Сперва было Черемных отказался сменить рубаху, – боялся потревожить ноги или из суеверия? – но потом последовал примеру других.
Ну а Тимоше досталась рубаха подлиннее шинели. Лейтенант объяснил, что это ночная рубаха; немцы днем ходят в одной рубашке, а спят в другой – удобно, гигиенично. Тимоша беззлобно, с удовольствием ругал хозяина рубахи, пока с трудом заправлял полотняный шлейф в штаны.
– Ночная рубаха? Ну и ну… До чего додумались! Культурно. А в грязном белье я умереть никак не согласен… Интересуюсь – вши мертвых кусают или брезгуют?
– А у тебя водятся? – насторожился Пестряков.
– Как у Василия Теркина. Частично есть.
– Тогда тебе боевое задание – выбросить все грязное белье.
Тимоша послушно собрал узел с бельем, уволок его и забросил куда-то на соседний двор.
Притащили в подвал и отрывной календарь. Это тоже была выдумка Тимоши. Он повесил календарь, оборвал отжившие листки и при этом возмущался: зачем фрицам понадобилось коверкать русские слова и писать «октобер» и «новембер»?
У Черемных календарь никакого интереса не вызвал. Он не надеялся прожить столько, чтобы у него возникла опасность потерять счет дням. А Тимоша заявил, что он вообще отказывается умирать, не зная, какое это будет число и какой день недели. Дни недели, поскольку они на листках крупным почерком напечатаны, он всегда разберет, не разберет – так угадает, а если собьется – можно отсчитать дни от красного, воскресного листочка.
– По крайней мере будем знать, когда у какого фрица день ангела. Культурно. И когда новый месяц народится…
– До лунных ночей нам бы лучше из этого городка убраться, – встревожился Пестряков; к остальной болтовне Тимоши он отнесся без всякого интереса.
Притащили плошки со стеарином, спички, фаянсовую банку с маком, а затем Тимоша торжественно приволок такой же белоснежный ночной горшок. Можно было захватить и кое-что из посуды, но какой в том смысл, если нет ничего съедобного?
Для маскировки к оконцу подтянули валявшийся у стены, видимо, предназначенный для растопки ящик. Лейтенант взглянул на этикетку – ящик из-под пива.
Тимоша не поленился и наведался в дом еще раз. Он приметил там уксус, обрызгал им скрипучую калитку и облил ящик – сбить со следа и отвадить собак, если бы те заинтересовались чужими следами.
– Теперь порядок. – Тимоша был очень доволен собой. – Вот завоюешь какой-нибудь городок – не отдохнешь по-людски. Бродят славяне из дома в дом как неприкаянные. Ищут, где перина помягче. Но только мой ночлег обходили всегда.
– Чем это объясняется? – полюбопытствовал лейтенант.
– А я мел ношу в кармане, – Тимоша порылся в кармане, побренчал там всякой всячиной и достал замызганный мелок. – Присмотрю уютный домик – сразу пишу на дверях, на ступеньках: «Мины. Не входить!» Вежливо. Будто наследили саперы. Мины засекли, а еще не разоблачили. И череп с костями рисую для испуга. Как на трансформаторной будке. Все обходят дом стороной.
– Ну и дошлый же ты парень! – покачал головой Пестряков, и тень от уса черной стрекозой заметалась по его щеке. – Ни угрызений у тебя, ни совести…
– У меня, товарищ главнокомандующий, если хочешь знать, на том месте, где совесть была, давно пупок вырос, – незлобиво согласился Тимоша. – Такая уж моя судьба жизни. Чересчур умный. Много знаю – мало понимаю. Оттого и попал в штрафники…
Пестряков почувствовал в словах Тимоши желание исповедаться.
10 Тимоша честно заработал орден и медали, но ему не терпелось получить новые награды. И вот однажды разведчики под его началом отправились в ночной поиск. Перед разведчиками стояла задача – добыть «языка». Кнышу повезло: ему удалось блокировать немецкий блиндаж, стоявший на отшибе, в самом конце траншеи, и захватить сразу трех «языков» – унтер-офицера и двух телефонистов. Порядок. Дело было под Оршей, дивизия долго стояла в обороне, и добыть «языка» было не так-то просто. Тимоша отправил в штаб телефониста Франца, а двух других немцев – унтер-офицера Ганса и Рихарда – решил попридержать и упрятал их в бревенчатый овин под замок. Стоял у них такой овин за боевым охранением роты, на ничейной земле; к тому овину можно было добраться только ночью, да и то по траншее. Тимоша подкармливал немцев из пайка, который получал: двух разведчиков ранило во время ночного поиска, их отправили в полковой медпункт, одного убило, но Тимоша, по своему обыкновению, ротному писарю о потерях не сообщал, строевую записку не переписывал. Делалось это главным образом ради водочки, которую присылали на выбывших и которую сам бог велел пить за их здоровье или за упокой души. Нормально. Тут лишние порции щей да каши как нельзя более пригодились. Пленным по закону половина красноармейского пайка полагается, а Тимошины «языки» оказались прямо-таки на усиленном питании.
Прошло три дня – отвели в штаб Ганса. Еще два дня – отправили Рихарда. За каждого «языка» генерал орден обещал – шуточное ли дело! Вот Тимоша и решил сразу заполучить несколько наград. Да еще – чем черт не шутит! – может быть, и вторая звездочка ему на погон слетит.
Тимоше выдали высокую награду. Генерал не мог нахвалиться своей разведкой: «языка» за «языком» берут!
Ну а потом пленные немцы где-то в разведотделе штаба армии встретились на очной ставке и вывели Тимошу на чистую воду.
С его гимнастерки отвинтили новый орден, а заодно и старый орден с медалями ему улыбнулись, и лейтенантские погоны сорвали, и даже пояс отобрали, когда в трибунал вели. И получил бывший младший лейтенант Тимофей Кныш десять лет заключения, и попал с этим сроком в штрафной батальон.
– Все сразу заработал… – сказал Тимоша с нервным смешком. – Хотел удержать в одной руке три арбуза…
Вчера вечером в пылу перестрелки с фаустниками Тимоша потерял из виду других штрафников, которые ходили с ним в атаку. Может, драпанули герои? Он попытался пробиться к своим за канал, через каменный мост, но это не удалось.
И когда Пестряков запретил Тимоше идти наугад через линию фронта, он был прав. Тимоша потому так легко и смирился с приказом усатого грубияна, что в душе был с ним согласен.
Подставлять грудь под пули Тимоша и сам не торопился. Его всегда возмущала неумная горячность, которая приводит к потере осторожности. Это было несовместимо с представлением Тимоши о том, как он должен вести себя на фронте и как должны складываться его взаимоотношения с фашистами.
Нет, Тимофея Кныша голыми руками не возьмешь! И если ему суждено сгинуть в этом городке, то он постарается показать напоследок фашистам, что он за воин и сколько он стоит, бывший младший лейтенант, бывший дважды орденоносец, а ныне штрафник Тимофей Кныш, чья душа уже давно болтается между этим и тем светом.
Ранили бы его, как это трижды случалось с ним до провинности, – и все сразу встало бы на свое место. Значит, он кровью своей смыл проступок перед Родиной; и награды вернули бы ему, и звание. А то он воюет в штрафном звании от белорусского городка Сморгонь, столько рядом с ним людей упало и не поднялось, а он будто заколдован теперь от пуль и осколков.
Все люди мечтают о скорой победе, и ведь он тоже о ней мечтает, а все-таки страшно подумать, что вдруг завтра Гитлер объявит капитуляцию, отгремят последние выстрелы, фашизм выйдет с белым флагом, а он, Тимоша, так и останется должником.
И все-таки этот долговязый был прав, что не позволил ему вчера ретироваться из подвала. Остались бы от Тимоши только аппендицит да еще анкета!
Пусть даже его в штрафном батальоне сочтут дезертиром – он не позволит фрицам подстрелить себя, как желторотого цыпленка.
Чем пробираться на восток в одиночку, очертя голову, лучше притереться к этим танкистам. На фронте – как в больнице или в купе поезда: соседей себе по вкусу не выбирают. Это уж какие попадутся!..
«Может, у себя в танке лейтенант и не пентюх вовсе. Ныряет по коротким волнам, не тонет. И знамя свое выручил из огня. А по всему видать – парнишка доброй души. К стихам пристрастный. А в случае надобности – шпрехен зи дойч. В общем, с ним компанию водить можно.
Механик-водитель – тот не жилец на белом свете. От него уже землей пахнет. Лежит без движения, а душа у него еще воюет. Понимает ли, страдалец, что из-за него мы в ловушке сидим? Загораем при лампадке?
И чего этот долговязый корчит из себя главнокомандующего? Вот горлопан сивоусый! До седых волос дожил, ни одного лычка не заработал – кругом рядовой. А командовать берется, нахальничает. «Я приказал!», «Разговорчики!», «Отставить!».
Все-таки, хоть не хочется себе в том признаваться, Пестряков – воин стоящий. Не позволил умереть обезноженному механику-водителю. Да и меня отвадил от глупого азарта. Во всяком случае, Пестряков – никак не хуже того командира штрафного батальона, который спровадил в атаку и не позволил даже в свою карту заглянуть…»
11 Тимоша повернулся к свету и увидел, что Пестряков сидит у плошки, не отрывая взгляда от карты, расстеленной на столике.
Тщедушный язычок пламени, не больший, чем у свечи, высветлял густые брови Пестрякова, нос, подбородок и кончики прокуренных усов, оставляя все прочее в тени и тем самым делая все черты лица еще более заостренными.
Тимоша только сейчас обратил внимание на то, что сварливый десантник сильно изможден. Как для него широк воротник, как выдаются скулы!
И нечто похожее на сострадание шевельнулось в душе Тимоши.
– Эх, давай-ка лучше подкрепимся, товарищ Пестряков! – бодро воскликнул Тимоша, доставая фаянсовую банку. – Помнишь лозунг? Кто не кушает – тот не ест! Нам фрицы маку оставили. Вежливо. Я слышал, от мака быстро свертывает в сон.
– А тебе к чему? – усмехнулся Пестряков. – Ты и так дрыхнуть горазд…
Черемных повернул голову и тоже поглядел на банку, которой потрясал Тимоша.
– Бескормица, – вздохнул Пестряков, по-хозяйски складывая карту. – На четырех мужиков ужин!
– А как разделить этот мак? – поинтересовался лейтенант, – Научная проблема! Ведь это уже не теория, а практика бесконечно малых величин.
– Поштучно, что ли, считать? – улыбнулся через силу Черемных.
– Зачем? Буду отсыпать щепотками, – решил Тимоша. – Порядок. Сколько пальцы зернышек ухватят.
Через минуту все жевали маковые зерна, и Черемных тоже с трудом, но старательно двигал челюстями.
Первым, с прибауткой: «Тяжелобольной – аппетит двойной», закончил трапезу Тимоша, вторым – лейтенант, за ним неторопливо тыльной стороной ладони вытер рот Пестряков.
Он удрученно покачал головой:
– Правильно в народе говорится: семь лет мак не родил, а голода все не было. Только слюну зря извел.
Черемных облизал пересохшие губы.
– Не наелся – так не налижешься, – еще раз посетовал Пестряков.
Черемных сильно страдал от жажды. Солдат реже бедствует без воды, когда воюет в сельской местности. Бывало, фашисты, отступая, отравляли колодец: швыряли туда дымовую шашку или дохлую собаку. Но ведь не до всех колодцев доходили их грязные руки! Бывало, и родничок журчал поблизости. А вот в городе, где есть только сухие водопроводные краны, ржавеющие от безделья, раздобыть воду бывает трудней трудного.
Большая удача, что вода в бочке, которую Тимоша обнаружил в соседнем дворе, за конюшней, не зацвела гнилью. Тимоша снова принес флягу, напоил Черемных, и еще осталось чем утолить жажду остальным.
Отхлебнув воды, лейтенант улегся на тюфяк, который ему был короток; он лежал недвижимо и безмолвно, закинув руки за голову. Затем подвинул к себе плошку, достал планшет и, страдая от застенчивости, вызвался почитать стихи. Делать-то, пока день на дворе, все равно нечего!
Он читал вперемежку свои стихи и стихи, которые помнил наизусть или которые были переписаны в тетрадь. Как относятся к его виршам? Потому внимательно слушают, что деваться некуда? Возьмись он сейчас читать вслух довоенное расписание поездов – тоже не стали бы перебивать: все веселее, чем прислушиваться к канонаде.
Затем, чтобы отвлечь Черемных от боли, подсел ближе и принялся напевать ему вполголоса песни, которые помнил.
Пестряков сидел и слушал, приставив ладонь к уху. Больше всего ему понравилась песня «О чем ты тоскуешь, товарищ моряк»; в ней подробно и жалостно перечислялись несчастья моряка: фашисты погубили его семью, лишили крова.
Вообще же Пестряков отнесся к стихам со сдержанным уважением, но без особого восторга:
– Стихи – их до женитьбы читать полагается. В холостом звании. Я для стихов – перестарок…
Тимоша исполнил скабрезные частушки про Гитлера, они не понравились Пестрякову. Чтобы поправить дело, Тимоша вызвался исполнить песенку про медсестру под названием «Белый халатик», поется на мотив «Синего платочка». Но Пестряков, опасаясь, что Тимоша снова начнет ерничать, приказал не мешать лейтенанту и помолчать.
Лейтенант признался, что ему нравится популярная среди немецких солдат песенка «Лили Марлен». Радиостанция в Баранови– чах часто передавала «Лили Марлен» на русском языке. Тимоша попросил ее исполнить. Лейтенант вполголоса пропел куплет:
И когда твой милый голос призовет,
То даже из могилы подымет, приведет,
И тень моя тогда опять,
Как прежде, сможет рядом встать
С тобой, Лили Марлен!
– Так ей, этой немке, и надо, – сказал Пестряков, злобясь. – Пусть та Лиля привыкает с тенью спать!..
Он улегся на тюфяк, но долго еще ворочался и ворчал.
Уже в полудремоте Пестряков услышал голос лейтенанта, лежащего рядом:
– Эх, рацию бы мне сюда!
– Рацию? – Пестряков повернул голову влево.
Лейтенант вертел в руках обрывок шнура от шлемофона.
– Вдруг увидим что-нибудь интересное? Поделиться впечатлениями от городка… И шифр помню наизусть. Однажды номер Первый сказал мне: «У тебя, Голованов, память зашифрованная…»
– Шифр теперь без надобности. Как запал без гранаты. – Пестряков собрался было уже повернуться на другой бок, но задумался: – Говоришь, поделиться со своими?
– К сожалению, это только плод моей несколько разгоряченной фантазии. Рации-то нету… – Лейтенант свернул радиошнур и зачем-то снова спрятал его в карман кожанки.
– Какая тут фантазия? Добрые люди и без радио в разведке управляются…
– О чем думает радист, когда ему не спится… – пробормотал лейтенант уже сквозь сон.
А Пестряков долго лежал с открытыми глазами, взбудораженный нечаянным разговором.
Сон рассеялся без остатка.
12 Тимоша спал так прилежно, словно решил отоспаться за всю войну. Пестряков с трудом его растормошил.
– Эй, «глаза и уши»! Хочешь в разведку со мной податься? По городку пройтись.
– Ночная прогулка? Культурно. И перед сном прошвырнуться полезно. Очень рекомендуют врачи. По нервным болезням.
– Вдвоем всегда способнее, – сказал Пестряков, не принимая тона Тимоши. – А кроме того… – Пестряков запнулся, – глуховат я. Особенно с правого фланга.
– Слышимость я обеспечу. Мои звукоуловители в порядке, – заверил Тимоша весело и откинул каску на затылок, высвобождая оттопыренные уши.
– На броне сидишь, а в уши тебе бьет и бьет, – продолжал оправдываться Пестряков. – Кто помоложе, половчее – спрыгнет, отбежит. Я чаще опаздываю… А в результате – здорово, кума, купила петуха…
Если Тимоша на самом деле стоящий разведчик, он должен понять, как трудно вести разведку, когда тебя окружает обманчиво беззвучная ночь, когда зарева – немые, моторы – бесшумные, осколки – безголосые…
Тимоше очень понравилось, что Пестряков обратился к нему с просьбой, а не принялся сразу командовать. Тимоше самому претило сидеть в полном неведении. Надо же знать, что творится вокруг!
А кроме того, у него родилось злорадное желание проверить Пестрякова в деле, посмотреть, что это за птица такая усатая, не нырнет ли главнокомандующий лицом в грязь, и по праву ли он берется командовать опытными фронтовиками, которые в разведку не реже хаживали, чем до войны на танцульки.
Пестряков тоже настороженно приглядывался к своему компаньону, пытаясь определить, сколько он весит на солдатских весах в чистом виде, независимо от званий, наград и штрафов, так сказать, без тары.
Пестрякову было известно о их местонахождении не много. Дом с подвалом, куда они затащили Черемных, находится на южной окраине городка, южнее кирки. Когда небо подсвечено заревом или горит ракета, на севере виднеется шпиль ратуши; он подобен огромному штыку, воткнутому в низкое, дымное небо.
Крадучись, они вышли через распахнутую настежь калитку на улицу. Очередная ракета осветила дом напротив, уже знакомый Тимоше во всех подробностях. Он изучил этот дом номер двадцать четыре, глядя сквозь щелястые ставни из спальни.
Под каким же номером стоит дом, где они нашли убежище? Тимоша перешел в темноте на ту сторону улицы, дождался ракеты, подождал, пока она отгорит, вернулся к Пестрякову и доложил:
– Наш номер – двадцать один. Иначе говоря, очко.
Хорошо хоть, что ракеты вспыхивают через более или менее равные промежутки и можно каждый раз заранее лечь на землю или прижаться к стене дома, к забору.
Но разве задача только в том, чтобы не шевелиться, не двигаться, пока отгорает ракета?
Надо еще успеть высмотреть дорогу, по которой придется продолжать путь во тьме.
После слепящего света приходится каждый раз заново приноравливаться к мраку. В эти мгновения темнота такая плотная, что кажется, ее можно осязать пальцами.
Оба не могут пожаловаться на зрение, но Тимоше все-таки удавалось увидеть больше, потому что он ловчее и прилежнее припадал к земле. А ночью наблюдать удобнее снизу, чтобы все просматривалось на фоне неба.
Но мало того что нужно высмотреть дорогу, по которой предстоит идти. Следует все время приглядываться к вехам на пути. Нужно запоминать, изо всех сил запоминать – и во что бы то ни стало запомнить! – дорогу, потому что по ней ведь придется шагать-ползти обратно.
Низкое, облачное небо висит над островерхими крышами домов. Кажется почти сверхъестественным, что в такую ненастную ночь где-то в просвете между тучами светится одинокая звезда. Она похожа на трассирующую пулю, замершую в своем полете.
На востоке, за частоколом крутых черепичных крыш, небо в промельках, вспышках, отсветах далеких пожаров, в тревожном мерцании – бессонное зарево переднего края.
«Сколько же километров легло между нами и линией фронта? – попытался определить Пестряков. – Три, четыре, пять? Во всяком случае, не меньше трех».
Он снова прислушался: не донесется ли пулеметная очередь?
И ведь ветер восточный, помог бы звуку дойти!
Значит, фронт дальше.
Ветер несет с собой запахи гари, и кажется, что воздух нагрет пожарами и разрывами, что с востока дует поджаренный ветер.
Пестряков знает, что их дом – второй от угла, где находится бензоколонка, и что от того перекрестка прямо на восток тянется не то аллея, не то бульвар, и тянется прямо к горбатому мосту через канал. Следует держаться подальше от моста – там наверняка полно немцев.
Значит, их ночная дорога должна лежать не к перекрестку, где находится бензоколонка, и не к востоку, к горбатому мосту. Для начала хорошо бы пробраться к кирке, по крайней мере кирка – хороший ориентир.
Они двинулись по Церковной улице, прошли три квартала, свернули к востоку по улице с длинным названием, начинающимся на букву «А», и прокрались по этой улице «А» к скверу, возле которого топтались часовые.
Пришлось обойти сквер. Тимоша забрался по пожарной лестнице на крышу дома. Не кусты же, не бездействующий фонтан и не памятник какому-то военному охраняют часовые!
Ракета осветила сквер, насаждения в нем были какие-то странные. Тимоша вгляделся – так и есть: пушки под маскировочными сетями. Как он потом доложил Пестрякову, у него глаза остолбенели. Полная батарея!
«Противотанковый кулак, – рассудил Пестряков. – Затащат эти пушки в подъезды, в магазины. Или поставят на прямую наводку за углами домов. А вот танков не слышу. И Тимоша не чует. Танки бы себя звуком выдали».
Пестряков и Тимоша двинулись по улице «А» обратно к Церковной и повернули на север, к кирке.
Здесь передвигаться стало еще опаснее. Иные немцы разгуливали с карманными фонариками.
Пестряков первый заметил шестовку с толстым штабным проводом. Провод соединился с другим, вскоре пучок проводов стал еще толще – разведчики оказались на пути к какому-то штабу, но где штаб расположен, установить можно было лишь приблизительно; в районе кирки немцев топталось немало.
– Починим фрицам связь? Руки сильно чешутся, – Тимоша и в самом деле почесал руки.
Пестряков передал Тимоше кинжал, и тот быстро управился со своим пучком проводов.
– Ремонт телефонов в отсутствие заказчика, – прошептал он на ухо Пестрякову, возвращая кинжал.
Не столь важно вызнать, в какой именно дом тянутся штабные провода. Важно определить координаты квартала. К чему его привязать, этот квартал? Лучше всего к кирке. Но как измерить расстояние до нее?
Днем можно прикинуть расстояние на глаз. А как вести подсчет шагов ночыо, когда передвигаешься то ползком, то перебежками?
Тимоша лежал в водосточной канаве, слева от Пестрякова, на подстилке из прелых листьев, и ломал голову над тем, как бы засечь этот квартал, густо оплетенный штабными проводами.
– Карандаш есть? – спросил шепотом Пестряков и в ожидании ответа приставил ладонь к уху.
– Нету. Есть вечное перо трофейной марки. Только без чернил.
Пестряков раздраженно отмахнулся:
– Бумага есть?
– Нету.
– Эх ты, «глаза и уши»!
– А к чему бумага?
Пестряков оставил вопрос без ответа. Он не отводил взгляда от афишной тумбы; белые клочья объявлений шевелились на ее круглых боках.
Стойкий запах лиственного тления кружил голову Пестрякову. Может быть, он лежит в осеннем лесу, на самой что ни на есть грибной опушке? Нет, даже самый неприхотливый гриб откажется расти на мостовой, на тротуаре.
Или Пестряков лежит возле бани, где пахнет распаренным веником?
А может, это вовсе кладбищенский запах?..
– Читать по-ихнему можешь? – спросил Пестряков после долгого молчания.
– Пока не пробовал. Чересчур у фрицев азбука кляузная.
Пестряков распорядился сиплым шепотом:
– Собери-ка мне пригоршню угольков. Во-от на том пожарище.
По соседству чернел остов сожженного лабаза.
Наша батарея снова вела огонь, и осколки вокруг пели на разные голоса. Мелкие осколки пели высоко, осколки покрупнее – тоном пониже, а те, которые шли рикошетом, – и вовсе басовито.
К счастью, канавка, которая тянулась по краю тротуара, довольно глубокая.
– Прицел ноль-пять, по своим опять! – сказал Тимоша с нервным смешком.
– Ну сейчас-то, положим, прицел верный, – возразил Пестряков. – Кто же там знает, что свои по городу разгуливают?
Патрули попрятались, и зарева освещали пустой, вымерший город.
Пестряков до боли в глазах вглядывался в эмалированную табличку на угловом доме. Готическая вязь обозначает название улицы. А как его списать? Да взять и срисовать непонятные иероглифы!
Наконец Пестряков решился: поднялся во весь рост, метнулся к тумбе и при вспышке ракеты начал чертить углем на афише, срисовывая надпись с таблички на угловом доме.