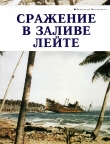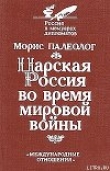Текст книги "Европа в эпоху империализма 1871-1919 гг."
Автор книги: Евгений Тарле
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 43 страниц)
3. Первые месяцы германской революции. Борьба спартаковцев против социал-демократов большинства. Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Созыв Национального собрания. Его партийный состав. Восстание спартаковцев. Второе восстание спартаковцев в Берлине. Убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург
Очень много воды успело утечь между этими двумя встречами. Когда 8 ноября 1918 г. Эрцбергер вошел в вагон маршала Фоша, он был представителем Германской империи; когда 11 ноября он подписывал в том же вагоне условия перемирия, он совершал этот акт уже от имени Германской республики, потому что 9 ноября произошел переворот. Но в течение всего своего пребывания в Компьенском лесу Эрцбергер знал, что в Германии бушует революция и что даже приблизительно нельзя сказать, во что она выльется. Эта неизвестность, с одной стороны, ослабляла позицию Эрцбергера перед лицом Фоша (если только можно было ее еще ослабить), но, с другой стороны, вносила некоторый элемент, который беспокоил Фоша и лиц, выше его стоявших, беспокоил всех правителей Антанты, хоть они и не хотели тогда в этом сознаться. Что, если в Германии произойдет социальная революция? Что, если эта революция перебросится дальше? Но даже если бы она дальше и не перебросилась, как заключать мир и взыскивать долги с Германии? Оккупировать ее? Но пример германской оккупации на Украине показывал, во что обращается армия, оккупирующая страну в подобный момент.
Теперь, 7 мая 1919 г., когда Брокдорф-Ранцау занял за столом свое место напротив Клемансо, элемент неизвестности успел значительно уменьшиться. Напомним, в главных чертах, что пережила Германия в эти полгода – между перемирием и сообщением германским делегатам полного текста проекта мирного договора.
Мы видели, что начавшееся в последние три дня октября 1918 г. в Киле и портовых городах революционное движение перебросилось в армию и уже 7–8 ноября охватило Мюнхен, некоторые крупные центры запада (Кельн, Майнц) и стало приближаться к Берлину. 9 ноября в 12 часов дня рабочие покинули фабрики и начались громадные процессии по всем главным улицам столицы. Была провозглашена всеобщая стачка, и образовавшийся в Берлине Совет солдатских и рабочих депутатов стал в эти первые часы во главе движения. Сразу же обнаружилось, что берлинский гарнизон присоединяется к революции. Канцлер Макс Баденский передал свои полномочия члену президиума социал-демократической партии Фритцу Эберту. Одновременно, своею властью, он опубликовал об отречении Вильгельма II и его сына от престола. В послеобеденные часы процессии из разных частей города стали сосредоточиваться близ рейхстага. Бесчисленные красные знамена и плакаты с девизом: «Мир, свобода, хлеб!» высились над толпой. Из окна рейхстага Шейдеман обратился к народу с речью, в которой говорил об отречении императора, провозглашал «Великую германскую республику» и увещевал воздерживаться от насилий.
Почти одновременно Карл Либкнехт говорил народу из императорского дворца. Либкнехт, освобожденный из заключения (продолжавшегося с 3 мая 1916 г.) 21 октября 1918 г., стал во главе Спартаковского союза, принявшего программу и платформу Советской республики. Власть перешла в руки шести народных уполномоченных (Volksbeauftragte), где влияние было разделено между шейдемановцами и независимыми социалистами. В Совет народных уполномоченных попали Эберт, Шейдеман, Ландсберг, Гаазе, Дитман и Барт. Независимые (не все, но некоторые) сильно симпатизировали в это время спартаковцам.
Шейдемановцы, однако, с первых же дней решили начать борьбу. Лозунгом их был созыв Национального учредительного собрания, и на их сторону стала вся очень сильная, несмотря ни на что, германская буржуазия. На стороне спартаковцев в то время была могучая сила: гнев за страшные страдания народа во время нелепо начатой истребительной войны, полное крушение старой власти, унижение, падение монархии, раздражение масс по поводу поведения шейдемановцев во время войны. Но на стороне социал-демократов большинства были иные силы, социологически более даже и в тот момент прочные, которые должны были восторжествовать, хотя и не без борьбы, собственно говоря, в тот момент вокруг них сгруппировались все силы буржуазной Германии.
Конечно, колоссальную роль сыграло и то, что перемирие было уже заключено, никто больше не гнал солдат на фронт, и армия не имела непосредственных поводов стоять за дальнейшее углубление революции. Нужно еще прибавить, что явное нежелание Антанты вести переговоры с кем бы то ни было, кроме Национального собрания, также сильно поднимало шансы последнего в борьбе против спартаковцев. Стоит почитать мемуары княгини Блюхер, чтобы навсегда запомнить ее ликование при известии, что Антанта не хочет вести переговоры с крайними революционными элементами. Именно с этого момента княгиня Блюхер и удостоверилась в поражении спартаковцев. Наконец, раз уж речь зашла о сравнениях с Россией, нельзя забывать, что в России вся деревня (т. е. почти вся страна) была давно уже минирована и почва для социального взрыва была налицо, даже независимо от рабочего вопроса, от армии, от всех прочих условий. А в Германии, в деревне, рядом с батрачеством существовало сильное собственническое крестьянство, многочисленная и организованная сельскохозяйственная мелкая буржуазия, крепко спаянная с крупными землевладельцами не только идейно, но и организационно (вспомним Союз сельских хозяев). Крупные аграрии, мелкие землевладельцы, владельцы «рыцарских поместий», крестьяне-собственники, словом, все владельцы и руководители сельскохозяйственной промышленности делали золотые дела в первые годы после войны.
До войны в Германию ввозилось очень много продуктов для питания: почти 25 % всего иностранного ввоза составляли хлеб, всякого рода овощи, живность. В 1919–1920 гг. этот ввоз еще усилился и дошел до 40 % (всего ввоза из-за границы). С 1921 г. ввоз этих продуктов стал уменьшаться, и довольно круто. Катастрофа марки мешала делать большие закупки за границей. И вот тогда-то крупные и мелкие землевладельцы сделались монополистами внутреннего рынка. Деревня стала люто эксплуатировать город. Продолжалось это во все время бумажной инфляции: в 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 гг. Землевладельцы продавали свои продукты по неслыханной цене и немедленно же скупали дома, бриллианты, жемчуг, рояли, картины, автомобили, мебель, расширяли свое хозяйство. Вся собственническая деревня деятельно поддерживала контрреволюционное движение в эти первые критические, послевоенные годы. Все эти обстоятельства вместе оказались сильнее того бурного гнева, который на некоторое время сделал Карла Либкнсхта и Розу Люксембург истинными вождями революционного наступления.
В этой книге, имеющей целью главным образом лишь отметить основные вехи в развитии событий, было бы неуместно излагать день за днем историю борьбы спартаковцев против социалистов большинства в ноябре, декабре, январе 1918–1919 гг., хотя эта борьба полна самого захватывающего интереса, и не только потому, что яркие, трагические фигуры Либкнехта и Розы Люксембург приковывают к себе внимание. Для социолога, для исследователя массовой психологии, для политика детальное изучение этого периода (в настоящее время еле начавшееся) может представить колоссальный интерес. Поражение революционного меньшинства в 1919 г. было предрешено отмеченными выше особенностями исторической германской обстановки. Но перипетии борьбы полны глубокого значения.
Тут ограничимся лишь напоминанием некоторых моментов. Борьба в течение первого месяца в Берлине, в Киле, в Мюнхене, в Вюртемберге, в Саксонии между спартаковцами и социалистами большинства все обострялась. Независимые колебались между обоими лагерями.
16 декабря 1918 г. собрался конгресс рабочих и солдатских Советов Германии. На конгрессе обозначилось резкое расхождение в недрах партии независимых социал-демократов: одна часть (под предводительством Ледебура) сблизилась со спартаковцами, другая (Гаазе) заняла позицию, более благоприятную для социал-демократов большинства. Левая часть конгресса стояла за лозунг «Вся власть Советам»; правая часть – за Учредительное собрание. Съезд проходил при очень напряженной атмосфере, заседания прерывались нередко грандиозными демонстрациями рабочих. Эберт, Шейдеман энергично вели агитацию в пользу Учредительного собрания. В конце концов за Учредительное собрание и созыв его не позже 19 января 1919 г. высказалось 400 голосов против 75.
Но революционное возбуждение после этого не упало. Напротив, мысль о непосредственном вооруженном восстании все более и более распространялась среди спартаковцев и части независимых. После конгресса Советов революционная борьба в Германии вступила в особенно острый фазис. Народная морская дивизия (Volksmarine-Division), главная вооруженная сила в декабре 1918 и январе 1919 г. в Берлине, склонялась к лозунгу «Вся власть Советам». Правительство («народные уполномоченные») не имело единой тактики и колебалось. Попытка народных уполномоченных свести численность «морской дивизии» с 1600 человек до 600 не удалась. На почве этой борьбы из-за морской дивизии 23 декабря 1918 г. вспыхнуло восстание. Правительство вызвало на помощь себе генерала Лекиса с войсками из Потсдама. Вооруженная борьба длилась два дня – 23–24 декабря, и с обоих сторон были убитые и раненые. В конце концов матросы морской дивизии оставили занятый ими дворец, причем их выпустили с оружием в руках. Возбуждение ничуть не прекратилось после этого первого столкновения. Центральный Совет солдатских и рабочих депутатов большинством голосов высказался за политику «народных уполномоченных», которые вызвали из Киля Носке и включили его в свой состав (тотчас после 23–24 декабря). Все это предвещало неминуемый новый взрыв. В столице происходили непрерывные демонстрации. В день похорон убитых матросов на одних плакатах значилось: «За Эберта и Шейдемана»; на других: «Долой кровавых собак – Эберта и Шейдемана».
Резко революционно была настроена, в частности, масса безработных.
В первое время после войны целый ряд обстоятельств способствовал болезненно-сильному кризису безработицы в Германии.
Во-первых, уничтожение армии (не демобилизация, как в других странах, а уничтожение – по Версальскому договору – воинской повинности) выбросило на рынок предложения труда 940 тысяч человек, которые прежде были в мирном составе германской армии или обслуживали армию и ее учреждения, – и это уже принимая в соображение 100 тысяч человек, которые получили заработок в разрешенной Версальским договором новой армии.
Во-вторых, уничтожение (в первые годы) торгового пароходства лишило заработка 77 тысяч человек, прежде кормившихся при этом деле.
В-третьих, высылки или добровольные переселения немцев из всех потерянных Германией частей ее территории (Эльзас-Лотарингии, Познани, Западной Пруссии, Силезии, Эйнена и Мальмеди, северного Шлезвига), а также из всех колоний, полностью потерянных Германией. В общем этих новых пришельцев, неимущих и безработных, считают около 800 тысяч человек.
В-четвертых, в первый год после войны социально-политические потрясения сильно сократили производство, и много рабочих было выброшено на улицу. Если статистика показывает, что официально зарегистрированных безработных оказалось, при этих условиях, 1 миллион человек, а не больше, то это объясняется тем, что среди 2 миллионов убитых и искалеченных на войне был громадный процент рабочих, «освободивших» таким образом свое место…[187]187
Ср. Wunderlich Т. Die Bekampfung der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Berlin, 1925.
[Закрыть]
Из безработных около 1/4 было сосредоточено в Берлине. Но ул «о со второй половины 1919 г. положение стало улучшаться. Вследствие падения германской валюты спрос на немецкие товары быстро возрастал, и к концу 1919 г. безработных в Германии было всего 400 тысяч человек, а к 1 июня 1920 г. – 270 тысяч. Правда, были еще перебои, но в общем безработица продолжала уменьшаться. Это не значит, что рабочий класс стал переживать сколько-нибудь нормальные времена.
Не забудем, что именно в эти первые месяцы после перемирия народ, особенно рабочий, узнавал то, что так долго скрывала военная цензура, и вся чудовищность и нелепость политики, приведшей к войне и действовавшей во время войны, выяснялась все более и более. Разоблачения следовали за разоблачениями, и многие из тех (не только рабочих, но и из интеллигенции, из мелкой, а отчасти и средней буржуазии), которые не разделяли коммунистической программы Либкнехта и были по своим взглядам гораздо ближе к правым социал-демократам или буржуазным радикалам, в эти первые недели после войны ненавидели Эберта, Шейдемана, Носке, Давида и их товарищей за моральное соучастие в политике павшего императорского правительства, за косвенное участие в систематической лжи, которой питали народ четыре с половиной года подряд. А Либкнехт стоял в эти дни перед народом в ореоле героя, не побоявшегося никаких преследований и заплатившего годами тюрьмы за то, что не хотел лгать и пытался открыть Германии глаза на ту пропасть, куда ее толкали. Его моральное влияние в конце 1918 и начале 1919 г. было чрезвычайно сильно, и притом вовсе не только в левых кругах рабочей массы. То же самое нужно сказать о Розе Люксембург.
Что касается рядовых спартаковцев, то резко революционное настроение их лучше всего характеризуется вотумом на общегерманской спартаковской конференции (собравшейся 30 декабря 1918 г.), где предложение Либкнехта и Розы Люксембург принять участие в выборах в Учредительное собрание было провалено левым большинством (62 голоса против 23). В Руре и других промышленных областях спартаковские выступления против социал-демократов большинства все учащались и учащались. Независимые социалисты ушли из Совета народных уполномоченных, а также из прусского министерства. Но Эйхгорн, начальник берлинской полиции, заявил, что он не желает покидать своего поста, хотя правительство, зная, что он примыкает вполне к идее нового восстания, желало его удалить. 5 января 1919 г. вспыхнуло новое восстание под лозунгами: «Долой Эберта и Шейдемана» и «Вся власть Советам». Восставшие к вечеру заняли редакцию «Vorwarts» и некоторых других газет.
Во главе правительственных сил встал Густав Носке, член социал-демократической партии большинства. Он обратил на себя внимание еще в первые дни ноября, когда по предложению Шейдемана был отправлен в Киль, где впервые вспыхнула революция. Он был тогда назначен командующим войсками в Киле. Носке принадлежал к крайнему правому крылу социал-демократической партии. Будущий биограф Носке, вероятно, потратит немало усилий, чтобы уяснить себе, почему Носке вообще оказался в социал-демократической партии. По всему своему настроению и складу он был и до войны и во время войны добрым бравым германским патриотом общепринятого казенного образца, националистом, сначала радостно уверенным в военной победе, потом тоскующим, что она ускользает. Если он и любил что-либо всей душой, то именно эту будущую германскую военную победу над всеми врагами и супостатами; если что ненавидел безмерно, со всей страстью, то именно идею революции. Но тут у нас нет места останавливаться на психологическом анализе. Нужно лишь отметить, что у этого человека были очень крутая воля и решительность и очень большой и ярый азарт борьбы, и он эти свойства тотчас же пустил в ход в деле подавления революционного движения.
6 января 1919 г. он принял командование всеми вооруженными силами в столице. После уличных боев, то возобновлявшихся, то прекращавшихся в течение нескольких дней, 12 января победа правительства обозначилась вполне ясно. Уже 6 января против восставших двинуты были оставшиеся на стороне правительства войска, а также добровольцы, которым было роздано оружие. День прошел без решительных актов со стороны восставших. К вечеру обнаружилось, что спартаковцы не могут рассчитывать на помощь некоторых воинских частей, о настроении которых еще до восстания были получены благоприятные для спартаковцев сведения.
10 января правительственные войска пытались овладеть зданиями захваченных спартаковцами газет, но были отброшены. Носке устроил свою главную квартиру в Далеме, в предместье Берлина. 11 января Носке решил, что у него достаточно сил (все эти дни к нему подходили войска из провинции), и перешел в наступление. Занятые здания были отняты у спартаковцев, и в разных частях города начались частичные бои, очень упорные и кровопролитные. Многие спартаковцы были в эти дни 11–14 января расстреляны без суда и следствия во дворе драгунских казарм. Ледебур был арестован; Эйхгорн, Либкнехт, Роза Люксембург избежали немедленного ареста, по вскоре Либкнехт и Роза Люксембург были арестованы в Вильмерсдорфе (в Берлине). Они были задержаны 15 января в половине десятого вечера.
Арестованные были привезены для предварительного допроса в отель «Эден», где помещался штаб кавалерийской стрелковой дивизии. Из отеля их должны были доставить в Моабитскую тюрьму. Но когда Либкнехта вывели из отеля, гусар Рунге изо всех сил ударил его несколько раз рукояткой револьвера по голове, а спустя несколько минут, когда автомобиль с арестованным уже был в Тиргартене, Либкнехт был убит начальником конвоя капитаном Пфлугк-Гартунгом (который утверждал, что стрелял в Либкнехта потому, что тот будто бы пытался бежать: вся обстановка убийства решительно противоречила этому утверждению). Когда из отеля «Эден» вывели Розу Люксембург, сначала ее ударил по голове тот же гусар Рунге, а затем, когда ее уже посадили в автомобиль, лейтенант Фогель, вскочив на подножку автомобиля, выстрелил в нее из револьвера. Труп убитой был брошен в канал. После нескольких сознательно лживых показаний о мнимой попытке бегства Либкнехта и Розы Люксембург, обстоятельства преступления были все же выяснены, и тем не менее виновные (Рунге и Фогель) понесли совсем ничтожное наказание, а Пфлугк-Гартунт был оправдан.
Первый, самый сильный шквал германской революции, начавшийся в последних числах октября 1918 г., этим январским восстанием закончился.
4. Революция в Баварии. Убийство Курта Эйснера. Начало и конец Советской республики в Мюнхене. Начало заседаний Национального собрания. Избрание Эберта президентом республики. Кабинет Шейдемана
Дольше держалось (в этом первом фазисе германской революции) революционное движение в Баварии, где монархия была низвергнута еще за день до берлинской революции, уже 8 ноября 1918 г. Первым министром революционного правительства Баварии стал социалист (независимый) Курт Эйснер. Он мечтал о широчайших социальных реформах, но все внимание его поглощено было внешней политикой.
Идея Курта Эйснера с самого начала его деятельности в качестве баварского министра-президента (т. е. с момента баварской революции) заключалась также в целой системе защиты интересов побежденного германского народа от непомерных требований Антанты. Эта защита основывалась на том, что германская революция, устранившая «виновников» мировой войны, тем самым позволяет отныне германскому народу надеяться на справедливое отношение со стороны победителей. Но для этого требовалось, по его мнению, решительное отмежевание новых, революционных властей от какой бы то ни было солидарности с павшими германскими монархами и прежде всего с империей Гогенцоллернов. У Курта Эйснера было вообще глубокое нерасположение к верховенству Пруссии над другими частями Германии, и он с недоверием относился также к Эберту и Шейдеману, к социал-демократам большинства, в эти дни, после ноябрьского переворота, возобладавшим в Берлине. Из всех этих настроений Курта Эйснера (а его поддерживали в первое время все независимые социал-демократы и даже некоторая часть мелкобуржуазных радикалов) сложилась тактика резко самостоятельной внешней политики Баварии, причем эта политика должна была направляться к примирению и сближению с Антантой.
Внешняя политика Курта Эйснера в это первое время после ноябрьской революции пользовалась также некоторой поддержкой могущественной в Баварии католической партии центра: была слабая надежда как-то добиться этим путем пощады от победителей, может быть, для всей Германии, а особенно для Баварии. Это был слишком оптимистический и ошибочный взгляд. Курта Эйснера в его оптимизме поддерживал очень деятельно назначенный им на пост баварского посланника в Швейцарии профессор Ферстер, убежденный пацифист. Ферстер в Берне, где он жил, вступил в сношения с доверенным человеком самого Клемансо и долгое время думал, что французский первый министр пойдет на некоторое снисхождение к побежденным, если поверит в искренность отказа новой Германии от прежней политики и прежних настроений. Слабость этой позиции заключалась в том, что Антанта, с одной стороны, стремясь к отделению Баварии от Германии, с другой стороны, ни одного момента не помышляла хоть сколько-нибудь смягчить для той же Баварии общие условия подготовляемого мирного трактата. Поэтому Клемансо стороной и негласно изъявлял в общих выражениях свое благоволение к Баварии, но ровно ничего не только не делал для нее, но даже и не обещал. Кроме того, правительство Курта Эйснера, резко отрицательно относясь к Шейдеману и шейдемановцам, не усматривало союзника и в Карле Либкнехте, напротив, полагало, что если спартаковцы возьмут верх, то Антанта окончательно раздавит Германию. Так, прежде всего, казалось баварскому послу Мукле, назначенному в Берлин Куртом Эйснером[188]188
См. его донесение Курту Эйснеру от 19 ноября 1918 г. в книге члена баварского ландтага Дирра, опубликовавшего ряд документов эпохи правления Курта Эйснера (Auswdrlige Politik Kurt Eisners. Munchen, 1922, стр. 248.)
[Закрыть].
Таким образом, правительство Курта Эйснера разделяло в этот момент общую участь «независимых» социал-демократов в Германии: оно не опиралось ни на правый, ни на левый фланг и обречено было на слабость и одиночество. Оно держалось, повторяю, теми надеждами, которые на него некоторое время возлагались в области внешней политики. Во всяком случае Давид, Шейдеман, Эберт были так ненавистны Курту Эйснеру, он до такой степени считал их в прошлом помощниками, а в настоящем – продолжателями Вильгельма II, что решил круто взять иной, вполне самостоятельный от Берлина курс баварской внешней политики.
Тогда-то, 24 ноября 1918 г., он и сообщил прессе тот знаменитый документ, о котором я упомянул, говоря о начале мировой войны. Это был доклад, посланный 18 июля 1914 г. советником баварского посольства в Берлине Гансом фон Шеном тогдашнему баварскому министру-президенту графу Гертлингу. Впечатление как в Германии, так и за ее пределами было потрясающее. Выходило, что германское правительство не только знало о характере австрийского ультиматума Сербии, но и знало о том, что последствием непременно будет война и что именно для устройства себе лазейки и для отвода глаз Вильгельм выехал на морскую прогулку, так как именно эта цель и была указана заблаговременно фон Шену имперским германским правительством. Все оправдания Бетман-Гольвега (еще жившего в 1918 г.), будто речь шла «только» о войне Австрии против Сербии, а не об общей европейской войне, плохо помогали делу: опубликованный документ продолжал производить подавляющее впечатление. Одновременно Эйснер опубликовал еще два документа (того же времени – июль 1914 г.) для доказательства, что Германия не желала, чтобы Австрия приняла предложение Грея о посредничество; но эти документы не произвели такого впечатления, да и в самом деле они не очень доказательны сами по себе.
К слову замечу, что Эйснер и в первом документе допустил некоторые сокращения, но они по существу нисколько дела не меняли (хотя его враги потом обвинили его в «подлоге» и т. д.).
Убийственное впечатление от публикации Курта Эйснера не только в спартаковских, но и в социал-демократических кругах и в широких буржуазных кругах было таково, что сановники павшего строя сразу оказались в положении обвиняемых. Сам Эйснер так характеризовал смысл своего поступка: «Каждому, кто умеет читать, каждому, кто честен, я показал, как преступная шайка (eine verbrecherische Horde) людей инсценировала эту мировую войну, подобно тому, как ставят на сцене театральную пьесу. Потому что эта война не возникла, а ее сделали» (denn dieser Krieg ist nicht entstanden, er ist gemacht worden). Особенно сильное впечатление произвела эта сознательная подготовка лазейки (отъезд Вильгельма на морскую прогулку, чтобы усыпить внимание и доказать свою непричастность к австрийскому ультиматуму).
Спартаковцы требовали «суда над преступниками». В Англии, повторяя старые слова Ллойд-Джорджа, что Вильгельм в самом деле хотел не этой войны, а другой, более для него успешной, «Westminster Gazette» писала: «Никогда в истории ни одно преступление не было подготовлено с большим хладнокровием и большей обдуманностью». Во Франции разоблачения Курта Эйснера были приняты как решающее доказательство инициативной роли Германии в войне. Этот акт опубликования документов ускорил, несомненно, трагическую развязку: в монархических и националистических кругах твердо решили отделаться от Эйснера, на которого там смотрели и как на классового врага, и как на государственного изменника. Подавление спартаковского январского восстания в Берлине сильно приободрило всюду, в том числе в Баварии, назревавшую уже социальную реакцию. За свое короткое правление Курт Эйснер успел обнаружить также стремление поставить на очередь ряд широких социальных реформ, и собственнические круги убеждены были в том, что правление Курта Эйснера является как бы подготовкой торжества спартаковцев. Вражда вокруг него все нарастала.
Избранный 12 января 1919 г. баварский ландтаг дал большинство буржуазным партиям. Крестьянская, собственническая, мелкобуржуазная, капиталистическая Бавария избрала ландтаг, большинство которого было очень враждебно настроено против Эйснера.
21 февраля ландтаг собрался в Мюнхене. В самый день открытия ландтага, 21 февраля 1919 г., Курт Эйснер был убит монархистом, лейтенантом графом Арко. Страшное возбуждение овладело как спартаковцами, так и независимыми социалистами в Баварии. Уже в марте состоялся съезд Советов в Мюнхене, и президентом Баварской республики был избран независимый социалист Зегетц. Попытка компромисса (предлагалось со стороны социал-демократов одновременное существование как ландтага, так и Советов) не удалась, лапдтаг избрал премьером социал-демократа (большинства) Гофмана. 4 апреля войска, бывшие на стороне Советов, овладели зданием баварского сейма и провозгласили Советскую республику.
Низвергнутое баварское правительство с Гофманом во главе переехало в Бамберг, а Мюнхен и (временно) города Аугсбург и Вюрцбург остались во власти Советского правительства. Деревенские районы примкнули в большинстве к правительству Гофмана. Имперское правительство послало войска на помощь Гофману, и в первых числах мая Мюнхен был занят антисоветскими имперскими и баварскими силами. Начались жестокие репрессии, очень нескоро окончившиеся[189]189
Интересующихся подробностями отсылаю к содержательной книжке: Левинэ Р. «Советская республика в Мюнхене» (вышла также в русском переводе в 1926 г.).
[Закрыть].
В Саксонии революционное движение в последние два месяца 1918 г. и в первые месяцы 1919 г. протекало параллельно с движением в Берлине и стало идти на убыль с середины января 1919 г. А 4 февраля в Дрездене собрался уже ландтаг Саксонской республики (42 социал-демократа – шейдемановца, 15 независимых, 13 немецко-национальной партии и 4 народно-немецкой партии). Как и в других отдельных германских государствах (кроме, как мы видели, Баварии), первый наиболее острый фазис революционного движения, поскольку дело касается 1919 г., закончился во второй половине января и в феврале. (О позднейших взрывах германской революции речь будет идти в другом месте.) Но спартаковские отдельные выступления еще продолжались и продолжались (17–21 февраля в Руре, 3—16 марта в Берлине, в начале февраля в Бремене, в апреле и начале мая в Лейпциге и т. д.).
С напряженным интересом в Германии ждали открытия Национального учредительного собрания. Еще 30 ноября 1918 г. был опубликован избирательный закон (установленный «народными уполномоченными», о которых речь шла выше). По этому закону и позднейшим к нему прибавлениям избирательными правами пользуется каждый германский гражданин, достигший 20 лет, без различия пола. По этому закону около 35 миллионов человек получали право участия в выборах. Фактическое участие приняло около 30 1/2 миллионов; выборы произошли тотчас после подавления восстания в Берлине, 19 января 1919 г. Вот их главные результаты:

В общем за обе социалистические партии было подано 13 827 тысяч голосов 9, за буржуазные партии, поддерживающие республику (центр и демократическая партия), – 11 622 тысячи голосов, за монархистов (германско-национальная и германско-народная партия) – 4467 тысяч голосов. Спартаковцы отвергли участие в выборах.
Национальное собрание открыло свои заседания 6 февраля 1919 г. в Веймаре. Спустя пять дней (11-го) оно избрало президентом Германской республики Фрица Эберта (члена социал-демократической партии большинства, бывшего рабочего-седельника), а 13 февраля был образован кабинет министров, куда вошли представители социал-демократов большинства, демократов и центра. Первым министром стал Шейдеман, военным – Носке, иностранных дел – граф Брокдорф-Ранцау. Председателем Национального собрания был избран Ференбах, бывший президентом рейхстага во время войны (член партии центра). Это было очень характерное избрание: Национальное собрание как бы демонстративно связывало Германию послереволюционную с Германией монархической. Ференбах ничем себя до той поры не проявил, кроме патриотических речей и вернонодданнических приветствий Вильгельму во время войны. Министром без портфеля в кабинет Шейдемана вошел также Эрцбергер.
Два дела огромной важности должно было сделать это собрание: во-первых, заключить мир, во-вторых, дать Германии конституцию. Для выработки конституции была избрана комиссия под председательством Гуго Прейса. Что же касается мира, то здесь Национальное собрание оказалось в необычайно тяжелом положении.