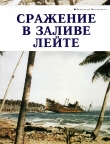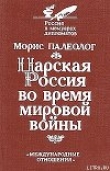Текст книги "Европа в эпоху империализма 1871-1919 гг."
Автор книги: Евгений Тарле
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 43 страниц)
4. Перехваченное письмо Циммермана. Влияние опубликования этого документа. Объявление Вильсоном войны Германии
И все-таки даже после разрыва дипломатических сношений в Соединенных Штатах (в руководящих крупнокапиталистических кругах) рядом с усиливавшимся течением в пользу войны еще держалось кое-где мнение о том, что дальнейшее сохранение нейтралитета имеет тоже свои выгодные стороны, но дело было уже безнадежно: Вильсон бесповоротно решил воевать с Германией. К тому же еще одна роковая для Германии ошибка ее дипломатии как раз в эти критические дни нанесла окончательный удар всем приверженцам нейтралитета и сильно облегчила сторонникам войны их игру.
28 февраля 1917 г. президент Вильсон приказал опубликовать перехваченное письмо германского статс-секретаря иностранных дел Циммермана германскому посланнику в Мексике Экгардту. В этом письме Циммерман предлагал Экгардту обратиться к мексиканскому президенту Карранца с такого рода советом: не пожелает ли Карранца напасть на Соединенные Штаты в случае, если они объявят войну Германии? Германия бы финансировала этот поход, а Мексика могла бы в случае победы отнять у Соединенных Штатов Техас, Аризону и Нью-Мексико (которые раньше – до 1845–1848 гг. – принадлежали Мексике). А кроме того, не пожелает ли Карранца обратиться от своего имени и от имени Германии к Японии и попросить Японию, чтобы она, во-первых, расторгла свой союз с Антантой, а во-вторых, тоже напала бы на Соединенные Штаты?
Письмо было помечено 19 января 1917 г., т. е. еще почти за две педели до объявления беспощадной подводной войны и до разрыва сношений между Америкой и Германией. Первые два дня после опубликования этого изумительного документа в американской прессе, правда, был взрыв негодования, но все же замечалась некоторая осторожность. Во-первых, Вильсон не говорил, как в его руки попал этот документ, – значит, можно было предполагать, что, быть может, президент стал жертвой какой-нибудь мистификации. А во-вторых, – и это самое главное, – представлялось слишком абсурдным, невероятным, слишком карикатурным самое содержание документа. Предлагать Мексике, население которой почти в восемь раз меньше населения Соединенных Штатов и которая в сотни раз вообще слабее и беднее их, напасть на могучего соседа, который может уничтожить ее одним взмахом руки, да еще напасть на этого могучего соседа с чисто завоевательными целями и отнять у этого соседа территорию, равную почти всей Мексике, – уже это одно казалось карикатурной нелепостью. Надеяться же при этом на то, что «совет» мексиканского авантюриста и самозванного «президента» заставит Японскую империю вдруг изменить Антанте и начать войну с Соединенными Штатами, без малейшей, конечно, надежды на чью бы то ни было помощь в Тихом океане, – это уже выходило за пределы всякого вероятия.
Но это не было мистификацией. Уже 3 марта, через два дня после поднявшейся в Америке газетной бури, Циммерман счел необходимым начать оправдываться. Это оправдание и заставило впоследствии (уже после войны) одну германскую социалистическую газету заметить, что вот «все говорили у нас, что дипломатия заполняется неспособными аристократами и что пора дать дорогу талантам из буржуазии», а назначили в виде первого опыта Циммермана «из буржуазии», и он наделал таких дел, которые не пришли бы в голову и десятку самых дегенеративных аристократов.
Вот как оправдывался Циммерман, согласно сообщению, переданному 3 марта через Амстердам в Америку. Он, Циммерман, предлагал Экгардту начать переговоры с Мексикой только в том случае, если Вильсон объявит Германии войну, а ведь «самая важная черта в этом документе – его условная форма». Не виноват же он, Циммерман, что вследствие какого-то невыясненного предательства этот секретнейший документ попал действительно так страшно некстати в руки президента Вильсона. Вообще ему, Циммерману, все это очень неприятно.
После этих оправданий самого Циммермана и соответствующих статей немецкой прессы («Lokal Anzeiger» утверждал, что Циммерман далее обязан был придумать, как бы удержать Соединенные Штаты от войны с Германией) Вильсон уже не колебался относительно того, что войну следует начать возможно скорее (по существу вопрос был им решен еще в начале февраля). Да и широкие слои американского населения, раньше равнодушно относившиеся к войне, теперь, после опубликования циммермановского письма, уже смотрели на войну с Германией как на дело совершенно неизбежное. В самом деле, даже искуснейшая и сложнейшая провокация со стороны Антанты но могла бы так страшно повредить Германии, как внезапное опубликование этого перехваченного письма. (Кто именно похитил и доставил письмо Вильсону, – до сих пор остается невыясненным.)
После опубликования этого документа приверженцы нейтралитета умолкли окончательно[135]135
Адмирал Тирпиц определенно считает эту мексиканскую идею Циммермана одной из самых губительных ошибок Германии, одной из тех ошибок, «которые именно одни только и сделали возможной изумительную энергию (erstaunliche Vehemenz), с которой американский народ увлекся этой столь чуждой его интересам войной» (Тirpіtz A. Erinnerungen. Leipzig, 1919, стр. 384).
[Закрыть].
2 апреля 1917 г. Вильсон явился вечером в заседание конгресса и прочел лично свое послание, в котором он объявлял о необходимости вступить в войну с Германией. 6 апреля конгресс всецело одобрил это решение и объявил «состояние войны» между Соединенными Штатами и Германией. Жребий был брошен. Теперь в сущности вопрос сводился только к тому, когда именно Германия признает свое поражение и сколько именно она потеряет.
Но обстоятельства как будто сговорились, чтобы германский народ не весь и не сразу это понял. В России разразилась революционная буря, которая с каждым месяцем становилась все шире и глубже. Что при этих условиях Россию нужно в ближайшем будущем снять со счетов и не рассчитывать на активное ее участие в военных действиях, это Антанта понимала, и она стремилась только к тому, чтобы Россия попозже вышла из войны (чего бы это самой России пи стоило). Понимала это и Германия, и, как наивно выразился тогда же умеренно-консервативный профессор Ганс Дельбрюк, редактор «Preussische Jahrbucher», только объявление Вильсоном войны помешало Германии «наслаждаться» (geniessen) русскими событиями. Но и среднему обывателю из соотечественников Дельбрюка эта неприятность со стороны Вильсона отчасти мешала «наслаждаться». Газетные утешения не очень помогали. «Соединенные Штаты – это Румыния», так остроумно определяли германские патриотические публицисты силу заатлантической республики. «Американская армия не может ни плавать, ни летать, – она не придет» (sie kann weder schwimmen, noch fliegen, sie wird nicht kommen), – так при дружном смехе и аплодисментах своей аудитории выразился один из вождей ярых патриотов и аннексионистов, член рейхстага Гергт. Усыпляли ли этим тревогу? В самом ли деле это остроумие казалось очень убедительным? Во всяком случае вступление Америки в войну как-то вдруг внесло очень существенное изменение в психологию не только социал-демократов большинства, но и партий мелкой и средней буржуазии: выиграть эту войну Германия никак уже не может; в лучшем случае – война должна окончиться вничью или с очень небольшими отступлениями от довоенного положения.
Мириться! Во что бы то ни стало и немедленно! И без фанфаронства и победоносного хвастовства, как при мирном предложении 12 декабря 1916 г., а на основах равенства: без победителей и побежденных. Эта идея овладела многими умами в Германии весной 1917 года.
Но образ действий Антанты показывал, что до мира еще далеко: летом 1917 г. комиссар Антанты Жоннар вывез насильственно из Афин короля греческого Константина, а власть над Грецией вручил Венизелосу, который и выступил вслед за тем против Германии, Турции и Болгарии. «Кто не с нами, тот против нас», – этого принципа держались обе борющиеся стороны.
Неизменные зловещие угрозы неслись из Парижа и из Лондона, угрозы, вполне одинаковые по смыслу и по тону и после всех редких еще тогда удач Антанты, и после всех самых тяжелых ее поражений. Полная капитуляция Германии и всех ее союзников – другого предложения Антанта не сделала ни разу. Агитация прессы всеми способами неслыханно разжигала страсти и заглушала редкие и слабые голоса, пытавшиеся остановить побоище.
Глава XVII
МИРНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ РЕЙХСТАГА И БРЕСТ-ЛИТОВСКИЙ МИР
1. Влияние русской революции. Утомление в Германии и Австрии. Секретный доклад графа Чернина. Апрельская забастовка на берлинских заводах (1917 г.)
Германское правительство, с своей стороны, теперь уже не желало уступок и компромиссов. Не только военные, но и гражданские власти укрепились в убеждении, что при выходе из войны России Антанта пойдет, наконец, на мир, не дожидаясь далекой и нескорой помощи со стороны Америки.
В заседании рейхстага 15 мая 1917 г. канцлер Бетман-Гольвег заявил, что положение на театрах войны так хорошо (для Германии), как еще никогда не было. Россия казалась сокрушенной, относительно Соединенных Штатов утешались словом «блеф», обозначавшим, что Америка больше пугает словесными угрозами, чем думает серьезно развернуть свои гигантские силы и возможности. Теперь уже известно, что Гинденбург и Людендорф весной 1917 г. были уверены, что в августе того же года Германия заключит победоносный мир со всеми врагами. Что касается морского штаба, то он продолжал уверять, что в конце июля или в начале августа Англия, изнуренная подводной войной, будет просить Германию о даровании ей мира.
Но все эти слова уже не оказывали прежнего действия ни на рабочую массу, где популярность оппозиционной социал-демократической группы меньшинства все возрастала, ни на широкие слои тяжко страдавшей от материальных лишений мелкой и отчасти средней буржуазии, служилого люда, лиц интеллигентных профессий и т. д. Мир, мир во что бы то ни стало, или, точное, мир на основании status quo ante, на основании возвращения к довоенному положению – вот какая программа стала выявляться все более и более. Но эта программа была уже абсолютной невозможностью: во-первых, консервативные слои, аграрии и крупные промышленники (и стоявшие всецело на их стороне военные власти), ни за что не хотели лишаться плодов «победы», якобы уже близкой, и Бетман-Гольвег не смел даже заявить открыто, что Германия безоговорочно очистит Бельгию (в случае общего мира); а во-вторых, Антанта после вступления Соединенных Штатов в войну обрела такую уверенность в конечном разгроме Германии, что если бы даже Германия торжественно отказалась от всякой мысли о завоеваниях и в самом деле предложила вернуться к довоенному положению, то, конечно, со стороны Антанты последовал бы категорический отказ. Не забудем, что Антанта уже овладела секретным докладом Чернина императору Карлу – об истощении Австрии, что и без всяких секретных докладов истинное экономическое положение центральных держав было в Англии и Франции в достаточной степени известно, что, наконец, уже в августе 1917 г. в дипломатических и военных кругах Антанты окончательный разгром и капитуляцию Германии приурочивали к осени 1918 г. (и определенно об этом уведомляли, например, министра русского временного правительства Терещенко).
Таким образом, весной 1917 г. в германском народе был налицо глубокий раскол, непримиримое расхождение по вопросу о новом мирном предложении.
Русская революция, выдвинувшая лозунг «мира без аннексий и контрибуций», могущественно способствовала росту мирных настроений в тяжко утомленных войной германских рабочих слоях, и все замаскированные аннексионисты из числа лидеров социал-демократического большинства, вроде Давида, Зюдекума и несравненно более ловкого и осторожного, чем все они, Шейдемана, должны были тоже, скрепя сердце, перейти на платформу «мира без аннексий и контрибуций». Умеренный консерватор и патриот Дельбрюк, которого, как мы это видели, его патриотизм иногда заводит в логические дебри, определенно утверждает, что даже некоторые социал-демократы примкнули во время войны к гибельной формуле Людендорфа: добиваться установления таких границ, чтобы враги не могли осмелиться напасть на Германию. Дельбрюк совершенно правильно говорит, что подобная формула прикрывает собой требование всемирного господства и предъявление такого требования, конечно, уже само по себе способно было затянуть войну и этим погубить Германию. Ибо ясно, что государство, на которое никто не может осмелиться далее напасть, может всегда и всем навязать свою волю[136]136
Dеlbгuсk H. Ludendorff, Tirpitz, Falkenhayn. Berlin, 1920, стр. 17.
[Закрыть].
Теперь, в 1917 г., Шейдеман уже торопился расстаться с этой горделиво-патриотической формулой. Мелкая, средняя, даже некоторая часть крупной буржуазии (во главе с директором-распорядителем Гамбургско-Американского пароходства Баллином) тоже далеко уже не так была настроена, как хотя бы до выступления Америки, и часть этих классов тоже не прочь была поскорее окончить затянувшуюся опасную войну «вничью». Их представителем стал вождь партии центра Маттиас Эрцбергер, живой, беспокойный, очень способный человек, некогда (в 1914–1915 гг.) стоявший за аннексии, а в 1916 г. пришедший к мысли о страшно опасном положении Германии. Он был честолюбцем и карьеристом, но умным и широко ведущим свою игру карьеристом, и поэтому уже в 1916 г. стал заметно отдаляться от правительства. Весной 1917 г. он находился под сильным впечатлением попавшей в его руки секретной докладной записки австрийского министра графа Чернина молодому императору Карлу I (преемнику Франца-Иосифа, умершего 21 ноября 1916 г.).
Чернин подал 12 апреля 1917 г. императору Карлу и одновременно Вильгельму секретный доклад («Іmmediatbericht»), в котором указывал на полную невозможность для Австрии вести войну дольше осени и на то, что у самой Германии тоже не надолго хватит для этого сил; что обеим странам угрожает революция, вроде русской; что мир должно заключить немедленно. Из документа явствовало, что Австрия уже погибает и, конечно, мечтает заключить вскоре сепаратный мир. Документ стал известен Эрцбергеру. Эрцбергер тогда еще не знал того, что было спустя год разоблачено французским первым министром Клемансо: именно, что австрийский император уже отправил через своего шурина, офицера бельгийской армии, принца Сикста Бурбонского предложение президенту Пуанкаре о мире, причем брался повлиять на Германию, чтобы она уступила Эльзас-Лотарингию Франции. Из этого предложения ничего не вышло, но самый этот факт, а еще более – копия доклада Чернина, какими-то до сих пер не выясненными путями попавшая в руки Антанты, убедили Антанту окончательно, что полный разгром центральных империй обеспечен, – следует только еще некоторое время не заключать мира.
Эрцбергер и Шейдеман весной 1917 г. многого еще не знали. Но они твердо знали одно: нужно немедленно заключить мир. В апреле 1917 г. в Берлине на заводах, работавших на снабжение армии, разразилась грандиозная стачка; бастовало 125 тысяч рабочих и работниц. Одновременно серьезное брожение охватило рабочих в некоторых других промышленных центрах. Из Лейпцига правительство получило резолюцию 18 тысяч рабочих, в которой требовались, кроме достаточного снабжения населения углем и хлебом, еще демократические реформы и немедленное заявление о готовности Германии заключить мир без всяких аннексий. Это было очень грозным революционным симптомом. Русская революция начинала оказывать свое воздействие на умы рабочего класса. Вильгельм, правда, поторопился пообещать реформу безобразного закона о выборах в прусский ландтаг, но всего этого было мало, да и обещание пока было только на бумаге. Да и всемогущие в ландтаге землевладельцы открыто заявляли, что ни за что не согласятся с «демократизацией» ландтага. Граф Ольденбург фон Янишау произнес в Данциге 12 декабря 1917 г., когда монархии оставалось жить еще 11 месяцев, следующие слова: «Если в Пруссии будет введено всеобщее избирательное право, то, значит, войну проиграли мы». Но, конечно, в центре всех трудностей находился вопрос о мире. Стачки в Берлине и в Лейпциге кончились, но впечатление не проходило. Уже состоявшееся в апреле формальное и фактическое вступление Соединенных Штатов в войну черной тучей заволакивало германский горизонт. Продовольственная нужда все обострялась.
2. Подготовка и проведение мирной резолюции в рейхстаге. Отставка Бетман-Гольвега. Неудача Стокгольмской конференции. Неудача предложения папы Бенедикта XV
При этих условиях Эрцбергер, с одной стороны, Шейдеман, Давид, Эберт, с другой, решили провести через рейхстаг торжественную резолюцию в том смысле, что Германия готова мириться с Антантой на основе возвращения к довоенному положению. Мир без аннексий и контрибуций! Эта формула, принятая в Петербурге Советом солдатских и рабочих депутатов, должна была также лечь в основу мирной резолюции рейхстага[137]137
На петербургскую резолюцию прямо и сослался Давид на совещании рейхстага 7 июля 1917 г.
[Закрыть]. Одновременно лидеры социал-демократии и Эрцбергер домогались также отставки Бетман-Гольвега. Канцлера губили в этот момент две между собой различные, но одинаково враждебные ему силы.
Почему, например, его не желал более Шейдеман? Потому, что с именем Бетман-Гольвега связывались воспоминания о начале войны, его ненавидела Антанта, он сказал 4 августа 1914 г. знаменитые, облетевшие весь мир слова, что нейтралитет Бельгии – клочок бумаги и т. д.; одним словом, как откровенно заявил Шейдеман 30 июля 1917 г.: «Если канцлер завтра уйдет, это облегчит мир».
А с другой стороны, почему под положение канцлера в это же самое время подкапывались Гинденбург и Людендорф, почему против него деятельно интриговал кронпринц, специально с этой целью явившийся из армии в столицу? Потому, что для них он был слишком нерешителен, сдержан, миролюбиво настроен, слишком мало склонен дожидаться победоносного мира. Мы хотим могучего мира, гинденбургского мира (einen Kraftfrieden, eincn Hindenburgfrioden) – таков был лозунг аннексионистов, приободрившихся под влиянием предстоящего выхода России из войны.
Непримиримые противоречия раздирали в этот момент политическую жизнь Германии, но все главные течения устремлялись одинаково против канцлера. 14 июля 1917 г. Бетман-Гольвег подал в отставку, а спустя пять дней, 19 июля, большинством 212 против 126 голосов в рейхстаге прошла «мирная резолюция». Большинство составилось из социал-демократии (шейдемановского толка), прогрессистов, центра и нескольких национал-либералов. Меньшинство – из почти всех национал-либералов, консерваторов и независимых социал-демократов (которые были недовольны редакцией резолюции и требовали более радикального тона). Резолюция высказывалась против аннексий, против насильственного мира, за мир по соглашению враждующих сторон (Verstan-digungsfrieden).
Эта резолюция не произвела в странах Антанты никакого другого действия, кроме усиления впечатления, что Германии приходится очень трудно. Ни Эрцбергеру, который еще в начале 1915 г. был сторонником аннексий, ни другим авторам резолюции во вражеском стане не верили. Да если бы и верили, ничего реального отсюда выйти не могло, потому что ведь сама Антанта решительно желала аннексий (в свою пользу) и ни за что не согласилась бы принять принцип, положенный в основу резолюции. Но Антанте не пришлось далее измышлять дипломатических хитростей, чтобы можно было свалить вину за продолжение войны на Германию. Дело в том, что едва только общими усилиями удалось удалить Бетман-Гольвега, как Гинденбург и Людендорф, кронпринц и Вильгельм поспешили резко отмежеваться от парламентского большинства и от его мирной резолюции, и консервативное меньшинство, вотировавшее против мирной резолюции (и представлявшее интересы крупного капитала и землевладения по преимуществу), оказалось вполне солидарным с военными властями, с династией и с новым канцлером.
Любопытная по-своему фигура был этот новый канцлер, Отто Михаэлис, бывший прусский комиссар по продовольствию. Указан он был Вильгельму теми, кто хотел достигнуть полного подчинения гражданских властей военным. Это была серая бездарность, дюжинный, бесталанный чиновник, из провинциальных дворян, усидчивостью и повиновением начальству сделавший себе карьеру, не имевший далее отдаленного представления о неслыханных трудностях, в борьбе с которыми уже начинали изнемогать центральные империи. Он сам откровенно заявил, что политикой никогда не занимался и вообще был только «современником» (Zeitgenosse) исторических событий – не больше. Его так и прозвали издевавшиеся над ним социал-демократы – «современник Михаэлис». Признавался он еще (тоже публично и печатно), что, собственно, хотел было отказаться от канцлерства, чувствуя полную свою непригодность, по раскрыл наудачу библию, вычитал утешивший его текст и согласился. Подобный человек и получил на первых же порах от военных властей задание: как-нибудь поскорее свести к нулю «мирную резолюцию» рейхстага. Михаэлис тотчас же это и исполнил, заявив в рейхстаге, что он надеется осуществить «цели Германии», не выходя из пределов мирной резолюции, – «так, как я ее понимаю» (so wie ich sie auffasse), – добавил он. А так как было известно, что Михаэлис больше всего по своим взглядам примыкает к крайним аннексионистам, объединившимся вскоре после этого (2 сентября 1917 г.) в новую «отечественную партию» (Vaterlandspartei), то дело было сделано. И в Германии и вне ее на «мирную резолюцию» посмотрели после этого как на нечто совершенно лишенное реального смысла и значения для будущего.
Состав рейхстага (выбранного еще в 1912 г. и просуществовавшего вплоть до ноябрьской революции 1918 г.) был дробный, прочного большинства по многим вопросам составить было нельзя. Вот каков был численный состав партий рейхстага в 1917 г.:
правые партии – 44 консерватора, 27 членов «германской фракции» (консерваторов более умеренного оттенка), 49 национал-либералов;
«центр» – католики, иногда шедшие с правыми, иногда с левыми – 90 человек;
левые партии – 45 прогрессистов, 89 социал-демократов большинства и 21 независимый, 18 поляков (голосовавших в те годы всегда с левыми);
наконец, 14 «диких», не принадлежавших ни к какой партии или принадлежавших к национальным меньшинствам (датчане, эльзасцы). Мирная резолюция 19 июля прошла только потому, что Эрцбергер, вождь, партии центра, а за ним и вся партия (представлявшая в значительной степени мелкую и среднюю католическую буржуазию южных государств Германии, а отчасти Рейнланда) почувствовали необходимость как можно скорее заключить мир, так как социальные слои, ими представленные, начинали тоже беспокоиться и роптать.
Слова Михаэлиса, похоронившие эту мирную резолюцию, настроение военных властей с Людендорфом во главе – все показывало, что аннексионисты очень уж уповают на близкую победу вследствие развала русского фронта и что так же легкомысленно, как они вовлекли Америку в войну, они теперь убедили себя, что успеют справиться с Антантой раньше, чем Америка развернет свои силы. Речи Эрцбергера в негласном заседании лидеров парламентских партий 4 и 6 июля 1917 г., предшествовавшие мирной резолюции, не произвели на Вильгельма, кронпринца, Людендорфа и Гинденбурга никакого впечатления.
Эрцбергер указал на провал надежд, связывавшихся с подводными лодками, подчеркнул, что о военном одолении врагов нечего и думать, что нужно искать дипломатических путей к миру, что через год положение будет еще хуже, а между тем лишний год войны потребует новых 50 миллиардов марок золотом и новых колоссальных человеческих гекатомб. Но Людендорф на все подобные указания тогда говорил только: «Дайте нам победить» (lassen Sie uns siegen). А сам император, беседуя на приеме с лидерами рейхстага, именно с лидерами левых партий, и заговорив о разгроме русских войск у Тарнополя (в том же июле 1917 г., после так называемого почему-то «наступления Керенского»), с восхищением и смехом заявлял: «Где появляется гвардия, там нет места демократии» (Wo die Garde auf'lritt, da ist kein Platz fur die Democratic). Прием у Вильгельма в эти июльские дни 1917 г. вообще очень встревожил народных представителей: они, говоря словами участника приема Пайера, как будто поняли, что опасно оставлять такую власть в руках подобного человека. Перед ними, представителями измученного народа, неистово истребляемого неприятелем и голодом, жаждущего мира и только мира как можно скорее, Вильгельм вдруг принялся весело вышучивать «мир по соглашению», мир дипломатический (а не «военными средствами»), словом, тот мир, к которому именно стремилось большинство рейхстага. Вот как он, Вильгельм, понимает мир по соглашению: «Мир, при котором берут у врагов деньги и сырье и кладут в собственный карман».
Перед народными представителями, за которыми стояли глухо раздраженные, угнетенные войной и недоеданием рабочие массы, он стал рисовать такие заманчивые перспективы: как только окончится эта война, нужно будет соединиться с Францией, взять под свое начало весь европейский континент, и тогда начать уж новую, «настоящую» войну против Англии[138]138
Payer. Указ. соч., стр. 181.
[Закрыть]… Об этом перед лицом народных представителей восхищенно мечтал человек, относительно которого нелегальные листовки, распространявшиеся тогда по всей Германии, ядовито спрашивали: почему он и его сыновья никогда, даже издали, не приближаются к полю битвы?
При подобных настроениях правящих кругов как Германии, так и Антанты речи быть не могло о мире, пока одна из сторон не будет раздавлена. Коснемся в двух словах попыток приблизить мир, сделанных летом и ранней осенью 1917 г.
Первая связана с социалистической конференцией по вопросу о мире, бывшей в Стокгольме 4—18 июня 1917 г. Собственно, это был съезд социал-демократических лидеров некоторых нейтральных стран, а также немцев и австрийцев. Ни Англия, ни Соединенные Штаты, ни Франция не дали паспортов своим социалистам, желавшим отправиться в Стокгольм. Правда, был бельгийский делегат Гюисманс, а кроме того, Шейдеману удалось частным образом встретиться и побеседовать с возвращавшимся из Петербурга французом Лафоном; с другим французом – Альбером Тома – говорила датская делегатка Нина Банг. Результаты конференции были неутешительны. Все разбилось об эльзас-лотарингский вопрос. Немцы категорически отказывались признать справедливой передачу Эльзас-Лотарингии французам, французы и некоторые представители нейтральных стран – голландец ван Коль, швед Яльмар Брантинг – заявляли, что без этого условия не может быть и речи о мире.
Не менее неутешительно было, конечно, и полное отсутствие англичан и американцев на съезде (да и французов в сущности не было, Лафон и Тома ни разу не появились на заседаниях, а Тома не захотел и встретиться ни с одним немцем или австрийцем даже частным образом). Вести из России доставил побывавший в Петербурге в 1917 г. датчанин Боргбьерг. Совет рабочих и солдатских депутатов стоял за мир без аннексий и контрибуций и за самоопределение народностей. Совет сам желал созвать конференцию для содействия миру, а поэтому Стокгольмская конференция его не интересовала, тем более, что на прибытие англичан, американцев, французов, итальянцев в Стокгольм нельзя было рассчитывать; без них же сколько-нибудь серьезных результатов добиться было нельзя, и даже демонстративного смысла конференция без них не имела.
«Мы, вернувшиеся из Стокгольма, не могли отрешиться от убеждения, что конференция как таковая потерпела неудачу», – говорит Шейдеман в своих мемуарах[139]139
Scheidemann Ph. Der Zusammenbruch. Berlin, 1921, стр. 157.
[Закрыть]. Но гораздо любопытнее то, что он говорит о настроениях в Берлине. Эти настроения подействовали на них, возвратившихся из Стокгольма, прямо подавляющим образом: «В прессу и в буржуазную общественность не проникало ничего о нашем отчаянном положении, и среди буржуазных партий вовсе не было даже понимания приближающейся катастрофы. Впрочем, были также социал-демократические депутаты рейхстага, которые не могли дать себе отчета о положении и все еще легковерно поддавались настроениям, создаваемым высшим военным командованием и его бюро прессы».
Никогда за время войны официальная ложь не лилась такими потоками, как именно тогда, с весны 1917 г. и вплоть до разгрома осенью 1918 г. Дело в том, что нужно было во что бы то ни стало заглушить беспокойство, вызванное вступлением Соединенных Штатов в войну, поддержать дух – для последней общей ставки на карту всего, что еще можно было поставить. «Рейхстаг жил в сказочном мире»[140]140
Там же, стр. 158.
[Закрыть], а не в мире реальностей.
Каждый день печатались известия о новых и новых торговых судах, потопленных германскими подводными лодками; и действительно, успехи подводных лодок были очень значительны. Но прошло шесть месяцев и год, и больше после 1 февраля 1917 г., а Англия все еще не начинала голодать, все еще продолжала борьбу не на жизнь, а на смерть. Прежде всего Англии пришли на помощь Соединенные Штаты, грандиозно усилив свое судостроение. На американских верфях еще в марте 1917 г. (перед самым объявлением Вильсоном войны) работало в общем около 25 тысяч рабочих; во второй половине 1917 г. – 170 тысяч; в 1918 г. – уже 300 тысяч человек. Были у Англии и другие ресурсы.
Теперь мы уже знаем, что еще в 1914–1916 гг. все потери торгового флота Великобритания успевала почти полностью покрывать постройкой новых судов, но что с открытием 1 февраля 1917 г. беспощадной подводной войны со стороны Германии положение круто изменилось. Потери так неслыханно увеличились, что Англии нечего было и думать угнаться за ними и бороться со злом только одним усилением судостроения. На это и рассчитывали, об этом и мечтали фон Тирпиц, Гинденбург, Людендорф, Вильгельм и все агитировавшие за беспощадную подводную войну. Но они и тут сделали ошибку. Элементарное знание английской истории могло бы их убедить, что Англия в критический момент пускает в ход все без исключения силы и средства, абсолютно ничем не стесняясь, хотя никогда и не произносит при этом вслух никаких изречений о «нужде, не знающей закона», а с другой стороны – умеет взвешивать размеры опасности от тех или иных своих актов.
Ллойд-Джордж обратился к Голландии, Норвегии, Дании, Швеции с настойчивой просьбой выдать Англии их торговый флот «для временного пользования» (for temporary use). «Просьба» подобного рода, когда просительницей является Британская империя, всегда заслуживает самого внимательного и участливого отношения, так как английский военный флот может в крайнем случае обойтись и без согласия заинтересованных держав, а просто увести из соответствующих гаваней все торговые суда нейтральных держав. Английская дипломатия и не скрывала, что отказ ее, правда, огорчит, но нисколько не обескуражит… При этом давались выгоднейшие гарантии и материальные компенсации. Обдумать ответ разрешалось, но тут же рекомендовалось не очень много времени посвящать на размышления относительно исполнения этой «просьбы».
В переводе на общепонятный язык всем четырем нейтральным державам предлагалось: либо выдать свои флоты англичанам и получить за это богатое материальное вознаграждение, сохранив за собой вместе с тем все милости Антанты в настоящем и будущем; либо, отказав Ллойд-Джорджу, все же лишиться своего торгового флота, но уже без всякого вознаграждения, и вступить вместе с тем в открытую войну или, в лучшем случае, во враждебные отношения с Антантой. (А что Антанта непременно победит рано или поздно, в этом нейтральные правительства – кроме разве Швеции – уже не сомневались после вступления Соединенных Штатов в войну.) При этих условиях выбирать долго не приходилось. «Просьба» показалась более чем убедительной. Нейтральные державы фактически предоставили Англии весной 1918 г. почти полностью свои торговые флоты. На этом-то и провалились окончательно все расчеты германского главного командования, которые, впрочем, и без этой чрезвычайной меры долго еще не могли бы осуществиться. А во времени и была главная сила. Борьба англичан против подводных лодок в 1917–1918 гг. так усилилась при помощи совсем новых технических приемов, столько подводных лодок погибло при экспедициях, что и с этой стороны германскому командованию приходилось пересматривать все свои первоначальные расчеты. Но это знали и, главное, оценивали по достоинству в Германии немногие. Большинство ликовало, читая ежедневно о десятках тысяч тонн потопленных судов и высчитывая, насколько еще у Англии хватит запасов и сил для сопротивления.