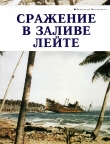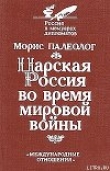Текст книги "Европа в эпоху империализма 1871-1919 гг."
Автор книги: Евгений Тарле
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 43 страниц)
Спустя полтора года разразился инцидент, имевший больше последствий. Случилось это в декабре 1913 г. Началось дело с ничтожного происшествия: лейтенант фон-Форстнер имел в г. Цаберне (в Эльзасе) столкновение с местными обывателями, которых он грубо оскорбил. На его сторону стал полковник Рейтер, который произвольно арестовал некоторых граждан и засадил их в холодную. Против Форстнера и Рейтера было возбуждено судебное преследование, которое в конце концов не привело ни к чему: оба остались безнаказанными. Был сделан запрос в рейхстаге, но как военный министр, так и канцлер Бетман-Гольвег всецело стали на сторону офицеров. Во «Франции этот эпизод принес огромную пользу той шовинистической агитации, которая там велась против Германии с особой силой со времени выборов Пуанкаре в президенты республики.
Инцидент имел также и внутреннеполитическио последствия. Наследник престола кронпринц Фридрих-Вильгельм почел долгом своим деятельно вмешаться в эту историю. Нужно сказать, что вообще на кронпринца, как уже было замечено, в эти годы германские империалисты (наиболее ярые и решительные) возлагали большие упования. Старший сын Вильгельма успел уже произнести несколько пылких воинственных речей, в которых, между прочим, восхвалял и с восторгом характеризовал войну, ратное поле, гусарские атаки и пр. К слову замечу, что впоследствии, за все время мировой войны, он никогда даже и на пушечный выстрел не приближался к полю битвы и обнаруживал всегда доведенную до самой последней крайности предусмотрительность в деле ограждения своей личности от каких бы то ни было опасностей, в чем усилия его и увенчались самым полным успехом. Конечно, эти свойства нисколько не мешали ему по мере сил разжигать шовинистические страсти перед войной и всеми способами вести дело к кровавой катастрофе.
Теперь в Голландии (куда он убежал тогда же, как и его отец, и столь же поспешно, в ноябре 1918 г.) он издает книги[51]51
Последняя по времени [книга кронпринца Вильгельма] вышла в 1925 г. и носит курьезное название: «Я ищу истину!» (Ich suche die Wahrheitl). Он «ищет» виновников войны и находит, что одно только германское правительство было в ней неповинно.
[Закрыть], беседует с корреспондентами газет и все не перестает доказывать, как он всегда был миролюбив. Любопытная по своим размерам способность к лицемерию и сознательной лжи с целью отклонения от себя ответственности роднит его с отцом, хоть он и состоял в некоторой якобы «оппозиции» к императору. В эти решающие годы (1912–1914) он снискал восторженную преданность со стороны пангерманской партии именно тем, что не упускал случая заявить о своей готовности обнажить меч для защиты интересов родины и т. п. Шаблонная фразеология патриотических учебников для средней школы – вот, собственно, все, чем он располагал в случаях своих публичных выступлений, но, исходя от наследника престола и в такой напряженный момент, эти звонкие и пустые фразы приобретали зловещий смысл.
После речи Ллойд-Джорджа (по мароккскому вопросу в 1911 г.) кронпринц явился в рейхстаг и тут, когда консервативный оратор воскликнул: «Теперь мы знаем, где находится наш враг!», – кронпринц демонстративно изъявил полное свое согласие и удовольствие по поводу этих слов. По поводу цабернского инцидента кронпринц тоже почел своим долгом горячо поздравить полковника Рейтера (засадившего противозаконно мирных граждан в погреб на ночь за предполагаемое оскорбление офицерского мундира) с его молодецким поступком. «Напролом!» (Immer feste drauf!) – гласила телеграмма. Консервативная и национал-либеральная пресса страстно защищала поведение военных в Цаберне и с восторгом отнеслась к словам кронпринца. «Хотя пессимизм и проник теперь глубоко в сердца и сделался господствующим настроением этих лет» (по словам восторженного-поклонника кронпринца Пауля Лимана[52]52
Liman P. Der Kronprinz. Minden in Westphalen, 1914, стр. 290.
[Закрыть]), но кронпринц сильно ободрял упавший дух крайних империалистов. Вместе с тем перед императором ставился очень щекотливый и тревожный вопрос. Сомнений быть не могло относительно того, куда клонятся эти демонстративные овации кронпринцу при каждом его публичном появлении (например, после парадов на Темпельгофе), сопровождаемые столь же демонстративным молчанием при появлении императора; куда клонятся также эти восхваления храброго кронпринца в статьях и книгах, при настойчивом подчеркивании общего будто бы уныния и общего разочарования нерешительной и слишком миролюбивой политикой императора.
Оппозиция справа была налицо; оппозиция слева – социал-демократическая – была обезврежена победой ревизионизма, общим гигантским ростом и процветанием промышленности и всеми последствиями этого роста. Не учуять опасности, подымающейся на него именно справа, Вильгельм не мог. И как всегда, он поспешил уступить, тем более что и по существу эта уступка ему недорого стоила. Ведь разница между ним и шовинистической пангерманской «оппозицией» только в том и заключалась, что он несколько медлил с осуществлением лозунгов завоевательной политики и агрессивных выступлений. Наступали времена, когда крупные капиталисты и все, что от них зависело (а от них почти все зависело), грозили поискать себе – и найти в кронпринце – более энергичного реализатора их желаний. Судя по показаниям бельгийского короля Альберта, о которых будет речь в другой связи, к концу 1913 г. Вильгельм уже окончательно свыкся с мыслью о необходимости и неизбежности войны; судя же по некоторым актам правительственной политики, эта мысль уже с начала 1913 г. все более и более укреплялась в правящих кругах.
Что касается Австро-Венгрии, то положение Габсбургской монархии после обеих балканских войн необычайно осложнилось, а вместе с тем в некоторых отношениях австрийская дипломатия стала действовать гораздо свободнее, чем прежде. Поясним это кажущееся противоречивым двойное утверждение. О трудностях много говорить не приходится: враг – Сербия – необыкновенно усилился, и в Сербии поднялась обширная и явно поддерживаемая королем Петром и правительством агитация против Австрии. Не то надеялись разжечь восстание в Боснии и Герцоговине, не то привлечь Россию к общему выступлению. На болгарский противовес рассчитывать не приходилось в той степени, как австрийская дипломатия к этому привыкла: против Болгарии, крайне ослабленной, стояли в полном вооружении не только Сербия, но и Румыния. В недрах самой Австро-Венгрии все усиливался чешский сепаратизм. Чехия – единственная составная часть Габсбургской монархии, соединявшая все преимущества высокоразвитой промышленности с великолепно оборудованным и продуктивнейшим сельским хозяйством, была экономически вполне «автономна», вполне могла обойтись без остальной империи, а потому с особой силой и раздражением требовала и автономии политической. В Венгрии протест подавленных там славян становился все слышнее, и землевладельческая аристократия, управлявшая Венгрией, все с большим трудом удерживала власть в своих руках.
Кроме того, прибавился еще один фактор, сильно ухудшивший положение Австрии (а поэтому и Германии): Италия, уже с 1911 г. нападением на Турцию показавшая нежелание считаться с интересами двух своих «союзниц», в 1913 г. еще более усиливала этот характер своей политики. В сущности еще с первых времен заключения Тройственного союза было известно, что Италия не выступит с вооруженной помощью в случае войны Австрии и Германии против такой коалиции, в которой будет принимать участие Англия. Другими словами: если Австрия и Германия будут воевать только против России и Франции (и любой еще державы, кроме Англии), Италия принимает участие в войне на стороне своих союзниц, но если на стороне Франции и России станет Англия, то Италия сохранит нейтралитет. Таким образом, чем более крепла Антанта, тем более фактически ослабевали узы, связывающие Тройственный союз. Мало того. Итальянское правительство решительно хотело утвердить свое влияние на Балканском полуострове и в Малой Азии и во время балканских войн 1912–1913 гг. сплошь и рядом действовало против Австрии. А кроме того, чем больше росла смелость антиавстрийской пропаганды в Сербии, тем больше усиливалась антиавстрийская агитация также в Италии в тех кругах («ирредентистских»), которые стремились оторвать от Австрии Триентскую и Триестскую области.
Однако параллельно с ростом всех этих затруднений в среде австрийских правителей все более и более укреплялось воззрение, представленное больше всего наследником престола – эрцгерцогом Францем-Фердинандом, венгерским министром графом Тисса и министром иностранных дел Берхтольдом. Но этому воззрению, спасти Габсбургскую державу от раздела и гибели возможно, лишь решительным ударом покончив с великодержавными замыслами Сербии, а поэтому нужно торопиться, пока это еще возможно сделать, так как время работает против Австрии. Франц-Фердинанд, угрюмый, замыкающийся в себя, подозрительно настроенный человек, не любил Вильгельма II и не доверял ему, но он знал, что Вильгельм II непременно поддержит Австрию, если Австрия затеет войну, потому что не может Германия дать разбить свою единственную союзницу и этим самым загородить себе выход на Ближний Восток, с которым германская промышленность и экспортная торговля прочно связали свою будущую судьбу, еще когда только была заложена Багдадская железная дорога. Эта-то уверенность и давала Францу-Фердинанду и Берхтольду полную свободу движений.
Произошло именно то, чего боялся Бисмарк (не раз выражавший эту боязнь)[53]53
Например, в Hamburger Nachrichten, 24 октября 1896 г.
[Закрыть]: Германия оказалась в положении державы, которая фактически часто не только не диктует первые шаги своей несравненно менее сильной и зависимой союзнице, а принуждена следовать за ней. И чем больше росло недовольство в императорских кругах Германии против императора Вильгельма II за его нерешительность, тем в большую зависимость попадал Вильгельм II от Франца-Фердинанда и его советников, потому что ему бы не простили неоказания достаточно сильной поддержки «единственному другу Германии». Таковы были условия, касавшиеся вопроса о внутренней спайке частей в Тройственном союзе. Эти условия внушали живейшую тревогу тем наблюдателям, которые не желали войны и видели ясно, до какой степени балканские-события 1912–1913 гг. ее приблизили.
Посмотрим теперь, как те же балканские события отразились на соотношениях отдельных частей в Антанте. Мы увидим, что и Антанта тоже мелкими и крупными дипломатическими провокациями сгущала в эти последние предвоенные годы политическую атмосферу в Европе.
2. Франция и Россия в начале эры Пуанкаре. Франко-русские отношения в свете новейшей документации. Министерство Пуанкаре. Избрание Пуанкаре президентом Французской республики
Уже с самого начала нападений, которым подвергалась Турция, т. е. с 1911 г., когда итальянцы начали завоевание Триполитании и Киренаики, движущей силой Антанты постепенно делалась не Англия, как было до сих пор, но Россия. Дело было не в том, что еще в 1910 г. скончался английский король Эдуард VII, главный вдохновитель и руководитель Антанты, и не в том, что в 1911–1912 гг. английский либеральный кабинет был поглощен острыми вопросами внутренней политики, о которых уже раньше шла речь (осуществлением уже прошедших социальных реформ, бюджетными делами), а в 1912–1913 гг. – резко обострившимися ирландскими осложнениями.
Все это имело свое значение, но главное было в другом. В самом построении и внутренней природе Антанты заключено было некоторое противоречие. Эдуард VII создавал ее, а сэр Эдуард Грей (после смерти короля) поддерживал ее сначала как силу, так сказать, охранительную, стремящуюся по своим заданиям держать Германию в твердо очерченных рамках и не давать ей возможности нарушить установившееся положение ни в Европе, ни на остальном земном шаре. Это не значит, что Антанта раз навсегда отказалась от мысли при удобном случае и в свое время первой броситься на Германию, чтобы сломить ее экономическую и политическую силу. Но именно при том случае, который будет удобен, и в то время, которое должно, было наступить далеко не сейчас. А пока – ждать и подстерегать Германию на ошибках и опасных шагах. Это обстоятельство ставило Германию, конечно, в крайне деликатное и трудное положение: ведь соединенные силы Антанты были так колоссальны, ее материальные возможности так безграничны, у нее вследствие ее могущества и огромности оказывалась такая притягательная сила, что самым фактом своего длительного существования Антанта отнимала у Германии возможных союзников в предстоящей борьбе – Италию и Румынию, а главное – время работало в пользу Антанты, а не в пользу Германии. Время даст возможность Англии преодолеть все трудности внутренней политики, умиротворить Ирландию, создать сухопутную армию; время позволит России закончить реорганизацию и перевооружение к 1917 г. (как намечалось в 1911–1912 гг.), время облегчит Франции полное проведение реформы артиллерии, осуществление всеобщей воинской повинности в ее колоссальных колониях. И тогда Антанта раздавит Германию без всяких сомнений. Единственный настоящий союзник Германии – Австрия – тоже со временем лишится Чехии; может быть, отпадут от нее и еще кой-какие части.
Короче говоря, противоречие, присущее Антанте, заключалось в том, что она была слишком сильна и что выжидание было для нее слишком выгодно, чтобы ее политика могла быть только «оборонительной». Мысль о необходимости «предупредительной войны», впервые занимавшая германские военные круги еще в самом начале 90-х годов, когда был заключен франко-русский союз, опять всплыла в германской прессе и на этот раз с гораздо большей силой, чем прежде. Но противоречие в Антанте стало проявляться и в другом – в политике ее составных частей. Англии казалось выгодным ждать и готовиться, а некоторым руководителям русской и отчасти – в гораздо меньшей степени – французской политики, поскольку она подчинялась русскому давлению, иногда начинало казаться более целесообразным пожать непосредственно плоды и воспользоваться без особых отлагательств преимуществами могущества Антанты.
Наиболее деятельным и беспокойным дипломатом Антанты был в эту пору Извольский, бывший в 1906–1910 гг. министром иностранных дел Российской империи, а с 1911 г. русским послом в Париже. Настойчивый, энергичный, очень преданный своей идее, он совсем подавлял собой министра иностранных дел Сазонова; влияние же его было тем губительнее, что идея была основана на неправильных расчетах. Идея заключалась в том, будто Россия может и должна воспользоваться неповторяемой комбинацией, когда Англия – ее друг, чтобы, наконец, прорваться на Балканский полуостров, опрокинув сопротивление Австрии, а если понадобится, то и Германии. Расчет был неправилен прежде всего потому, что вогнанную внутрь революцию 1905 г. Извольский (и вся его школа) приняли за конец потрясений, III Думу – за начало нормально развивающегося конституционного строя, аграрную реформу 9 ноября 1906 г. – за разрешение аграрного вопроса, эру Сухомлинова – за преобразование армии, проглядев за этими фантомами все страшные реальности и решив, что Россия способна выдержать и победить в столкновении с обоими центральными империями.
Неудача, постигшая Извольского в 1908–1909 гг., в годину аннексии Боснии и Герцоговины, показала ему, что на пути активной русской политики на Ближнем Востоке находятся огромные трудности, но нисколько не изменила основной линии его поведения. Когда в 1911 г. он попал в качестве русского посла в Париж, он стал немедленно стремиться к руководящей роли в Антанте. Случаю угодно было устроить так, что первые шаги Извольского в Париже делались тогда, когда весь мир находился еще под впечатлением агадирского инцидента и его финала. Германия выступила с угрозой против Франции, но достаточно было окрика Ллойд-Джорджа, – и она сейчас же испугалась и отступила. Извольский слишком поверил воплям германской империалистской прессы, сравнивавшей это унижение Германии с разгромом Пруссии при Иене Наполеоном I. «Нет слов для этой Иены германской политики! Закрой свое лицо, Германия, перед этой страницей твоей истории! (Verhulle dein Antlitz, Germania, vor diesem Blalt deiner Cieschichte!)», – писали немецкие «патриоты» после франко-германского соглашения, и многие (в том числе Извольский) приняли это за чистую монету, т. е. за признание бессилия, а не за искусственное раздразнивание и подстрекательство к борьбе (как было на самом деле). И вот, мысль о дерзаниях, о смелой энергичной политике на Балканах и в Малой Азии окончательно овладевает Извольским.
Задержек в Петербурге не было почти никаких. Правда, Коковцов, первый министр в 1911–1913 гг., министр финансов в предыдущие годы, был противником всякой политики авантюр, Сазонов (поскольку он противился изредка Извольскому) тоже старался иной раз не забывать об осторожности, но в общем Извольский не наталкивался на серьезные затруднения. Загладить стыд маньчжурских поражений, вознаградить себя на Ближнем Востоке, дать русской промышленности и торговле новые рынки и просто захватить новые земли – все это казалось заманчивым. А кроме того, действовало тут то же самое роковое заблуждение, основанное на глубочайшем непонимании свойств дипломатической борьбы, как и в декабре 1903 и январе 1904 г.: «Я возьму Корею, но войны не будет, потому что я не хочу войны» (это отмечено Витте в его мемуарах). Точь-в-точь эта же аберрация повторилась в русской политике 1912–1914 гг.: «Я буду делать то, что мне представляется нужным на Балканах и в Малой Азии, но войны не будет, потому что я ее не хочу».
Правда, на этот раз осторожности нужно было проявлять больше, но и на этот раз успокоительное соображение, что «войны не будет, пока я не захочу», действовало в полной мере. Но дело в том, что в 1903 г. Япония в самом деле не хотела войны, а в 1913 г. в Германии могущественнейшие классы не боялись войны, часть гражданских сановников и некоторые военные хотели войны, кронпринц не боялся войны, Мольтке хотел войны, а Вильгельм II переставал колебаться. А все действия Антанты, особенно завоевание Марокко, раздражали и оскорбляли Германию. При этих условиях беспокойная энергия Извольского, полагавшего, что после Агадира нечего особенно стесняться с Германией, и безмятежная уверенность Николая II, убежденного, что до войны дело все равно не дойдет, так как он, в самом деле, войны не желает, должны были привести к ряду опаснейших осложнений.
Казалось, была сила, которая могла бы остановить Извольского. Он находился в Париже, без Франции и ее поддержки он действовать не мог; даже на Петербург, на свое начальство и на императора Николая II он влиял, выдвигая французов. Между тем французские правители долгое время обнаруживали большую сдержанность и осторожность. Что же происходило в Париже в 1912–1913 гг.?
У нас есть теперь некоторые материалы, позволяющие составить себе общее представление о том, что происходило за кулисами французской и русской политики в последние годы перед войной. На первом месте тут нужно поставить «Материалы по истории франко-русских отношений за 1910–1914 гг.», сборник секретных дипломатических документов российского министерства иностранных дел, опубликованный в Москве в 1922 г., огромный том в 720 страниц, без которого отныне ни один историк, сколько нибудь достойный этого наименования, не вправе говорить о Европе перед войной 1914 г, (хотя издана эта книга довольно небрежно): это – вся переписка Извольского с Петербургом по всем коренным вопросам политики Антанты. Кое-что дают и цитируемые ниже четыре тома мемуаров Пуанкаре, которыми нужно пользоваться с осторожностью. Затем нужно назвать изданные в 1925 г. в Париже бумаги французского посла в Петербурге (с 14 июня 1912 г. по 20 февраля 1913 г.) Жоржа Луи[54]54
Что касается мемуаров самого Извольского, то они не дают в сущности ничего нового тому, кто ознакомится с указанными источниками.
[Закрыть]. Эти бумаги опубликованы журналистом Эрнестом Жюдэ, которому бумаги были отданы для издания вдовой Луи (Judеt Е. Georges Louis, Paris, 1925[55]55
Позже вышла книга Lоuis G. Les camels de Georges Louis, directeur des affaires politiques au Ministere des affaires etrangeres, ambassadeur de France en Russie, vol. 1–2. Paris, 1926.
[Закрыть]). Основываясь на этих источниках и привлекая некоторые другие (которые, однако, все являются несравненно менее ценными), постараемся определить сущность того, что происходило в Париже в 1911–1914 гг. в области внешней политики и, в частности, в кругу вопросов, связанных с франко-русским союзом.
Напомним прежде всего о внутреннеполитическом положении Франции в этот момент. Выборы 1910 г. дали большинство левобуржуазным течениям (радикалов и радикалов-социалистов было избрано в палату 252, примыкающих к ним «независимых социалистов» – 30, левых республиканцев – 93); правые партии и правый центр получили: консерваторы – 71 место, националисты – 17, прогрессисты – 60; наконец, объединенная социалистическая партия – 74 места. Правительственная власть в эти годы (1910–1914) находилась поэтому в руках министерств, которые в общем очень мало отличались друг от друга в области всех вопросов внутренней политики: собственно, главная разница в оттенках между ними заключалась тут в том, что одни (бывшие левее) говорили о радикальном подоходном налоге и других соответственных финансовых реформах, а другие об этом не говорили (или меньше говорили); ни те, ни другие никаких этих реформ не осуществляли. Да и не внутренняя политика стояла на первом плане. Внешняя же политика этих последних предвоенных министерств была неодинаковой. Некоторые из них больше отражали в этом смысле стремления колониальной партии, крупных финансистов (игравших во Франции ту же огромную роль в делах внешней политики, как в Германии крупные промышленники); другие были в большей степени выразителями мнений средней и мелкой буржуазии, настроенной осторожно и более миролюбиво. Но первое течение было сильнее, организованнее и с каждым годом брало верх; средств влияния и нужных ходов у него оказывалось в распоряжении гораздо больше. Среднюю и мелкую буржуазию можно было, кроме того, всегда встревожить угрозой распадения Антанты, концом дружбы с Россией; да и разбирались во внешней политике эти классы довольно смутно. Пресса, которую они читали и которая изо дня в день внушала им внешнеполитические воззрения, издавалась крупным финансовым капиталом и для нужд и целей крупного капитала. Вот почему, когда мы говорим о неодинаковости внешней политики французских кабинетов, управлявших страной в 1910–1914 гг., то имеем в виду больше оттенки, чем коренные отличия.
С 1909 г. во главе правительства стоял Бриан; после выборов он произвел некоторые видоизменения в своем кабинете (3 ноября 1910 г.) и продолжал править до 27 февраля 1911 г. После него управлял левее стоявший кабинет Мониса, и – тоже левее Бриана стоявший – кабинет Кайо (с 23 июня 1911 г.). 10 января 1912 г. Кайо ушел от власти. Против него поднялась уже тогда сильная оппозиция со стороны крупного капитала, боявшегося слишком радикальных мер в области подоходного обложения; но замечательно было то, что ему ставили на вид слишком дружественный и примирительный тон по отношению к Германии.
14 января 1912 г. сенатор Пуанкаре был призван к власти президентом республики Фальером. Ему было тогда пятьдесят два года, он давно уже был в парламенте, но до сих пор никогда не играл выдающейся роли. Он осторожно и лукаво лавировал между партиями в эпоху дела Дрейфуса и стал на сторону Дрейфуса только тогда, когда стало вполне ясно, что дрейфусары победят. Так же он вел себя и во время борьбы за отделение церкви от государства в 1903–1905 гг., и во всех вообще острых случаях. Одаренный большим и гибким умом, крайней настойчивостью и последовательностью в стремлениях к своим целям, осторожностью и предусмотрительностью и вместе с тем решительностью в критические моменты, большим хладнокровием и выдержкой, бесспорным даром слова, уменьем, где нужно, устрашением, где нужно, лаской и лестью действовать на окружающих, Пуанкаре никогда не колебался устранить своего противника, если тот обнаруживал упорство или вообще оказывался неудобен. (В этом смысле интересны появившиеся в 1925 г. воспоминания Шарля Эмбера «Chacun son tour», дающие понятие о том, каким недосягаемым «мастером» политической борьбы в случае надобности мог быть Пуанкаре.)
Он был страшный боец и выступил на арену в самый для себя благоприятный момент. Двенадцать лет подряд ему суждено было с тех пор влиять на Францию и Европу и после перерыва 1924–1925 гг. снова добиться полновластия в июле 1926 г. Что руководило этим человеком? Этот вопрос для нас, конечно, менее существенен, чем другой, – какие именно группы французского общества, какие классы нашли в нем своего представителя и выразителя своих стремлений? Во всяком случае нужно сказать, что строй его убеждений никогда не менялся сколько-нибудь заметно. Он долго ждал своего часа (не очень гонялся за портфелями)[56]56
Он побывал, к слову, министром финансов в 1906 г., когда Витте заключил заем в 2 1/4 миллиарда франков, давший возможность русскому правительству устроить разгон I Думы.
[Закрыть] и вышел на сцену только тогда, когда соотношение реальных сил в стране и парламенте сложилось в пользу представляемых им взглядов. Когда я только что отметил его осторожное лавирование между партиями и его нежеланно очень связывать себя в каком бы то ни было из острых вопросов, волновавших страну (вроде дела Дрейфуса или отделения церкви от государства), то я имел в виду не обыденный, столь часто встречающийся политический карьеризм, но нечто более сложное, в чем даже и враги не отказывали Пуанкаре.
Он всегда подчеркивал свое равнодушие к внутренней политике, ко всем вопросам внутренней политической борьбы, намеренно не хотел связывать себя вплотную ни с каким вопросом, разделявшим французское общество, поскольку этот вопрос не касался внешней политики. Конечно, он был «республиканцем», конечно, он стоял на точке зрения защиты буржуазной парламентарной республики от нападений как со стороны монархистов, так, в особенности, слева – со стороны социалистов, но как-то так выходило, что ни монархисты не питали к нему острой вражды, ни социалисты долго не видели в нем такого яростного врага, как, например, в Клемансо или в Мильеране. Они пошли на него решительным походом, когда выяснилось, куда клонится его внешняя политика, но никогда он не был ни в глазах Жореса, ни в глазах Реноделя или Леона Блюма, преемников Жореса по лидерству в социалистической партии, таким олицетворением социальной реакции или политики преследований, каким был, например, в 1906–1909 гг. или в 1917–1920 гг. Клемансо. Все партии знали, что Пуанкаре, если понадобится, пойдет навстречу любой из них так далеко, как не пойдет другой по всем вопросам внутренней политики, лишь бы ему не мешали бесконтрольно вести политику внешнюю. Вот почему, когда всесильные во Франции собственнические классы в самом широком смысле слова почувствовали себя под угрозой революционного взрыва после русской революции 1905 г. и усиления революционного синдикализма в Париже и других крупных центрах, то они выдвинули в качестве своего защитника Клемансо, а не Пуанкаре, который ни за что и не пошел бы в тот момент в первые министры, и не взял бы на себя роли «главного жандарма», «главного полицейского» (le premier flic de France), как называл с гордостью сам себя Клемансо. Этого дела, которому по существу он сочувствовал, делать своими собственными руками Пуапкаре не желал, хотя, конечно, социальный консерватизм был ему по душе. Он приберегал себя для другого момента[57]57
В 1926 г., в начале, вышли наделавшие много шума первые два тома мемуаров Пуанкаре: 1) Le lendemain d'Agadir – 1912 (Paris, 1926) и 2) Les Balkans en feu (Paris, 1926). Мемуары эти, конечно, очень неискренни, но полны интересных фактов. Третий том вышел в конце 1926 г. (L'Europe sous les armes). Четвертый том (L'Union sacree) – в 1927 г.
[Закрыть].
И вот, этот момент настал, когда в январе 1912 г. его позвали в Елисейский дворец и он вышел оттуда, облеченный званием первого министра. В 1912 г. собственнические классы уже не боялись социальной революции, да и вообще осложняющаяся общеевропейская обстановка повелительно приковывала к себе взоры и заслоняла собой все. Часть собственнических классов – мелкая буржуазия, пожалуй, почти вся средняя, т. е. большинство всей нации, потому что в мелкую буржуазию входило все собственническое крестьянство, – не желала войны; рабочий класс не желал войны (во Франции не было таких слоев в рабочем классе, которые склонялись бы к «энергичной» внешней политике, как то наблюдалось в Германии среди «рабочей аристократии»). Во Франции за энергичную внешнюю политику стояли руководители бирж и гигантских банков (правда, не все), колониальная партия (вся), крупные экспортеры, судовладельцы и масса профессий, материально связанных с колониями; стояли еще больше на стороне этой «энергичной политики» также крупные промышленники и больше всего, конечно, те, которые в своих непосредственных материальных интересах были связаны с милитаризмом: владельцы и акционеры оружейных и сталелитейных заводов, верфей и т. п. Весь этот крупный капитал, державший в своих руках почти всю читаемую прессу и могущественный в парламенте, и возложил на Пуанкаре все свои упования.
Помогало ему и раздражение французского мелкого ремесла против всепобеждающей германской конкуренции; помогала и заинтересованность всех слоев буржуазии и части крестьянства в русских займах, приводившая к тенденции поддерживать русский строй и дальнейшими займами к поощрению опасных внешних авантюр русской дипломатии, – хотя относительно последнего пункта мнения порой сильно расходились. Идея Пуанкаре именно и была представлена во Франции в таком обличии, чтобы не испугать сразу мелкую и среднюю буржуазию: «Мы – миролюбивы, но что же делать, если война неизбежна? Нужно, во-первых, вооружиться, во-вторых, запасаться союзниками и укреплять всеми мерами дружбу с ними». Правда, с некоторым беспокойством передавали, будто новый глава правительства в глубине души не видит возможности избежать войны; повторяли слова, вырвавшиеся будто бы у двоюродного брата Пуанкаре, великого математика Анри Пуанкаре, в первый момент, когда ему сообщили, что Раймон Пуанкаре стал первым министром: «Мой двоюродный брат – это война» (Мои cousin – e'est la guerre). Но с присущей ему осторожностью и ловкостью сам Пуанкаре избегал сколько-нибудь компрометирующих слов. Он предпочитал действовать; действия же его фатально не создавали и даже устраняли препятствия, какие могли бы помешать войне, хотя он не переставал усиленно подчеркивать свою преданность интересам мира.
Нужно заметить, что знаменитая кличка «Роіncare-Ia-Guerre» привязалась к нему еще до мировой войны. Инстинктивно чувствовалось, что новый правитель – ни в коем случае не есть новое препятствие к войне. Если бы в Елисейском дворце в 1914 г. был Фальнер, то войны не было бы, – так высказывался впоследствии Стефан Пишон.
Прежде всего Пуанкаре развязал руки Извольскому[58]58
Хотя он не доверял Извольскому и вообще его политика была несравненно осторожнее и сдержаннее, чем поведение Сазонова и Извольского.
[Закрыть]. Уже на другой день после своего вступления во власть, 15 января 1912 г., Пуанкаре посетил Извольского и «заверил в своем твердом намерении поддерживать с Россией самые тесные отношения и направлять внешнюю политику Франции». Тотчас после этого Извольский начал работать над трудным делом устранения французского посла Жоржа Луи из Петербурга: Жорж Луи был представителем мирной политики и довольно упорно сопротивлялся активным шагам русской дипломатии на Балканском полуострове. Он старался смягчить трения с Австрией и Германией и считался Извольским в числе ненадежных друзей франко-русского союза и Антанты. Действуя на Пуанкаре, Извольский успел подорвать служебное положение Жоржа Луи. Впрочем, и до последовавшей в конце февраля 1913 г. своей отставки Жорж Луи был бессилен бороться с Извольским, на стороне которого, казалось, находился сам председатель французского совета министров.