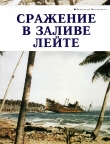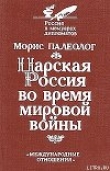Текст книги "Европа в эпоху империализма 1871-1919 гг."
Автор книги: Евгений Тарле
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 43 страниц)
5. Выступление Италии. Германские успехи летом 1915 г. Выступление Болгарии
Так окончательно конституировался блок четырех держав, на которых легла тяжесть борьбы с Антантой. Это число уже больше не увеличивалось до конца войны.
Когда кончался 1915 год, все эти четыре державы не только держались еще твердо, но повсюду они шли, казалось, от успеха к успеху. Германия держала в своих руках всю Бельгию и наиболее промышленные северные департаменты Франции. Колоссальные угольные богатства Бельгии, большая часть промышленности Франции были в ее руках[110]110
Занятые немцами (и удержанные в течение всей войны) французские департаменты имели огромное экономическое значение: они давали 94 % всего французского производства шерстяных материй, 90 % – полотняных, 60 % – хлопчатобумажных, 90 % – железной руды, 83 % – чугуна, 70 % – стали, 70 % ·– сахара, 55 % – угля, 45 % – электрической энергии. Ср. Tardieu A. L'Amerique en armes. Paris, 1919, стр. 278.
[Закрыть]. На востоке в их руках были вся русская Польша и часть Литвы и Белоруссии. На юге Австрия успешно отбивалась от итальянских очень нерешительных наступлений и сама переходила в наступление. Сербия поздней осенью 1915 г. и в начало зимы 1915–1916 гг. была вся занята австрийскими, германскими и болгарскими войсками, и ее армия (т. е. то, что уцелело от полного разгрома) была перевезена либо на о. Корфу, либо – позднее – на салоникский фронт, где удержались англо-французские войска (после неудачных попыток весной 1915 г. взять Константинополь с моря). Словом, казалось, германские успехи превзошли ожидания. И, однако, к началу 1916 г. даже и поверхностные наблюдатели германской жизни замечали недвусмысленную тревогу, постоянно отгоняемую и постоянно возвращающуюся тяжелую заботу в разнообразнейших слоях германского народа.
Во-первых (это нужно отметить с самого начала), уже на второй год войны в Германии ясно сообразили, что все союзники Германии держатся только немецкими силами, а самостоятельно не продержались бы и нескольких недель. Их необходимо было поддерживать финансовыми средствами, займами, бессрочными и беспроцентными кредитами при отпуске военного снабжения и т. д. Их приходилось подкреплять в решительные минуты собственными германскими войсками, чтобы предохранить от полного разгрома. При этом было известно (и союзникам Германии), что Антанта готова в каждый данный момент заключить мир, если не с Турцией, которую твердо решила разделить, то с Австрией и Болгарией, если только они пожелают отступиться от Германии. Это был опасный соблазн, и Германия должна была идти на все жертвы, чтобы ее союзники не поддались этому соблазну и не покинули ее.
Во-вторых, не только провалился план Шлиффена, но и безнадежно провалились все попытки оторвать Россию, Сербию или Бельгию от Антанты. Значит, предстояла неопределенно долгая война – война на истощение, т. е. такая, при которой к услугам Антанты был весь земной шар со всеми ресурсами, а в распоряжении Германии были только ее истощавшиеся запасы, а также еще более скудные запасы Австрийской империи (точнее, Венгрии и Чехии). Что касается Турции и Болгарии, то еще их приходилось поддерживать; речи не могло быть о материальной помощи с их стороны.
В-третьих, с конца 1915 г. стали очень болезненно давать себя чувствовать последствия морской блокады центральных империй. Британский флот почти всей своей массой занял южную часть Немецкого моря, преградил дорогу немецкому флоту, укрывшемуся в своих портах, и прекратил подвоз в Германию не только военной контрабанды, но и вообще чего бы то ни было. Это и было началом так называемой «голодной блокады», против которой Германия не переставала протестовать в течение всей войны. Правда, как сказано было выше, некоторые английские же фирмы благополучно сбывали товары в Германию через скандинавские страны, но очень существенно помочь всему германскому населению это, конечно, не могло. Германское правительство указывало, что эта блокада направлена против: мирного населения, против женщин и детей и т. д. Протесты успеха не имели. Германия в первые месяцы еще продолжала за огромные суммы скупать все, что только было возможно, из съестных припасов в Швеции, Норвегии, Дании, но англичане установили рационы (больше которых не пропускалось даже и в эти нейтральные страны) с таким расчетом, чтобы для перепродажи в Германию ничего не оставалось.
И все-таки, судя по вышеотмеченным разоблачениям генерала Консетта, ввоз в Германию из скандинавских стран продолжался. В 1914 г. и в первой половине 1915 г. «голодная блокада» не давала себя так жестоко чувствовать, как впоследствии. Только с конца 1915 г., а особенно в 1916, 1917, 1918 гг. германское население начало страдать от недоедания. Правда, с обычной своей способностью к организации, с обычной дисциплинированностью и выдержкой немцы тотчас же взяли на учет все свои средства, ввели карточную систему для продажи хлеба и съестных припасов, ввели ряд строгих ограничительных мер, но все это только отсрочило катастрофу, а не уничтожило ее причину. «Организованный голод», – так впоследствии определяли германские экономисты это время. В 1916–1917 гг. недоедание было в тылу; в 1917–1918 гг. оно начало кое-где ощущаться также на фронте. Конечно, была кучка спекулянтов, нажившихся во время общего бедствия и ни в чем не нуждавшихся; была рядом с нищетой вызывающая и раздражающая роскошь дельцов, финансистов, предпринимателей, успешно ловивших рыбу в мутной воде. Но громадное большинство страдало и терпело. Бедствие достигло грандиозных размеров лишь в 1917–1918 гг. Но уже с конца 1915 г. можно было предчувствовать, куда клонится дело.
6. «Голодная блокада». Продовольственная нужда в Германии. Начало недовольства и раздражения в рабочем классе. Отделение независимых социал-демократов от шейдемановцев. Циммервальд-Кинталь
Таковы были главные условия, которые смущали радость, не позволяли предаваться розовым надеждам, несмотря на все видимые военные успехи, внушали глухую тревогу широчайшим мелкобуржуазным слоям, да и средней буржуазии также. Что же касается рабочего класса, то в его среде изменение первоначального настроения было еще заметнее. Уже в 1915 г. левая часть социал-демократии начала поднимать голову; уже в 1915 г. позиция Шейдемана и его товарищей, все еще до поры, до времени крепкая, стала тем не менее подвергаться упорному, хотя пока отчасти и скрытому, систематическому подкопу и обходу. Кроме провала плана Шлиффена, кроме перспективы длительной и страшной бойни, начинающегося недоедания, тут действовало еще и то, что, несмотря на военную цензуру, в течение первого года войны в Германию просачивались постепенно сведения неофициального характера об обстоятельствах, непосредственно приведших к войне. Не только Карл Либкнехт, но и Гаазе и даже Бернштейн склонны были теперь совершенно отбросить официальную версию о нападении на Германию в августе 1914 г., о «состоянии законной самообороны» и т. д. Нужно сказать, что во Франции, в Англии, даже в Италии социалисты гораздо позже стали проявлять, в свою очередь, сомнения в абсолютной «невинности» их правительств.
Раздражение против шовинистской позиции громадного большинства социал-демократической партии сближало в эти годы людей, стоявших во всех других отношениях чуть не на диаметрально противоположных флангах. В конце мая 1915 г., например, Карл Либкнехт явился к Эдуарду Бернштейну с просьбой написать разъясняющую брошюру по вопросам внешней политики, чтобы бороться с дурманом, распространяемым цензурой, с одной стороны, и прессой (всей без исключения, в том числе социал-демократической), с другой стороны. Брошюра должна была быть напечатана нелегально. И осторожный, умеренный, законопослушный Бернштейн, отец ревизионизма, согласился[111]111
Bernstein Е. Die Wahrheit iiber die Einkreisung Deutschlands Berlin, 1919, стр. 3.
[Закрыть]. Но, конечно, борьба была неравная; это было время, когда партийное издательство («Vorwarts») печатало брошюры вроде книжки Лэнша, социал-демократа, обвинявшего только Англию в алчности, в завоевательских целях и т. д., но ни единым звуком не поминавшего при этом о каких бы то ни было грехах германского императорского правительства.
Уже 2 декабря 1914 г. Либкнехт с 19 товарищами по убеждению открыто разошелся с парламентской фракцией социал-демократии при голосовании новых военных кредитов[112]112
Первыми его поддержали Рюле, Гаазе, Ледебур, Штатгааген и Гойер.
[Закрыть]. 10 марта 1915 г. за ним последовал уже 31 человек, из 111 социал-демократов, которые числились в парламентской фракции. Правда, из них только 2 открыто голосовали против кредитов, остальные воздержались от голосования. В том же 1915 г., особенно к концу его, Либкнехт занялся вместе с Розой Люксембург агитацией против войны в нелегальных листовках, в которых он разоблачал руководителей большинства («социал-шовинистов») и всю игру руководителей финансового капитала, приведших Европу к войне. Но все-таки в 1915 г. еще сравнительно очень медленно нарастало движение против войны в Германии. В странах Антанты оно росло еще гораздо медленнее.
Первой попыткой организации в международном масштабе левых элементов социалистических партий на почве борьбы против войны следует считать международную социалистическую конференцию, созванную по инициативе итальянских социалистов и при участии Р. Гримма (редактора «Berner Tagwaht») в Циммервальде, близ Берна, в Швейцарии. По первоначальной мысли устроителей имелось в виду пригласить все партии и фракции, которые отвергали голосование за военные кредиты. Потом обнаружилась тенденция пригласить также не только левых, по и «центр» (Каутского, Гаазе и т. п.). Но фактически центр не принял участия в Циммервальдской конференции. Конференция происходила 5—12 сентября 1915 г.
Крайняя левая съезда была представлена Лениным, Хеглундом, Норманом, Винтером и еще 4–5 делегатами, по некоторым вопросам примыкавшими к ним. Это крыло желало решительной борьбы с большинством социалистических партий всех стран, поддерживавшим военные кредиты и отказывавшимся от протестов против войны.
Среднюю позицию, восторжествовавшую на Циммервальдском съезде, заняли главным образом румынский делегат Раковский, голландская делегатка Роланд-Гольст, швейцарский – Гримм, русские делегаты – Аксельрод и Мартов, два французских делегата – Мерейм (Merrheim) и Бурдерон, итальянские делегаты – Моргари, Модильяни, Лаццари, Серрати и 8 германских делегатов во главе с Ледебуром (остальные 2 германских делегата голосовали с левым крылом; германская делегация состояла в общем из 10 человек и была самой многочисленной).
Большинство это отказалось порвать со II Интернационалом и вообще обнаруживало стремление направить усилия на сближение с центром, с «каутскианцами», в том смысле, чтобы заставить центр занять более резкую и определенную позицию против войны. Циммервальдцы перед разъездом избрали «Международную социалистическую комиссию». Конференция приняла «Манифест», в котором упрекала социалистическое большинство в том, что оно (во всех воюющих странах) нарушило свой долг и обязательства, вытекавшие из решений предвоенных конгрессов партии; самая война определялась как империалистское предприятие, направленное к разделу земного шара и порабощению слабых сильными, т. е. капиталистами великих держав. Манифест протестовал также против идеи «гражданского мира» (Burgfrieden) во время войны и решительно высказывался против голосования военных кредитов.
Спустя полгода после Циммервальдского съезда, в феврале 1916 г. в Берне было собрано международное социалистическое совещание (циммервальдцов), и на нем германские делегаты сообщили, что они за истекшие полгода выпустили сотни тысяч нелегальных экземпляров циммервальдского манифеста и что кое-где им удалось организовать демонстрации против войны.
Совещание постановило созвать новую (вторую) конференцию в апреле 1916 г.
Сильное впечатление, но всем отзывам, производила, помимо манифеста, особая франко-германская декларация против войны, составленная французскими и германскими делегатами сообща. Эта декларация в период после Циммервальдской конференции сыграла большую агитационную роль, преимущественно в Германии.
Новая конференция собралась в Кинтале (в Швейцарии), как и предполагалось, 24–30 апреля 1916 г. От Германии явились делегаты, заявившие на этот раз, что в Германии возможно ожидать серьезного протеста рабочих масс против войны (в Циммервальде еще и речи об этом не было). Но французские и итальянские делегаты принадлежали почти сплошь к умеренному течению. В общем левое течение (во главе которого, как и в Циммервальде, стоял Ленин) осталось несколько более довольно результатами конференции в Кинтале, чем результатами Циммервальда, хотя главное требование левых (полный разрыв и решительная борьба против «социал-шовинистов», т. е. против II Интернационала) и не было принято. Важным успехом левого крыла было постановление о голосовании в парламентах против военных кредитов, прошедшее после двух выступлений: германского делегата Гофмана и французского – Бризона.
Вторая конференция возбудила в широких рабочих кругах Германии гораздо больше волнения и привлекла к себе несравненно больше внимания, чем Циммервальдская. Утомление от войны в 1916 г. было несказанно больше, чем в 1915 г. не только уже не верили в Германии в «восемь недель» войны, но и во Франции перестали верить, что после Марны немцы долго не продержатся. Страшные верденские и соммские бои, поглотившие немногим меньше жертв, чем их пало на западном фронте за все предшествующее время военных действий, тяжко сказались на психике народов. Даже в тех слоях рабочего класса, где склонны были учитывать выгоды от будущей победы, все шире и глубже распространялось убеждение, что эти надежды нелепы, что целые поколения еще будут работать, страдать и урезывать себя во всем, чтобы только залечить страшные раны и покрыть убытки, причиненные этой войной. То, что в эпоху Циммервальда возбуждало часто раздражение, в эпоху Кинталя и особенно после Кинталя выслушивалось либо с сочувствием, либо с неопределенным двойственным чувством. Мысль, что только революция может положить конец неслыханным ежедневным гекатомбам, переставала казаться бредовой фантазией Либкнехта, и ее начинали обсуждать как особую политическую формулу, которая завтра же может стать злободневной. «Если бы мы знали, мы бы в 1914 г. устроили революцию, – говорил впоследствии умеренный из умеренных Шейдеман. – Мы знаем, что эту войну нельзя выиграть, что рабочие все равно ее проиграют, в каком бы лагере они ни сражались». Эта идея в 1916 г. предвосхитила позднее и лицемерное сожаление Шейдемана. По настроениям рабочего класса во всей Европе 1916 год, год Кинталя, был более похож на 1918 год, год революции, чем на 1914 год, год рукопожатия и взаимных приветствий Вильгельма II и того же Шейдемана. Но вожди «левели» медленнее, чем большие рабочие массы.
Уже с 1915 г. группа Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Клары Цеткин, Франца Меринга, Пауля Ланге, Тальгеймера и др. не переставала, при страшно трудных условиях, вести пропаганду против войны и против политики социал-демократической партии. Нелегальные листовки, распространяемые этой «Группой Интернационала», проводили в 1915 г. идеи Циммервальда. В январе 1916 г. сложилась особая организация «Союз Спартака», деятельно продолжавшая под этим названием дело «Группы Интернационала», которую она заменила. Организация «Спартак» призвала рабочих 1 мая 1916 г. к демонстрации. Во главе манифестантов шел Карл Либкнехт, провозглашавший: «долой войну» – и бросавший в толпу листовки. Арестованный немедленно, он был приговорен военным судом к 2 1/2 годам каторги (вторая инстанция удлинила этот срок до 4 лет и 1 месяца каторги). В июле были арестованы Роза Люксембург (лишь незадолго до того выпущенная) и Меринг. Но брожение в рабочих кругах продолжалось и продолжалось в течение всего 1916 г. Демонстрации и стачки возникали то там, то сям.
7. Верденские и соммские бои. Наступление Брусилова. Присоединение Румынии к Антанте. Разгром Румынии
Так обстояло дело в Германии. Германские власти (и военные, и гражданские) не могли не учесть, что Циммервальд и Кинталь больше всего имели успех именно в Германии; что английских делегатов ни тут, ни там не было, и хотя объясняли это чисто внешними препятствиями, но все-таки факт отсутствия англичан бросался в глаза, и (что важнее всего) никаких признаков революционного протеста против войны и даже протеста, хотя бы только чисто демонстративного, в Англии не было пока, и то же самое замечалось во Франции[113]113
Хотя и во Франции, и в Англии стачечное движение вовсе не замерло даже в 1915–1916 гг. (о 1917–1918 гг. будет упомянуто дальше).
[Закрыть]. В том, что наступит революция в России, были твердо уверены и ждали ее с месяца на месяц. Но революция эта, с точки зрения Бетман-Гольвега, слишком запаздывала, а, между тем, обстоятельства слагались в 1916 г. далеко не так благоприятно, как в предшествующем. И это – вопреки ожиданиям, потому что еще в самые последние дни декабря 1915 г. Фалькенгайн, германский главнокомандующий (заменивший Мольтке, которого отставили после Марны), представил Вильгельму II доклад, в котором заявлял, что Россия и Сербия выведены из боя и что теперь большая победа над Францией, именно взятие крепости Верден, будет иметь такие военные и моральные последствия, что и Франция может пойти на мир. Помощник статс-секретаря по иностранным делам Циммерман высказывался в этом же смысле, и в обществе повторяли его слова.
Но именно с нападения на Верден и начались новые серьезные разочарования и неудачи. Бомбардировка Вердена началась 21 февраля 1916 г. ураганным, неслыханной силы, артиллерийским огнем, за которым, после 12 часов непрерывной канонады, последовал общий штурм крепости. Но штурм был отбит. Следующие дни, отмеченные многочасовой непрерывной канонадой, перемежающейся штурмами, принесли немцам некоторые серьезные успехи, но крепость держалась. Страшные бои с колоссальными потерями для обеих сторон длились до конца марта; решения все не было. В апреле и мае новые и новые штурмы стоили германской армии десятков тысяч жертв; в июне побоище продолжалось; форты, вынесенные за Верден, переходили из рук в руки. В разгаре этой отчаянной борьбы за Верден французы и англичане начали (22 июня) на громадном фронте битву на Сомме. Это был, собственно, ряд параллельных боев, длившихся весь конец июня, июль, август и половину сентября. 15 сентября, перед самым окончанием боев, союзники впервые двинули в дело танки, абсолютно до той поры неизвестные бронированные боевые машины, которым суждено было сыграть огромную роль в окончательном разгроме германских армий осенью 1918 г. Пока, в сентябре 1916 г., танки позволили союзникам одержать в самые последние дни соммских боев лишь несколько довольно важных частичных успехов.
К 19 сентября битва окончилась вследствие большого истощения обеих сторон. Соммские бои спасли окончательно Верден. 11 июля немцы сделали отчаянную попытку взять крепость и опять были отбиты. Две последние попытки (1 августа и 3 сентября) были гораздо слабое предыдущих: лучшие войска бились на Сомме. В конце сентября французы отбросили осаждающих от последних еще занятых ими фортов. Германское верховное командование решило тогда отказаться от мысли взять эту крепость. Фалькенгайн был отставлен, а его место было занято (29 августа 1916 г.) генералом Гинденбургом. Генерал-квартирмейстером при нем был назначен Людендорф, который фактически и руководил операциями.
Болезненно-сильное впечатление произвело в Германии это страшное побоище при Вердене, не давшее никаких результатов, кончившееся в сущности поражением после нескольких месяцев неслыханных усилий и неисчислимых жертв. И рабочие и даже часть буржуазии были, уже настроены не так доверчиво и благодушно, как в 1914–1915 гг. Спрашивали о том, почему была затеяна вся эта гибельная верденская операция, когда ведь именно для того был нарушен бельгийский нейтралитет в августе 1914 г. и этим навязана германскому народу на шею война с Англией, чтобы не идти на Париж через линию французских крепостей? Зачем же теперь нужно было в течение месяцев губить целые дивизии, чтобы в конце концов потерпеть полную неудачу при попытке взять одну из этих твердынь?
Гинденбург, которого Вильгельм лично не любил, был прямо навязан императору громким голосом «общественного мнения», ждавшего от старого генерала чудес на западном фронте, после того как на восточном ему удалось одержать победу над русскими войсками. Тревога по поводу Вердена и печального конца операции была тем сильнее, что к августу 1916 г. еще не вполне изгладилось впечатление, которое было произведено тем же летом на юго-восточном фронте внезапным наступлением Брусилова.
Это наступление очень поразило тогда и врагов и союзников. Гинденбург пишет в своих мемуарах, что он не разделял мнения тех, которые после страшных русских поражений 1915 г. полагали, что Россия надолго выведена из игры[114]114
Hindenburg. Aus meinem Leben. Leipzig, 1920, стр. 136.
[Закрыть]. Уже в марте 1916 г. начались упорные бои на северо-западном участке русского фронта (в местности у Нароча). Но тут русское наступление вскоре стало ослабевать и остановилось. События на итальянском фронте ускорили новое русское наступление. Еще 15 мая 1916 г. австрийцы начали движение между озером Гарда и рекой Брентой и после двух недель успешного наступления стали уже грозить Падуе и Венеции. Союзники (маршал Жоффр и итальянский главнокомандующий Кадорна) настоятельно просили Алексеева о помощи. Итальянский король телеграммой от 26 мая лично просил Николая II о том же. Вследствие этого, не дожидаясь условленного раньше общего наступления союзников, русские войска на юго-западном фронте начали 4 июня наступление под начальством генерала Брусилова. Наступление шло широким фронтом, австрийские позиции были прорваны в первый же день наступления на огромной пятидесятиверстной полосе. Некоторые австрийские части сразу были либо перебиты, либо взяты в плен. Австрийцы ударились в паническое бегство, так что генерал Фалькенгайн, тогдашний германский главнокомандующий, писал, что «первое время нельзя было и предвидеть, когда и где удастся австрийскую армию остановить». Фалькенгайн признает, что он и не воображал, что русская армия в силах до такой степени разгромить весь австрийский фронт. Наступление Брусилова шло, все развертываясь, фронт его – от Пипских болот до Черповиц – был громаден; Брусилов почти по всему этому фронту продвинулся вглубь на 60 километров.
Только усиленный подвоз на помощь Австрии германских подкреплений спас австрийцев (т. е. спас их от полной капитуляции и выхода из войны). Наступление Брусилова стало ослабевать лишь в июле – августе 1916 г. За время наступления он взял в плен 7757 офицеров и 350 845 солдат (а по позднейшим подсчетам Lonis Riviere, принимаемым генералом Базаревским, 420 тысяч пленных и около 600 орудий). Германские подсчеты дают меньшие цифры, но и они признают колоссальные размеры разгрома австрийцев. Дельбрюк, например, признает, что в одну только первую ночь наступления – 4 июня 1916 г. – русские взяли в плен 89 тысяч человек. Он категорически утверждает о брусиловских операциях, что «от этого удара центральные державы уже никогда не оправились»[115]115
Delbruck H. Ludendorff. Berlin, 1920, стр. 52.
[Закрыть].
Наступление Брусилова было толчком, заставившим выступить также Румынию. Переговоры с Румынией Антанта вела еще с самых первых дней войны, но еще в мае 1916 г. союзники точно не знали не только, когда выступит Румыния, но даже и на чьей стороне она выступает[116]116
Письмо Базили Сазонову. Ставка, 14/27 мая 1916 г.: «Нельзя быть уверенными, что немцы не сделают Братиано весьма заманчивых компенсаций за счет Австрии и, кроме того, за наш счет, а Братиано я не верю» («Царская Россия в мировой войне», стр. 216, № 121).
[Закрыть], так как если Антанта сулила ей в награду венгерскую Трансильванию, то немцы сулили ей Бессарабию.
Нужно сказать, что обстоятельства на театре военных действий к осени 1916 г. сложились так, что временное дальнейшее сохранение Румынией нейтралитета было бы для русской армии выгоднее, чем вступление Румынии в войну, обусловленное деятельнейшей обильной русской помощью людьми и снаряжением. «Никогда не стремился я привлечь румын к нашему союзу», – писал, между прочим, еще 6 августа генерал Алексеев. Но французы и англичане настаивали, желая еще более разгрузить западный фронт за счет восточного, так как было ясно, что немцы непременно должны будут обратиться против нового врага. Чего будет стоить русской армии поддержать слабую Румынию, это никого особенно не интересовало[117]117
Ср. «Кто должник», стр. 275–288.
[Закрыть].
28 августа (н. с.) 1916 г. Румыния выступила против Австро-Венгрии, и тотчас же новые хозяева германской армии Гинденбург и Людендорф начали усиленную переброску войск с западного фронта на восточный. Атаки Вердена были прекращены, битва на Сомме стала замирать. Все внимание обратилось на восток. После первых румынских успехов две германские армии, одна под начальством Макензена, другая под начальством Фалькенгайпа, быстро покончили с Румынией. Макензен вторгся в Добруджу и взял Тутракан (с 25-тысячным гарнизоном), а затем Силистрию (6–9 сентября 1916 г.). Фалькенгайн изгнал румын из занятой было ими части венгерской Трансильвании. 21 октября Макензен вошел в единственный большой румынский порт на Черном море Констанцу, где в его руки попали огромные запасы. После ряда новых успехов немцы 6 декабря 1916 г. вошли в Бухарест. Остатки румынской армии были отброшены к русской границе, король румынский Фердинанд укрылся в Яссах.
Почти одновременно Людендорф сделал попытку объявить «самостоятельность» русской Польши. Но как раньше воззвание к полякам великого князя Николая Николаевича (14 августа н. с. 1914 г.), так теперь эдикт германо-австрийских властей (5 ноября 1916 г.) не возбудили в Польше особого энтузиазма. Ни польская буржуазия, ни польская аристократия, ни польские рабочие, в массе своей, не поверили ни русским, ни германо-австрийским обещаниям. Чисто агитационная, военная цель этих актов была вполне ясна. Что Людендорф, например, рассчитывает устроить военный набор в Польше, надеясь именно на благодарность поляков за эдикт 5 ноября, – это в Польше было всем известно и возбуждало чувство, близкое к панике. В конце концов не только набор не состоялся, но германское командование впоследствии даже интернировало уже сражавшегося в германо-австрийских рядах Иосифа Пилсудского, начальника так называемого «польского легиона» (он был интернирован в Магдебурге, в июле 1917 г.).
Итак, 1916 год кончился новым триумфом для Германии. В ее руки попали обширные запасы хлеба, нефтяной бассейн, хотя и испорченный англичанами при отходе румынской армии, но все же частично впоследствии приведенный в пригодное состояние. Почти все румынское королевство было завоевано. И все-таки душа германского верховного командования – Людендорф, находился, по собственному своему позднейшему признанию, в очень и очень озабоченном состоянии. «С тяжелой тревогой» думал Людендорф в конце 1916 г. о том, что техническое превосходство армий Антанты будет все возрастать, что Россия будет получать новые и новые запасы из Японии, наконец, что вся немецкая хозяйственная жизнь «не соответствовала требованиям войны на истощение». Крайне тревожило его замечаемое в тылу «разложение» монархических чувств, утомление, раздражение. 21 октября 1916 г. Фридрих Адлер застрелил австрийского первого министра Штюргка, и этот поступок вызвал нескрываемое ликование среди рабочих. Выстрел Фридриха Адлера был протестом и против бесконечной бойни, и против чистейшего абсолютизма и деспотизма, представителем которого был граф Штюргк, и против позорного, по мнению Фридриха Адлера, поведения австрийской социал-демократии, и, даже, против тактики отца Фридриха Адлера старого Виктора Адлера. Мало есть на свете документов, полных такого внутреннего трагизма, как стенографический отчет о процессе Фридриха Адлера, вышедший в свет полностью лишь спустя семь лет после события[118]118
Adler F. Vor dem Ausnahmegerichl. Jena, 1923. 263 S.
[Закрыть].
Этот выстрел прозвучал, как грозное предостережение.
Постоянные победы, не приводящие, однако, к результату, бесконечная война, зловещие и упорные, всегда неизменные угрозы, доносящиеся из враждебного стана, недоедание и нехватка во всех предметах первой необходимости – все это действовало на тыл, особенно на рабочий класс. Лозунги Циммервальда и Кинталя были в конце 1916 г. гораздо популярнее, чем раньше, хотя, конечно, им еще далеко было до торжества.
А главный враг, гегемон неприятельских полчищ, Англия продолжала голодную блокаду, продолжала непрерывную высадку новых и новых сил во Франции, искала и поднимала новых и новых борцов против Германии в обоих полушариях. Немедленно мириться, пока еще Германия находится в положении победителя, или сокрушить Англию подводной войной – только в одном из этих двух исходов Людендорф и Гинденбург усматривали спасение.